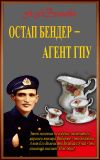Текст книги "Русский канон. Книги XX века"

Автор книги: Игорь Сухих
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 56 страниц)
Евангелие от Михаила. (1928—1940. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова)
…И погашаем
Светильники.
В прежней бездне
Безверия
Мы, —
Не понимая, что именно в эти дни и часы
Совершается
Мировая
Мистерия…
А. Белый. 1918
«А вам скажу, – улыбнувшись, обратился он к мастеру, – что ваш роман вам принесет еще сюрпризы».
Главный, последний, «закатный» роман Булгакова «Черный маг», «Копыто инженера», «Консультант с копытом», «Великий канцлер», «Князь тьмы», ставший в итоге «Мастером и Маргаритой», – писался тринадцать лет, ждал публикации двадцать шесть, читается уже больше тридцати.
За это время появились десятки изданий и переводов, сотни толкований и интерпретаций, тысячи книг и статей. Из них можно узнать много интересного и «интересного». Булгаков побывал борцом с тоталитаризмом и апологетом силы, апостолом гуманности и певцом дьявола, наследником великих классических традиций и самовлюбленным дюжинным фельетонистом, поклонником каббалы, масонства, гностицизма и тайным антисемитом и проч., и проч.
«Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продуманно, неизбежно и глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования» (X.-Л. Борхес. «По поводу классиков»).
По этому критерию книга уже стала классической: сама породила традицию, разошлась на афоризмы, стала для целого поколения культовой. Но у вещей с таким предельным ценностным статусом есть одно малоприятное свойство. Сквозь груды толкований все труднее пробиться к их исходному, изначальному смыслу. Особенно это касается романа причудливо-барочного, подмигивающе-загадочного, культурно-многослойного.
«Мастер и Маргарита» – роман-лабиринт. Скорее даже – три романа, три лабиринта, временами пересекающихся, но достаточно автономных. Так что идти по этому саду расходящихся тропок можно в разных направлениях, но оказаться в результате в одной точке.
Четыре главы последней редакции (вторая, шестнадцатая, двадцать пятая и двадцать шестая) – история одних суток весеннего месяца нисана, фрагмент Страстей Господних, исполненный булгаковской рукой.
Иешуа Га-Ноцри, Понтий Пилат, Левий Матвей, Иуда. Четыре персонажа «вечной книги», включая главного, становятся героями булгаковского повествования. Эти шестьдесят пять страниц (шестая часть текста) – смысловое и философское ядро «Мастера и Маргариты» и в то же время – предмет самой острой полемики, конфликта интерпретаций.
Предельный вариант «чтения в сердцах» выглядит примерно так: «Очевидно, М. Булгаков увлечен каким-то теософическим “экуменизмом”… Не только Иисус, но и Сатана представлены в романе отнюдь не в новозаветной трактовке… Но если у нас не остается никаких сомнений в том, что М. Булгаков исповедовал “Евангелие от Воланда”, необходимо признать, что в таком случае весь роман оказывается судом над Иисусом канонических евангелий, совершаемым совместно Мастером и сатанинским воинством» (Н. Гаврюшин).
Однако и просто ортодоксальный, догматический взгляд на эти булгаковские страницы превращает их во что-то легковесно-еретическое, лишает их собственного драматизма. «Иешуа Га-Ноцри… праведный чудак, крушимый трусливой машиной власти, подводит итоги всей “ренановской” эпохи и выдает родство с длинным рядом воплощений образа в искусстве и литературе XIX века» (С. Аверинцев). «Вставная повесть о Пилате у Булгакова… представляет собой апокриф, весьма далекий от Евангелия. Главной задачей писателя было изобразить человека, “умывающего руки”, который тем самым предает себя» (А. Мень. Сын человеческий).
Справедливо, что «Евангелие от Михаила» – апокриф, не совпадающий с официальным вероучением. Но, в отличие от отца Александра, смиренно предлагавшего очерк, который «поможет читателю лучше понять Евангелие, пробудить к нему интерес», автор «Мастера и Маргариты» вовсе не ставил такой цели. Булгаков строит, конструирует художественную реальность, сознательно отталкиваясь от канонических текстов. «Евангелие от Михаила» помнит о своих «родственниках» «от Матфея» и «от Иоанна», но использует их как материал, трансформирует в соответствии с собственными задачами. Фонетические замены привычных евангельских названий и имен (Ершалаим, Иешуа) – лишь внешний знак того обновления образа, которое нужно Булгакову в древних главах.
Иисус евангельский знал, откуда он пришел, кем послан, во имя чего живет и куда уйдет. Он имел дело с толпами, пророчествовал, проповедовал, совершал чудеса и усмирял стихии. Его страх и одиночество в Гефсиманском саду были лишь эпизодом, мгновением, понятным для смертного человека, но не для богочеловека. Но и здесь, как мы узнаем от Луки, его поддерживал ангел: «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22, 43).
Иешуа моложе своего евангельского прототипа и не защищен от мира ничем. Он совершенно одинок, не знает родителей («Родные есть? – Нет никого. Я один в мире»), имеет всего одного верного ученика, боится смерти («А ты бы меня отпустил, игемон… я вижу, что меня хотят убить»), ни одним словом не намекает на покровительство высших сил, а его проповедь сводится к одной-единственной максиме: человек добр, «злых людей нет на свете».
Однако, выстраивая свою версию биографии Иешуа Га-Ноцри, Булгаков сохраняет, удерживает самое главное. Пилатовскому демагогическому вопросу «Что есть истина?» в Евангелии от Иоанна предшествует объяснение Иисуса: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин. 18, 37).
Иешуа не просто свидетельствует. Он сам с его удивительной, внеразумной, вопреки очевидности, верой в любого человека (будь то равнодушно-злобный Марк Крысобой или «очень добрый и любознательный человек» Иуда) есть воплощенная истина. Потому-то он не подхватывает предложенный Пилатом иронический тип философствования, а отвечает просто и конкретно, обнаруживая уникальное понимание души другого человека: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти… Беда в том… что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей». Быть «великим врачом» – значит исцелять болезни не столько тела, сколько души.
Достоевский говорил: если ему математически докажут, что истина и Христос несовместимы, он предпочтет остаться с Христом, а не с истиной. Он же собирался воссоздать в «Идиоте» образ «положительно прекрасного человека», князя-Христа. Отзвуки этих замыслов и идей есть в «Мастере…». Иешуа «не сделал никому в жизни ни малейшего зла». Его простые истины производны от его личности.
Хотя Иешуа действует фактически лишь в одном большом эпизоде, его присутствие (или значимое отсутствие) оказывается смысловым центром всей булгаковской книги. Такой композиционный прием в более радикальном варианте был уже опробован в «Последних днях». В пьесе о Пушкине поэт ни разу не появляется на сцене. Но с его имени начинается афиша, список действующих лиц. И его присутствием, его стихами определяется все происходящее.
Переписывая на свой лад Писание и предание, корректируя его, Булгаков тем не менее сохраняет (причем во всех трех романах) его основной конструктивный принцип.
«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко Мне… Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» – рассказывал евангельский Матфей о въезде в Иерусалим (Мф. 21, 1—2, 6—9).
«Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим, через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
– У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал».
Так что эти «добрые люди», включая преданного Левия Матвея (Матфея), неверно записали и «все перепутали» не только в словах, но и в фактах. «Евангелие от Михаила» отменяет предшествующие свидетельства других евангелистов, но сохраняет их исходную установку: было именно так, как рассказано.
Не было родителей, жены, осла, множества учеников, ощущения избранности, чудесных исцелений и хождения по водам. Но странная проповедь, предательство Иуды, суд Пилата, казнь, страшная гроза над Ершалаимом – были.
«Вот теперь я знаю, как это было на самом деле», – будто бы сказала машинистка, перепечатывающая современную версию истории прекрасного Иосифа – роман Т. Манна «Иосиф и его братья». Булгаков раньше Манна и более последовательно идет по тому же пути – создает, «записывает» роман-миф (Б. Гаспаров), все события которого обладают – внутри художественного целого – статусом истинности, достоверности.
Только несчастный позитивист Берлиоз пытается доказать Иванушке, что никто из богов «не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса», и отождествляет «простые выдумки» и «самый обыкновенный миф». Да невольная виновница его гибели Чума-Аннушка наблюдает чудеса в виде вылетающих в окно незнакомцев.
Точка зрения текста формулируется в первой же главе Воландом: «А не надо никаких точек зрения, – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего… И доказательств никаких не требуется…»
Не надо никаких доказательств, было все, не только распятие Иешуа, но и шабаш ведьм, и большой бал сатаны в квартире № 50, и Бегемот с Коровьевым в «Грибоедове», и подписывающий бумаги костюм.
Граница между «было» и «не было», реальностью и вымыслом в художественном мире булгаковского романа отсутствует, подобно тому как она не существует в мифе, в поэмах Гомера, в сказаниях несущих благую весть евангелистов.
Булгаков не воссоздает миф (вариант Т. Манна), а создает его внутри своего романа. Однако выполнена эта булгаковская версия в совершенно необычной для канонических евангелий стилистической манере.
Э. Ауэрбах в книге «Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе» считал, что в основе литературы нового времени лежат два стилистических принципа, восходящих к Гомеру и Ветхому Завету: «Один – описание, придающее вещам законченность и наглядность, свет, равномерно распределяющийся на всем, связь всего без зияний и пробелов, свободное течение речи, действие, полностью происходящее на переднем плане, однозначная ясность, ограниченная в сферах исторически развивающегося и человечески проблемного. Второй – выделение одних и затемнение других частей, отрывочность, воздействие невысказанного, введение заднего плана, многозначность и необходимость истолкования, претензии на всемирно-историческое значение, разработка представления об историческом становлении и углубление проблемных аспектов». Специально о Новом Завете замечено: «Чувственно наглядное здесь – не следствие сознательного подражания действительности и потому редко достигает выражения; оно проявляется только потому, что тесно увязывается с событиями, о которых рассказывается, тогда оно раскрывается в жестах и словах внутренне затронутых людей, – но авторы нисколько не озабочены тем, чтобы придать чувственно-конкретному определенную форму».
В булгаковской истории Иешуа библейские претензии на всемирно-историческое значение, психологические многозначность и недоговоренность соединены с тщательно проработанным передним планом, законченностью и наглядностью, равномерно распределенным и ярким светом.
Пока Иешуа и Пилат ведут свой вечный спор, пока решаются судьбы мира, движется привычным путем солнце (невысокое, неуклонно подымающееся вверх, безжалостный солнцепек, раскаленный шар – всего во второй главе оно упоминается двенадцать раз), бормочет фонтанчик в саду, чертит круги под потолком ласточка, доносится издалека шум толпы. В следующих евангельских главах появляются все новые живописные детали: красная лужа разлитого вина, доживающий свои дни ручей, больное фиговое дерево, которое «пыталось жить», страшная туча с желтым брюхом.
Четкая графика евангельской истории с минимумом «чувственно наглядного» у Булгакова раскрашена и озвучена, приобрела «гомеровский» наглядный и пластический характер. Роман строится по принципу «живых картин» – путем фиксации, растягивания и тщательной пластической разработки каждого мгновения. В булгаковской интерпретации это бесконечно длинный день, поворотный день человеческой истории.
Не случайно внутрироманный автор романа о Пилате определяет свой дар так: «Я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь». Не рассказывать, а описывать, рисовать, изображать…
«Мастер и Маргарита» – роман не испытания идеи (как, скажем, у Достоевского), а живописания ее.
В этой, по видимости, объективной пластике незаметно формируются символические мотивы: беспощадное солнце трагедии, обманное мерцание луны, при которой совершается убийство предателя, кровавая лужа вина, багровая гуща бессмертия, страшная туча как образ апокалипсиса, вселенской катастрофы.
Смыслом объективно-живописной, остраненно-драматической картины становятся все те же вечные вопросы, но опять-таки в булгаковской художественно-еретической аранжировке.
Булгаковский Иешуа – не Сын Божий и даже не Сын Человеческий. Он – сирота, человек без прошлого, самостоятельно открывающий некие истины и, кажется, не подозревающий об их, этих истин, и о своем будущем.
Он гибнет потому, что попадает между жерновами духовной (Каифа и синедрион) и светской (Пилат) власти, потому, что люди любят деньги и за них готовы на предательство (Иуда), потому что толпа любит зрелища, даже если это – чужая смерть. Огромный, сжигаемый яростным солнцем мир равнодушен к одинокому голосу человека, нашедшего простую как дыхание, прозрачную как вода истину.
В обозримом Ершалаимском пространстве романа на проповедь Иешуа откликаются лишь двое – сборщик податей, бросивший деньги на дорогу и ставший его единственным учеником, и жестокий прокуратор, пославший его на смерть.
Левия Матвея часто представляют ограниченным фанатиком, не понимающим Иешуа, искажающим его идеи («Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил»). Почему же тогда, как становится известно в финале, он заслужил свет?
Приведенные слова Иешуа метят скорее в Матфея и других евангелистов и связаны с булгаковским представлением об истине личности, не вмещающейся в любые «изречения» и проповеди. На самом деле Левий Матвей – образ бесконечной преданности, самоотверженности, любви и веры (такой же фанатичной и безрассудной, как любовь и вера Маргариты). Бывший сборщик податей сжигает за собой мосты и безоглядно идет за учителем, записывает каждое его слово, готов любой ценой спасти Иешуа от крестных мук, собирается мстить предателю Иуде. Как Маргарита, ради любимого ставшая ведьмой, Левий Матвей из-за Иешуа не боится вступить в схватку с самим Богом: «Проклинаю тебя, Бог!.. Ты бог зла!.. Ты не всемогущий Бог. Ты черный бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!»
В первом романе Левий Матвей выделен даже композиционно: его глазами, «единственного зрителя, а не участника казни», мы видим все происходящее на Лысой Горе, роль Левия Матвея в древней фабуле в чем-то аналогична роли мастера. Он – первый свидетель, пытающийся рассказать, «как все было на самом деле». Он делает свои «логии» даже во время казни: «Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой Горе, а смерти все нет!.. Солнце склоняется, а смерти нет». Единственная его просьба при свидании с Пилатом касается куска чистого пергамента. Закономерно, что он оказывается посредником в переговорах Иешуа с Воландом о судьбе Мастера, оставаясь все тем же фанатичным учеником, самым непримиримым и враждебным к духу зла: «Я не хочу, чтобы ты здравствовал, – ответил дерзко вошедший».
С Пилатом в роман, напротив, входит тема трусости, душевной слабости, компромисса, невольного предательства.
Зачем мастеру (и Булгакову) понадобился прокуратор? Ведь в кругу канонических образов есть персонаж, в связи с которым та же тема могла быть обозначена с не меньшим успехом, не вызывая в то же время упреков в симпатиях автора к власти и заигрывании со злом («Иешуа Га-Ноцри интересует мастера меньше, нежели Пилат, сын короля-звездочета, еще меньше интереса вызывает в Булгакове философия добра, в ней реальный автор реального романа изверился прежде всех… Иешуа, как и мастер, прежде всего спасает сильных мира сего, прежде всего – палачей». – К. Икрамов).
Апостол Петр, первый ученик, тоже трижды предает Христа, отрекаясь от него. (Кстати, чеховский рассказ «Студент», в котором история Петра непосредственно сопоставлена с современностью и возникает образ невидимой цепи времен, можно счесть структурным аналогом булгаковского романа – но в лапидарной лирической транскрипции.)
Различие между сходными поступками, однако, велико. Петр – обычный слабый человек, он испытывает давление обстоятельств, его жизни угрожает непосредственная опасность. В случае с Пилатом эти внешние причины отсутствуют или почти отсутствуют (намек на страх перед императором все-таки есть в тексте). Пилат, в отличие от Петра, может спасти Иешуа, он даже пытается это сделать, но робко, нерешительно – и в конце концов умывает руки (в романе, в отличие от Евангелия от Матфея, этот жест, впрочем, отсутствует), сдается.
Автора романа «Мастер и Маргарита» обычно сравнивают, почти отождествляют с мастером (даже – с Мастером), к чему еще придется вернуться. Но он – не только мастер. Автор всегда больше любого героя и в то же время может оказаться любым из них.
В замечательном письме П. С. Попову 14—21 апреля 1932 года (идет работа над второй редакцией – «Консультант с копытом») Булгаков признается: «В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. Не будь их, не было бы разговора о Монахе (речь идет о повести Чехова “Черный монах”, который воспринимается Булгаковым как символический вестник смерти. – И. С.), и самое солнце (и здесь, как в романе, солнце. – И. С.) светило бы по-иному, и сочинял бы я, не шевеля беззвучно губами на рассвете в постели, а как следует быть, за письменным столом.
Но теперь уже делать нечего, ничего не вернешь. Проклинаю я только те два припадка нежданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть: эта робость была случайна – плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет».
Биографы ищут и находят эти роковые ошибки в булгаковской жизни. Одной из них мог быть телефонный разговор со Сталиным 18 апреля 1930 года, в котором писатель выразил желание встретиться и поговорить с вождем о важных проблемах; разговор так и не состоялся.
Интереснее, однако, другое. «Роковая ошибка», «обморок робости» – такие определения вполне можно отнести к булгаковскому Пилату. Личная тема сублимируется и воплощается во вроде бы абсолютно далеком от автора персонаже.
После выкрика на площади («Все? – беззвучно шепнул себе Пилат, – все. Имя!»), спасающего Вар-раввана и окончательно отправляющего на казнь Иешуа, «солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист».
Это не только воющая толпа, но – голос бездны, тьмы, «другого ведомства», торжествующего в данный миг свою победу. Потом можно убить предателя (в эпизоде с Иудой реализуется скорее не евангельское «подставь другую щеку», а ветхозаветное «око за око»), как в зеркале увидеть свою жестокость в поступках подчиненного («У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите…»), спасти ученика Иешуа («Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет») – можно творить сколько угодно добра, но случившееся небывшим сделать уже не удастся.
Оправдание есть – утешения нет. И его не будет две тысячи лет.
Не торжество силы, а ее слабость, роковая необратимость каждого поступка – вот что такое булгаковский Пилат.
Искупить совершённое невозможно, его лишь можно, если удастся, забыть. Но всегда найдется кто-то с куском пергамента. Он запишет, и записанное останется. И даже если рукописи сгорят, все останется так, как было записано.
Ершалаимский роман пришит к современности тремя стежками. Начало рассказывает Берлиозу с Бездомным Воланд. Казнь грезится в сумасшедшем доме Иванушке. Две главы об убийстве Иуды и встрече Левия Матвея с Пилатом читает по чудесно восстановленной Воландом рукописи Маргарита. Но рассказчик, визионер, прекрасная и верная читательница объединены общей мотивировкой: они опираются на роман мастера, который угадал то, что было на самом деле.
Сожженный роман словно висит в воздухе, присутствует в атмосфере, проникает в сознание разных персонажей. Причем он больше того, что нам суждено прочитать (Воланд возвращает из небытия «толстую пачку рукописей»). И закончится он уже в ином пространстве-времени, прямо на наших глазах.
Роман Мастера, ершалаимская история строится, в сущности, по законам новеллы – с ограниченным числом персонажей, концентрацией места, времени, действия: встреча Пилата с Иешуа, суд – казнь Иешуа – убийство Иуды – встреча Пилата с Левием Матвеем. Романными здесь оказываются, в сущности, лишь живописность, детализация, тщательность и подробность повествования.
Московский хронотоп, тоже сконцентрированный во времени (всего четыре дня), напротив, битком набит людьми и событиями. Из 510 персонажей «Мастера и Маргариты» (по другим подсчетам – 506) в древних главах упоминается менее полусотни. Все остальные – современники Булгакова плюс Воланд со своей свитой и посетителями «великого бала».
В московском пространстве сосуществуют два романа (даже в творческой истории «Мастера…» они не синхронизированы): дьяволиада и роман о мастере, рассказ о его творчестве, трагедии, любви.
В изображении публики на сеансе в варьете и посетителей Дома Грибоедова – Варенухи, Римского, Лиходеева, Чумы-Аннушки и маленького иуды Алоизия Могарыча – Булгаков погружается в фельетонную стихию. Здесь много совпадений с его собственными ранними текстами, с современниками (Ильф и Петров, Зощенко), с сатирической линией русской классики (Гоголь, Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин, Чехов). Откровенный площадной комизм многих московских сцен вызвал неприятие уже у первых читателей (хотя другими был воспринят с энтузиазмом). Строгий В. Шаламов в 1966 году (видимо, прочитав лишь половину текста) увидит в «Мастере…» «среднего уровня сатирический роман гротеск с оглядкой на Ильфа и Петрова. Помесь Ренана или Штрауса с Ильфом и Петровым». Закончит дневниковую запись автор «Колымских рассказов» совсем жестко: «Булгаков никакой философ».
Взгляд – но «от обратного» – точный и небезосновательный. Булгаков не философствует. Он живописует, описывает, изображает. Чисто идеологические споры занимают в романе ничтожно малое место (по сравнению, скажем, с бесконечными философскими диспутами героев Достоевского или Т. Манна или даже оживленными перепалками персонажей идеологических повестей Чехова). Философия в романе сжимается до максимы, афоризма. Десятка полтора из них – от «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» до «Все будет правильно, на этом построен мир» – сразу же ушли в язык, стали «народной мудростью», как когда-то речения Крылова или Грибоедова.
В московской дьяволиаде еще более, чем в ершалаимских главах, проявляется булгаковское предпочтение «описаний, придающих вещам законченность и наглядность», – «воздействию невысказанного, многозначности и необходимости истолкования». Не только главы «Было дело в Грибоедове», «Черная магия и ее разоблачение», «Великий бал у сатаны» но и большинство других строятся по принципу «колеса обозрения»: по страницам романа проносится какой-то шутовской хоровод, в котором каждый персонаж дан по-театральному броско, резко, однозначно и смачно, иногда с помощью одного эпитета или просто фамилии. «Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердаки и маленький Денискин с гигантской Штурман Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках».
Здесь (на что, кажется, не обратил внимания Шаламов) не только меняется эмоциональная доминанта, но и строится иной, чем в ершалаимских главах, образ рассказчика. На смену сдержанному хроникеру, летописцу, объективному живописцу (в такой стилистике выдержан роман мастера) приходит суетливый репортер, собиратель слухов, карикатурист, напоминающий повествователя в «Бесах» или простодушного рассказчика Зощенко (кстати, можно увидеть и более конкретные связи между литературным балом у Достоевского и литературными главами «Мастера…»; есть в «Бесах» и городской пожар).
«Дом назывался “Домом Грибоедова” на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя – Александра Сергеевича Грибоедова. Ну владела или не владела – мы точно не знаем. Помнится даже, что кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было… Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из “Горя от ума” этой самой тетке, раскинувшейся на софе. А впрочем, черт его знает, может быть, и читал, не важно это!»
Между ершалаимской мистерией и московской дьяволиадой обнаруживается множество перекличек: мотивных, предметных, словесных (от палящего солнца и апокалипсической грозы до реплики: «О боги, боги мои, яду мне, яду!..»). Ершалаим и Москва не только зарифмованы, но и противопоставлены в структуре «большого» романа. В древнем сюжете нет Воланда, хотя он, смущая души Берлиоза и Бездомного, говорит, что присутствовал в Ершалаиме «инкогнито» (как гоголевский ревизор из Петербурга!). Дьяволу нет места на страницах романа Мастера, там ничего еще не решено.
В Москве же правит бал «другое ведомство». Здесь часто поминают черта (Булгаков даже с некоторой назойливостью реализует словесное клише: «черт возьми» – и черт берет), но Иисуса считают несуществующей галлюцинацией: «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге». Естественно, на освободившемся месте появляются не только мелкие бесы, но и сам сатана.
Образ Воланда у Булгакова, вероятно, еще больше, чем Иешуа, далек от канона и культурно-исторической традиции (Гете, Гуно и пр.). «Заметим: нигде не прикоснулся Воланд, булгаковский князь тьмы, к тому, кто сознает честь, живет ею и наступает… Работа его разрушительна – но только среди совершившегося уже распада» (П. Палиевский).
Действительно, булгаковский сатана не столько творит зло, сколько обнаруживает его. Как рентгеновский аппарат, он читает человеческие мысли и проявляет таящиеся в душах темные пятна распада. Несчастного Берлиоза, кроме случайности, губят гордыня и тотальное, циничное безверие («Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не прошу»). Лишь когда все уже будет поздно, на мертвом лице Маргарита вдруг увидит «живые, полные мысли и страдания глаза». Единственным убитым, оставленным воинством Воланда в Москве, окажется барон Майгель, современный Иуда. Все остальные отделываются сильным испугом и неприятными воспоминаниями. А кое-кто даже становится лучше, как Варенуха, приобретший «всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди театральных администраторов, отзывчивость и вежливость» («Но зато и страдал же Иван Савельевич от своей вежливости!»), или председатель акустической комиссии, оказавшийся замечательным заведующим грибнозаготовительного пункта.
В «Мастере и Маргарите» Воланд, оставаясь оппонентом Иешуа, в сущности, играет роль чудесного помощника из волшебной сказки или благородного мстителя из народной легенды – «бога из машины», спасающего героев в безнадежной ситуации. «Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше надежды у меня нет. Но я хочу вам сказать, что, если вы меня погубите, вам будет стыдно! Да, стыдно! Я погибаю из-за любви!» После этого признания Азазелло и напоминания о стыде Маргарита не губит душу, а спасает любимого.
Позвольте, а как же колдовская черная месса, шабаш ведьм, дьявольские игрища…
Булгакова одинаково нелепо представлять как поклонником «сатанинской литургии» и масонских обрядов, так и борцом с колдовством и ересями, вроде авторов «Молота ведьм» (книга, которую писатель, вероятно, знал). С таким же успехом его можно объявить огнепоклонником (пожары занимают много места в романе) или преследователем котов (приводя как аргумент страницы эпилога).
И здесь Булгаков прежде всего писатель, а не тайный сектант или проповедник. Инфернальный слой романа привлекает его как материал, из которого извлекаются сюжетные и изобразительно-живописные возможности. Если искать здесь какие-то аналогии, то они – в гоголевском «Вие» и традициях романтической чертовщины и дьяволиады.
Я. Шпренгер и Г. Инститорис, авторы «Молота ведьм», и другие искоренявшие ереси серьезные люди утверждали, что на своих шабашах ведьмы отрекались от Бога и святых, наступали на крест, пожирали жаб, печенки и сердца некрещеных детей, поклонялись предъявляемой дьяволом огромной красной моркови, устраивали ужасные оргии. Булгаковский шабаш ограничивается захватывающим чувством полета, катанием Наташи на борове, купанием в реке, танцем вокруг костра, комическим выяснением отношений с напившимся коньяка козлоногим толстяком.
На какие-либо кощунства здесь нет и намека. Все разрушительные инстинкты Маргариты ограничиваются погромом в квартире ненавистного критика Латунского. Успокаивает ее как раз голос испуганного ребенка. Воспаленные жуткие бредни инквизиторских трактатов Булгаков заменяет легкой иронией и прозрачной лирикой, напоминающей атмосферу андерсеновских сказок или ранних гоголевских повестей. «Под ветвями верб, усеянными нежными, пушистыми сережками, видными в луне, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках перед музыкантами, освещали ноты, на лягушачьих мордах играл мятущийся свет от костра.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.