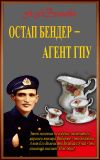Текст книги "Русский канон. Книги XX века"

Автор книги: Игорь Сухих
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 42 (всего у книги 56 страниц)
С одной стороны, в сборнике становится больше очерков, причем пространных («Как это началось», «Курсы», «В бане», «Зеленый прокурор», «Эхо в горах»).
С другой – новеллистика перестает выдавать себя за документ, обнаруживая свою литературность. В «Берды Онже» рассказывается «анекдот, превратившийся в мистический символ», с прямой отсылкой к тыняновскому «Подпоручику Киже»: конвойные запихивают в вагон почти не говорящего по-русски туркмена только потому, что они приняли кличку одного из воров за самостоятельную фамилию; под этой кличкой несчастный Тошаев и отбывает лагерный срок.
В новелле «Первый зуб», по материалу вроде бы абсолютно документальной (речь идет о столкновении рассказчика с конвоем, защите невиновного, первом избиении, усвоении одного из законов арестантской жизни – «в лагере каждый учится отвечать сам за себя»), в конце обнажается прием: рассказчик («я»), оказывается, слушает уже написанный рассказ другого героя, Сазонова, и обсуждает с ним три варианта концовки.
О литературном подтексте «Протезов» уже говорилось. Но в книге есть еще и гротескный «Калигула» с заключительной цитатой из Державина, и драматический «РУР» с сопоставлением рабочих роты усиленного режима с «чапековскими роботами из РУРа», и контрапунктом времен (как в «Припадке»). «Впрочем, кто из нас думал в тридцать восьмом году о Чапеке, об угольном Руре? Только двадцать – тридцать лет спустя находятся силы на сравнения, в попытках воскресить время, краски и чувство времени».
«Погоня за паровозным дымом» и «Поезд», завершающие третью книгу, – это уже непосредственно рассказы о возвращении из мира Колымы «на материк» (так говорили в лагере), туда, где можно подумать о Чапеке, вспомнить Тынянова, обсудить варианты написанного на бумаге рассказа (бумага в лагере – почти преступление), очнуться на чистой постели в присутствии врача и медицинской сестры.
Новеллы строятся как калейдоскоп эпизодов-сценок на последнем этапе дороги к дому: хождение по колымским чиновничьим лабиринтам уже вольнонаемного фельдшера – мучительная сдача дел – прорыв на самолете в Якутск («Нет, Якутск еще не был городом, не был Большой землей. В нем не было паровозного дыма») – иркутский вокзал – книжный магазин («Подержать книги в руках, постоять около прилавка книжного магазина – это было как хороший мясной борщ… Как стакан живой воды») – последняя встреча с блатными (впервые один из них оказывается человеком и помогает незнакомому фраеру) – переполненный вагон с колоритными соседями и забавными бытовыми сценками: мир в дороге, Россия в вагонах, российское половодье.
«Все это: и резкий свет лампы на Иркутском вокзале, и спекулянт, везущий с собой чужие фотографии для камуфляжа, и блевотина, которую извергала на мою полку глотка молодого лейтенанта, и грустная проститутка на третьей полке купе проводников, и двухлетний грязный ребенок, счастливо кричащий «папа! папа!» – вот это все и запомнилось мне как первое счастье, непрерывное счастье воли.
Ярославский вокзал. Шум, городской прибой Москвы – города, который был мне роднее всех городов мира. Остановившийся вагон. Родное лицо жены… Я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада».
В «Артисте лопаты» сквозной сюжет колымских рассказов, в сущности исчерпан. Но заторможенная память прикована к Колыме, как каторжник к тачке. Бесконечное мучительное воспоминание порождает новые тексты, которые чаще всего оказываются вариациями уже написанного.
«Воскресение лиственницы», как обычно, начинается с лирико-символических «Тропы» и «Графита». Мотив первой новеллы (проложенная в тайге собственная тропа, на которой хорошо писались стихи) напоминает «По снегу». Тема «Графита» (бессмертие колымских мертвецов) уже мощно прозвучала в новелле «По лендлизу». Заключающее сборник тоже символическое «Воскресение лиственницы» отсылает к «Стланику». «Облава» вырастает из «Тифозного карантина». «Храбрые глаза» и «Безыменная кошка» возобновляют мотив жалости к животным, встречавшийся в «Суке Тамаре». «Марсель Пруст» кажется более прямолинейной вариацией «Сентенции»: изображенное там всего лишь названо здесь. «Я, колымчанин, зэка, был перенесен в давно утраченный мир, в иные привычки, забытые, ненужные… Калитинский и я – мы оба вспоминали свой мир, свое утраченное время».
В «Воскресении лиственницы» Шаламов исповедует принцип, сформулированный им на примере Пруста: «Перед памятью, как перед смертью, – все равны, и право автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценности госпожи».
«Написать ли пять рассказов, отличных, которые всегда останутся, войдут в какой-то золотой фонд, или написать сто пятьдесят – из которых каждый важен как свидетель чего-то чрезвычайно важного, упущенного всеми, и никем кроме меня, не восстановимого», – формулирует Шаламов проблему после завершения «Артиста лопаты» («О моей прозе»). И, судя по всему, выбирает второй, экстенсивный вариант.
В «Перчатке, или КР-2» продуманная композиция первых книг исчезает совсем. Большая часть вошедших в сборник текстов – очерки-портреты колымских заключенных, начальников, врачей или физиологические срезы лагерной жизни, опирающиеся уже не столько на воображение и память, сколько на память о своих прежних текстах (не нужно забывать, что все двадцать лет рассказы Шаламова не публикуются, и автор лишен возможности посмотреть на них со стороны, почти лишен обратной читательской реакции, лишен ощущения творческого пути). «Перчатка» – книга большой усталости. По структуре она аналогична не КР-1, а «Очеркам преступного мира». Отдельные тексты («Тачка 1», «Подполковник медицинской службы», «Уроки любви»), кажется, не дописаны, да и весь сборник остался незавершенным, в чем есть своя, уже не сознательно-художественная, а биографически-горькая символика.
«Не удержал усилием пера Всего, что было, кажется вчера. Я думал так: какие пустяки! В любое время напишу стихи. Запаса чувства хватит на сто лет – И на душе неизгладимый след. Едва настанет подходящий час, Воскреснет все – как на сетчатке глаз. Но прошлое, лежащее у ног, Просыпано сквозь пальцы, как песок, И быль живая поросла быльем, Беспамятством, забвеньем, забытьем…» – предугадал он еще в 1963 году.
Последняя работа Шаламова – уже чистые воспоминания о Колыме, с непреломленным авторским «я», линейной хронологической последовательностью, прямой публицистикой – оборвалась в самом начале.
Движение от «новой прозы, пережитой как документ» к просто документу, от новеллы и поэтической структуры к очерку и бесхитростному мемуару, от символа к прямому слову открывает и некоторые новые грани «позднего» Шаламова. Можно сказать, что автор «Воскрешения лиственницы» и «Перчатки» становится одновременно более публицистичен и философичен.
Постоянная метафора колымского «ада» развертывается. Шаламов вписывает его в культуру, находит ему место даже в гомеровской картине мира. «Мир, где живут боги и герои – это единый мир. Есть события, одинаково грозные и для людей, и для богов. Формулы Гомера очень верны. Но в гомеровские времена не было уголовного подземного мира, мира концлагерей. Подземелье Плутона кажется раем, небом по сравнению с этим миром. Но и этот наш мир – только этажом ниже Плутона; люди поднимаются и оттуда на небеса, и боги иногда опускаются, сходят по лестнице – ниже ада» («Экзамен»). С другой стороны, этот «ад» получает конкретно-историческую прописку: «Колыма – сталинский лагерь уничтожения… Освенцим без печей» («Житие инженера Кипреева»); «Колыма – спецлагерь, как Дахау» («Рива-Роччи»).
Однако эта уничтожающее для советской системы сравнение имеет свои границы. Шаламов навсегда сохранил в себе пафос и надежды ранних двадцатых годов. Он был впервые арестован за распространение так называемого «завещания Ленина» (письма с просьбой сменить Сталина), попал в лагерь с несмываемым клеймом «троцкист» (смотри «Почерк»), всегда с уважением вспоминал об эсерах и их предшественниках – народовольцах. До конца жизни он исповедовал идею преданной революции, украденной победы, исторически упущенной возможности, когда все еще можно было изменить.
«Что делает человека выше ростом? Время.
Рубеж века был расцветом столетия, когда русская литература, философия, мораль русского общества были подняты на высоту небывалую. Все, что накопил великий XIX век нравственно важного, сильного, все было превращено в живое дело, в живую жизнь, в живой пример и брошено в последний бой против самодержавия. Жертвенность, самоотречение до безымянности – сколько террористов погибло, и никто не узнал их имена. Жертвенность столетия, нашедшего в сочетании слова и дела высшую свободу, высшую силу. Начинали с “не убий” и “Бог есть любовь”, с вегетарианства, со служения ближнему. Нравственные требования и самоотверженность были столь велики, что лучшие из лучших, разочаровавшись в непротивлении, переходили от “не убий” к “актам”, брались за револьверы, за бомбы, за динамит. Для разочарования в бомбах у них не было времени – все террористы умирали молодыми…
Лучшие люди русской революции принесли величайшие жертвы, погибли молодыми, безымянными, расшатавши трон – принесли такие жертвы, что в момент революции у этой партии не осталось сил, не осталось людей, чтобы повести Россию за собой» («Золотая медаль»).
Свое поколение Шаламов включает в этот исторический ряд. «Это младшие братья, сыновья, дочери тех, чьими руками делалась революция. Люди, отставшие от времени по своему возрасту и пытавшиеся догнать время гигантским скачком, располагая только тем разрушительным оружием, с которым шли в бой их отцы. Конечно, это была фантастика из фантастик, по жертвенности превосходящая поколение, делавшее революцию» (записная книжка 1971 г.).
Итоговая формула-афоризм найдена в поздних незаконченных воспоминаниях в главке с названием «Штурм неба»: «Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией… Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни».
Поздний Шаламов перестает настаивать на уникальности колымского опыта и страданий. Переход от больших масштабов к частной судьбе лишает возможности взвешивать боль. В «Воскрешении лиственницы» есть размышление о судьбе русской княгини, в 1730 году уехавшей с ссылку за мужем туда же, на Дальний Север. «Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе – ровесница Натальи Шереметевой-Долгоруковой и может напомнить о ее горестной судьбе: о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук тридцать седьмого года… Чем не извечный русский сюжет? Лиственница, которая видела смерть Натальи Долгоруковой и видела миллионы трупов – бессмертных в вечной мерзлоте Колымы, видевшая смерть русского поэта (Мандельштама. – И. С.), лиственница живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России – ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие».
До отчетливости формулы эта мысль доведена в антиромане «Вишера». «Лагерь не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни… Лагерь… – мироподобен».
Глава, где отчеканен этот афоризм, называется «В лагере нет виноватых». Но поздний Шаламов, просветленной памятью вглядываясь в этот слепок русской жизни, наталкивается и на другую, противоположную мысль: «Нет в мире невиновных».
Сквозной герой КР на втором витке лагерной судьбы тоже оказывается человеком, в руках которого – судьбы других. И его позиция жертвы и судьи внезапно трансформируется.
В «Смытой фотографии» грехопадение почти незаметно. Попав как доходяга в больницу и получив место санитара, на которого новые больные смотрят «как на свою судьбу, как на божество», Крист соглашается на предложение одного из них постирать гимнастерку («Ты будешь спать, а я постираю. Кусочек хлебца, а если хлеба нет, то так») – и лишается главной своей ценности, единственного письма и фотографии жены. «Так Крист был наказан судьбой. После зрелого размышления через много лет Крист признал, что судьба права – он еще не имел права на стирку своей рубашки чужими руками».
Превратившись в фельдшера, «истинное, а не выдуманное колымское божество», уже не Крист, а рассказчик начинает свою самостоятельную работу с того, что отправляет на общие работы несколько залежавшихся в больнице заключенных, кажущихся ему симулянтами. На следующий день в конюшне находят самоубийцу. «Заключенный Леонов не оставил письма. Труп Леонова увезли, чтобы привязать ему на левую ногу бирку с номером личного дела и зарыть в камни вечной мерзлоты, где покойник будет ждать до Страшного Суда или до любого другого воскресения из мертвых. И я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине, и жизни» («Вечная мерзлота»).
Экзистенциальное преломление этой темы Шаламов дает уже не на колымском материале, выстраивая сюжет на основе детских воспоминаний (упоминание о сходном эпизоде – но без всякого философского подтекста – есть в автобиографической «Четвертой Вологде»). В тихом провинциальном городе – три главных развлечения-зрелища: пожары, охота за белкой и революция. «Но никакая революция на свете не заглушает тяги к традиционной народной забаве». И вот громадная толпа, охваченная «страстной жаждой убийства», со свистом, воем, улюлюканьем преследует одинокую скачущую по деревьям жертву и, наконец, достигает цели. «Толпа быстро редела – ведь каждому было нужно на работу, у каждого было дело к городу, к жизни. Но ни один не ушел домой, не взглянув на мертвую белку, не убедившись собственными глазами, что охота удачна, долг выполнен. Я протискался сквозь редеющую толпу поближе, ведь я тоже улюлюкал, тоже убивал. Я имел право, как все, как весь город, все классы и партии… Я посмотрел на желтое тельце белки, на кровь, запекшуюся на губах, мордочке, на глаза, спокойно глядящие в синее небо тихого нашего города».
Ни в чем не виновен только этот мертвый зверек, а человек – все-таки виновен…
«Колымские рассказы» и «Архипелаг ГУЛАГ» писались практически одновременно. Два летописца лагерного мира внимательно следили за работой друг друга.
Шаламов и Солженицын дружно выступали против забвения, замалчивания реальной истории, против художественных поделок и спекуляций на лагерной теме и в своей работе преодолевали традицию «просто мемуаров».
Советская литература о лагерном мире была «литературой недоумения» (М. Геллер). Мемуаристы более или менее правдиво рассказывали, «что я видел», бессознательно или старательно обходя вопросы «как?» и «почему?», Шаламов и Солженицын, отталкиваясь от собственного опыта, пытались «угадать ход времени», найти ответ на «огромное, исполинское “почему”» («Первый чекист»), изменившее судьбу миллионов людей, всей огромной страны. Но их ответы не сходились почти ни в одном пункте.
Расхождения, ставшие особенно очевидными после публикации шаламовских писем и дневниковых записей, слишком велики и принципиальны, чтобы объяснять их мелкими бытовыми обстоятельствами.
Жанр своей главной книги Солженицын обозначил как «опыт художественного исследования». Последнее слово в определении все-таки важнее: художественность в «Архипелаге…» оказалась на посылках у концепции, документа, свидетельства. – Шаламовская «новая проза» (по замыслу, в принципе) преодолевала документ, переплавляя его в образ. Перефразируя Тынянова, автор КР мог бы сказать: я продолжаю там, где кончается документ.
Солженицын унаследовал от классического реализма середины XIX века веру в роман как зеркало жизни и литературную вершину. Его повествование масштабно и горизонтально. Оно стелется, развертывается, включает тысячи подробностей, пытаясь – опять-таки в принципе! – стать равновеликим предмету (карта Архипелага величиной с сам ГУЛАГ). Поэтому главный замысел Солженицына – «Красное колесо» – превратился в циклопическую, уходящую в бесконечность серию. Шаламов продолжает боковую линию суровой, лапидарной, поэтической прозы, представленную в начале и конце XIX века (Пушкин, Чехов) и далее в русском модернизме и прозе двадцатых годов. Его главный жанр – новелла, стремящаяся к четким границам, к вертикали, к сжатию смысла до всеобъясняющего эпизода, символа, афоризма.
Шаламов настаивал на уникальности Колымы как самого страшного острова Архипелага. – Солженицын вроде бы соглашается с этим в преамбуле к третьей части – «Истребительно-трудовые»: «Может быть, в “Колымских рассказах” Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния». Но в самом тексте (глава 4 той же части), утверждая, что в его книге почти не будет затронута Колыма, заслуживающая отдельных описаний, он ставит шаламовские тексты в ряд чистых мемуаров: «Да Колыме и “повезло”: там выжил Варлам Шаламов и уже написал много; там выжили Евгения Гинзбург, О. Слиозберг, Н. Суровцева, Н. Гранкина – и все написали мемуары», – и делает к этому фрагменту такое примечание: «Отчего получилось такое сгущение, а не-колымских мемуаров почти нет? Потому ли, что на Колыму действительно стянули цвет арестантского мира? Или, как ни странно, в “ближних” лагерях дружнее вымирали?» Вопрос, в поэтике называемый риторическим, предполагает положительный ответ. Исключительность Колымы для автора «Архипелага…» оказывается под большим сомнением.
Шаламов утверждал, что литература вообще и он в частности никого ничему не может и не хочет научить. Он хотел быть поэтом – и только, частным человеком, одиночкой. «Учить людей нельзя. Учить людей – это оскорбление… “Учительной” силы у искусства нет никакой. Искусство не облагораживает, не “улучшает”… Большая литература создается без болельщиков. Я пишу не для того, чтобы описанное – не повторилось. Так не бывает, да и опыт наш не нужен никому. Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-либо достойный поступок – не в смысле рассказа, а в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе» (записные книжки). – Проповеднический пафос писателя Солженицына очевиден во всем, что он делает: в книгах, в их «пробивании», в истории их публикации, в открытых письмах и речах… Его художественное послание изначально ориентировано на болельщиков, обращено к городу и миру.
Солженицын изображал ГУЛАГ как жизнь рядом с жизнью, как общую модель советской действительности: «Аргипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую страну, врезался в ее города, навис над ее улицами…» Он благословлял тюрьму за возвышение человека, восхождение (хотя в скобках добавлял: «А из могил мне отвечают: – Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!»). – Мир Шаламова – подземный ад, царство мертвых, жизнь после жизни, во всем противоположная существованию на материке (хотя логика образа вносила, как мы видели, существенные коррективы в изначальную установку). Этот опыт растления и падения практически неприменим к жизни на свободе.
Солженицын считал главным событием своей каторжной жизни приход к Богу. – Шаламов, сын священника, отмечая, что лучше всех держались в лагере «религиозники», ушел от религии еще в детстве и стоически настаивал на своей вере в неверие до последних дней». «Веру в Бога я потерял давно, лет в шесть… И я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к Его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме» («Четвертая Вологда»). «Я не боюсь покинуть этот мир, хоть я – совершенный безбожник» (записные книжки, 1978 год). В КР специально этой теме посвящен «Необращенный». Получив от сочувствующей и, кажется, влюбленной в него женщины-врача Евангелие, герой с трудом, причиняя боль клеткам мозга, спрашивает: «Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?» Пуанта новеллы дает другой, шаламовский ответ: «Я вышел, положив Евангелие в карман, думая почему-то не о коринфянах, и не об апостоле Павле, и не о чуде человеческой памяти, необъяснимом чуде, только что случившемся, а совсем о другом. И, представив себе это “другое”, я понял, что я вновь вернулся в лагерный мир, в привычный лагерный мир, возможность “религиозного выхода” была слишком случайной и слишком неземной. Положив Евангелие в карман, я думал только об одном: дадут ли мне сегодня ужин». Здесь другой мир. Пайка пока важнее неба. Но чудом, как в «Сентенции», оказывается возвращение «давно забытых слов», а не единственного Слова.
Солженицын показывал увлекающий характер даже подневольного лагерного труда – Шаламов изобличал его как вечное проклятье.
Солженицын обличал «ложь всех революций истории» – Шаламов сохранял верность своей революции и ее проигравшим героям.
Солженицын мерой вещей и в «Архипелаге…» выбирает русского мужика, «бесписьменного» Ивана Денисовича – Шаламов считает, что писатель обязан защитить и прославить прежде всего Иванов Иванычей. «И пусть мне не “поют” о народе. Не “поют” о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы поют, что интеллигенция перед кем-то виновата. Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией» («Четвертая Вологда»).
Одной из главных красок в художественной палитре Солженицына был смех – сатира, юмор, ирония, анекдот. – Шаламов считал смех несовместимым с предметом изображения. «Лагерная тема не может быть предметом для комедии. Наша судьба не предмет для юмористики. И никогда не будет предметом юмора – ни завтра, ни через тысячу лет. Никогда нельзя будет подойти с улыбкой к печам Дахау, к ущельям Серпантинной» («Афинские ночи»). Хотя странный смех в гомеопатитческих дозах проникает и в мир КР («Инжектор», «Калигула», история об укороченный брюках в «Иване Богданове»).
Даже в именовании главных героев своей прозы авторы КР и «Архипелага…» принципиально разошлись. «Кстати, почему “зэк”, а не “зэка”. Ведь это так пишется: з/к и склоняется: зэка, зэкою», – спрашивал Шаламов, прочитав «Ивана Денисовича». Солженицын ответил на это в «Архипелаге», как раз в насмешливо-иронической главе «Зэки как нация»: «Сокращенно стали писать: для единственного числа “з/к” (зэ-ка), для множественного – “з/к з/к” (зэ-ка зэ-ка). Это и произносилось опекунами туземцев очень часто, всеми слышалось, все привыкли. Однако казенно рожденное слово не могло склоняться не только по падежам, но даже и по числам, оно было достойным дитем мертвой и безграмотной эпохи. Живое ухо смышленых туземцев не могло с этим мириться… Оживленное слово начинало склоняться по падежам и числам». (А на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалось в разговоре зэ-ка. Остается пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо.)
Соответствие слова и писательской судьбы – не пустая вещь. Кажется, стиль и жанр прозы Александра Солженицына и Варлама Шаламова отразился в их судьбах. Автор «Архипелага ГУЛАГ» дожил, дождался, пережил, вернулся… Победителем?! – Колыма в конце концов догнала автора КР, его жизненный финал стал еще одним ее страшным сюжетом.
«Унизительная вещь – жизнь».
«Страдания не любят. Страдания никогда не будут любить».
Работая с этим неподъемным материалом, бесконечно говоря о растлении, смерти, зачеловечности, аде, он бережно собирает свои «крохотки»: улыбка женщины, спасительное направление врача, письмо с летящим почерком Пастернака, беззаботная игра безымянной кошки, встающая навстречу теплу зеленая лапа стланика.
«Кто-то помог, поднял, поставил на ноги. Где эти руки, где эти слова, сказанные, а может быть, и совсем не сказанные. Где тысячи безымянных рук, толкнувших с мороза в тепло, поднявших со сна, поддержавших за руку. Кто они? Крист об этом никогда не узнает» (записные книжки, так и не осуществленный сюжет).
Написанная уже после основного корпуса КР «Четвертая Вологда» заканчивается рассказом о выброшенных из своего дома, голодающих отце и матери. Их спасают жалкие деньги, которые посылает сменивший священника Тихона Шаламова на Аляске монах Иосиф Шмальц. «Зачем я это записываю? Я не верю ни в чудо, ни в добрые дела, ни в тот свет. Записываю просто так, чтобы поблагодарить давно умершего монаха Иосифа Шмальца и всех людей, с которых он собирал эти деньги. Там не было никаких пожертвований – просто центы из церковной кружки. Я, не верящий в загробную жизнь, не хочу оставаться в долгу перед этим неизвестным монахом».
Объявляя о своем неверии в Бога и черта, в историю и литературу, в жестокое государство и коварный Запад, в прогрессивное человечество и простого человека, в так называемую гуманистическую традицию, – он все же, кажется, верил в неизбывность страдания и воскрешение лиственницы.
«Послать эту жесткую, гибкую ветку в Москву.
Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она, воскресшая, запахнет Колымой, зацветет на московской улице, что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие; шестьсот лет жизни лиственницы – это практическое бессмертие человека; что люди Москвы будут трогать руками эту шершавую, неприхотливую жесткую ветку, будут глядеть на ее ослепительно зеленую хвою, ее возрождение, воскрешение, будут вдыхать ее запах – не как память о прошлом, но как живую жизнь».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.