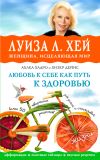Текст книги "Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)"

Автор книги: К. Сентин
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Все удивились проворству и ловкости такого мастера своего дела: хвалебный гул послышался по всему собранию, даже со стороны дам, которые с балкона и окон замка с величайшим вниманием смотрели на это зрелище.
Оставалось каждому отделить свою долю; начальник егерей отсек левую ногу оленя и подал лейтенанту корпуса егерей, а тот передал Марильяку, который по обыкновению представил ее королю.
Людовик XIII осмотрел ногу и признал:
– Она действительно имеет примету – это тот старый олень, которого я назвал плутом!
Старший егерь получил свою долю – шкуру оленя. Потом дошла очередь до собак: им досталось по доброму куску оленьего мяса, к большому удовольствию присутствующих; после такого раздела дамы сошли во двор и, смешавшись с охотниками, стали поздравлять их с успехом.
– Ну, теперь собаки будут есть не одну похлебку, – отметил король, – примите наше поздравление, господин Марильяк! Мы постараемся вознаградить вас за насмешки, которые позволили себе на ваш счет.
Егерьмейстер, столь же удивленный, сколь и обрадованный своим успехом, высыпал из своего кошелька все, что в нем было, в кошелек старого егеря.
– Так вот как! – продолжал Людовик XIII. – А мы еще хотели, даже сегодня поутру, биться об заклад… и королем Франции был бы теперь уже Марильяк, а не Бурбон!
– Никогда королевство не находилось бы в худшем положении, как при такой перемене. – И Марильяк поклонился королю.
Людовик XIII, наклонясь к Луизе, сидевшей недалеко от него и, как бы то ни было, гордившейся торжеством мужа, сказал вполголоса:
– Надеюсь, достаточно графской короны с герцогским девизом, чтобы заплатить мой заклад… И мы скоро сочтемся, графиня!
Луиза взглянула на короля с выражением счастья и благодарности.
Тут один странный случай поставил обоих главных действующих лиц этой сцены в довольно смешное положение. По принятому порядку старший егерь снова подошел с поклоном к егерьмейстеру и вручил ему голову оленя от имени его величества. Следовало всего лишь препарировать ее и записать, когда и где убит олень, – число, месяц и название леса. Но Марильяк сначала принял этот подарок, сделанный перед всем собранием, за последнюю и самую жестокую насмешку. В большом замешательстве, продолжая держать в руках рога оленя, заранее смущенный глупыми шутками, которыми, как он полагал, осыплют его в этом случае, он посмотрел на короля – и глаза их встретились. Оба, равно чувствуя неловкость своего положения, смутились и вдруг отвернулись друг от друга.
Тем и кончился праздник и церемониал охоты. Спустя несколько минут король отдал приказание готовиться к отъезду. Луиза с наступлением ночи вошла в свои луврские покои; несмотря на свое одиночество, она, занятая честолюбивыми мыслями, все шептала, засыпая: «…графской короны с герцогским девизом»…
Часть вторая
Глава I. День Луизы
Утро
Король сдержал свое слово: у графа Мора выкуплена была земля Аттиши, близ Компьена, с давних времен принадлежавшая фамилии Марильяков, и по королевскому диплому возведена в степень графства. Чтобы придать этой королевской милости вид, что имение возвращается законному владельцу, приговор секвестрования, наложенный военным судом на имения маршала, был отчасти уничтожен в пользу его племянника, а из Олянвильского имения все, что еще не попало в руки других, ему возвратили.
Оставалось ли еще чего-нибудь желать Луизе де ла Порт, графине де Марильяк, владелице Аттиши и Олянвиля? Не исполнились ли те желания – иметь богатство, – которые мучили ее пылкое воображение, когда в Туре, на берегах Луары, тяготясь обществом мелких дворян и своей провинциальной неизвестностью, она только и мечтала о Париже и дворе? Но у Луизы была тетка, беспрестанно твердившая ей, что остановиться на пути королевских милостей – значит подвергнуться опасности отступать по этому пути назад, а если удвоить свое внимание и предупредительность к королю, можно получить все.
Представился случай встать одной ступенью выше на лестнице счастья. Старый маркиз д’Юмьер, председатель палаты общественного призрения (chambre par quartier), был отстранен от должности. Неужели граф де Марильяк останется вечно простым егерьмейстером? Нет, король не откажет ему ни в чем, если с умением приняться за это. Просить за мужа, который ее от себя отталкивал, казалось Луизе низким делом, но ей дали почувствовать, что одно только повышение Марильяка может служить повышением для нее. Неважно, что они живут врозь, как и многие другие супруги, которые тем не менее считаются образцами супружеской верности, – они должны по крайней мере быть единодушны на пути к счастью и идти по нему рука об руку.
Если Луиза вздыхала из-за обидных поступков Марильяка, ей говорили, что, поскольку он обязан ей всем – богатством, почестями, – вскоре исправится. С некоторого времени королева показывала холодность к Луизе. «Вы еще недостаточно знатная дама, чтобы часто бывать у нее и пользоваться искренней ее дружбой», – замечали ей. Д’Отфор, де Гиз и другие как будто старались удаляться от графини Марильяк. «Они гордятся должностями своими при дворе и завидуют вашей молодости и красоте, – повторяли те же голоса, – надо их унизить, став больше чем равной им!»
Луизе восемнадцать лет; воспоминание о первой любви изглаживалось в ней все более среди этой новой жизни, ее занимающей, среди странных чувств, теперь ее колеблющих. В ее возрасте в сердце женщины честолюбивые идеи легко развиваются, в особенности когда имеют целью выгоды кокетства или тщеславия. Луиза всему поверила.
Между тем король не переставал посещать ее и, хотя все еще говорил ей о дружбе, иногда смотрел на нее каким-то особенным образом, целовал ее волосы, брал ее руку и однажды приложил даже к ней свои губы, что привело Луизу в большое смущение; потому что из почтения она должна была сделать то же со смиренным видом. Итак, она поцеловала руку короля, поцеловавшего ее руку, и при этой игре кокетства дьявол готов уже был вмешаться в дело, но, к счастью, заблаговестили к вечерне… Людовик XIII перекрестился и тотчас вернулся к себе.
Обманываться долее в чувстве, под влиянием которого он находился, было трудно для Луизы де Марильяк. «Так это-то, может быть, – говорила она сама себе, – и называют дружбой королей!» Потом, занявшись туалетом, улыбаясь своей красоте, равно как и своему счастью, будучи еще невинна, чтобы слишком тревожиться, она видела только блеск, ее окружавший, забывая участь мадемуазель де ла Файетт и вспоминая только о ее добродетели.
Тогда в первый раз пришли ей на память некоторые двусмысленные речи, которые баронесса де Сен-Сернен говорила ей несколькими днями ранее. Она вспомнила о герцогинях, о знаменитых женщинах, которые в предшествовавшие царствования управляли королями, как короли управляли Францией. «Почти королева!» – говорила она сама себе.
Настал час искушения. «Однако же, – подумала она снова, – эти прежние подруги Людовика, д’Отфор и де ла Файетт… ведь они не были замужем! Они всегда могли считать себя свободными, располагать своим сердцем! Но я!..» Один только Марильяк стоял между Луизой и искусителем. Чтобы объяснить сомнения своей совести, Луиза чувствовала необходимость обратиться к какому-нибудь доброму священнику. Что касается придворных духовников, она уже слишком хорошо их знала и потому не хотела доверяться.
В одно утро, взяв с собой девушку, свою компаньонку, и одну из своих служанок, молодая графиня отправилась в окрестности Нантера, к горе Валериан, – месту, славившемуся святыми пустынниками, которых привлекали туда благочестивые примеры знаменитой затворницы Вильгельмины: Фоссар и почтенного Жана дю Гуссе, умерших в святости и погребенных на горе Трех Крестов.
Келья Жана дю Гуссе была в то время занята одним святым мужем, не принимавшим никого к себе на исповедь. И потому, не желая знать причину горестей Луизы, он постарался их облегчить и посоветовал ей раздачу милостыни как средство, которое принесет большое облегчение ее сердцу.
Луиза, ободренная советом старца, решилась, несмотря на ребяческий страх, который чувствовала при виде нищеты, ходить из хижины в хижину для оказания несчастным помощи. В последней хижине, которую посетила, ей представилась картина, которая вызвала больше удивления, чем сострадания.
Между четырьмя стенами, почти голыми, но чисто выбеленными, украшенными только ветвями бука, распятием в рамке, источенной червями, и несколькими этюдами головок, нарисованными твердой и искусной рукой, пребывал столетний старец, служивший в царствование пяти королей Франции. Сидя неподвижно перед несильным огнем – горели виноградные прутья – в старом солдатском мундире, заплатанном, без дыр, надетом в первый раз при Генрихе III; опершись длинными руками на костлявые дрожащие колени, он мурлыкал какие-то старинные военные песни, перемежая их духовными псалмами и словами покаяния.
Близ него, по другую сторону очага, на узкой скамье сидели, прижавшись друг к другу, три белокурых мальчика; они вовсю смеялись, переглядываясь, и ели длинные ломти хлеба, намазанные сметаной.
Старая женщина, с живым лицом, проворная, малорослая, с полными ногами, в платье из грубой шерстяной материи, ходила по комнате, занимаясь стариком и детьми, и оставляла их, только когда садилась за прялку, не переставая, однако, за ними присматривать.
Для нее это были и не отец ее, и не дети: старик – ее дед, три белокурых мальчика – внуки. Связь, соединявшая их, прервалась, но не уничтожилась, и все это жило только трудами бедной женщины. Но она получила уже помощь; когда госпожа де Марильяк пришла вручить ей пособие, она, свидетельствуя свое глубочайшее почтение, отвечала:
– Ах, добрая барышня, дай бог вам богатства и счастья, вы так заботитесь о бедных! Благодарим Господа, в настоящее время голод не стучится в нашу дверь. Несмотря на то, сто раз скажу: милости просим, пожалуйте! Вы, без сомнения, прибыли из Парижа или Сен-Жермена, не правда ли? Я также жила в Париже, в этом великом городе; была и в Сен-Жермене, чтобы посмотреть, как обедает король. Вот вы почти в одно время с солнцем появились в нашей стороне; а вставать рано, с тем чтобы благотворить ближним, – значит начинать свой день так, как сам всеблагой Бог. На вас падет его благословение; а теперь я прошу у вас только одной милости, дитя мое – отдохните минуточку под нашей кровлей, чтобы тем принести нам счастье.
Как ни отговаривалась Луиза, но пришлось сесть и хозяйка вскоре принесла ей цельного молока в небольшом деревянном сосуде.
– О, не откажите мне, прекрасная барышня, вы меня этим очень обидите! Я хочу предложить вам что-нибудь, чтобы мне не совестно было принять от вас подаяние, если голод опять постучится когда-нибудь в нашу дверь.
Луиза с этим согласилась; подошла к детям и поцеловала их, хотя они и были чумазые. Потом заговорила со стариком, но он с трудом отвечал ей, посмотрел на нее улыбаясь и принялся снова за свои псалмы.
– Не обращайте на это слишком много внимания, дитя мое! Я по всей справедливости называю его дедушкой; хочу вам сказать, что он уже немолод и разум его бегает иногда бог знает где. Что мы теперь! Я помню его, когда была еще маленькой, – красивого алебардщика нашего короля Генриха Третьего. Как он был тогда величествен и храбр, в своих штанах с бантами, в большой шляпе! Ему не хватало места, когда шел по улицам Парижа. Не мог увидеть хорошенькую девушку и не ударить каблуком, вымыть руки в Сене и не забрызгать грязью мостовой. А теперь что, моя барышня, – его можно узнать только по имени.
– И вы одна, – сказала Луиза, испытывая сострадание, – печетесь о нем и об этих бедных детях?
– Не моя ли это обязанность! Это дети моего сына… а он – он отец моего отца!
– Но ваша работа не дает достаточных средств, чтобы удовлетворить столько потребностей. Дети ведь растут… Нет ли у вас сколько-нибудь земли в собственности?
– Какая у нас земля! Прежде, бывало, когда мой покойный сын, портной, был жив, да помилует его Господь и все святые угодники, – вздохнула женщина, – он зарабатывал для всех нас. Мы жили тогда, как дворяне Кюсси – ели суп и вареную говядину. Со смертью его мы как бы перешли во дворянство Фиру-Мартенское, то есть ложись спать – завтра поужинаешь.
– Но все же, моя милая, – спросила графиня, – если вы отказываетесь принять от меня вспоможение, от доброго сердца предлагаемое, значит, кто-нибудь уже прежде меня оказал вам помощь?
– Разве я вам этого не сказала? Изволите видеть, после сына у меня остался мой воспитанник, высокий, красивый молодой человек, которого я кормила грудью, – он пишет святые образа для церквей. С некоторого времени я не видала его более – бедный молодой человек переживал какие-то горести! Однако ремесло его шло хорошо. Богатство ведь не мешает горю!
– Нет, – Луиза сразу подумала о себе.
– Разве и у вас есть горести, моя благородная барышня? Вы так молоды, так прекрасны! Но он был тоже очень пригож… Ох-ох, ни юности, ни красоты – ничего не щадит несчастье! «Добрый ягненок, которого закусал волк», как говорит пословица. Моего бедного питомца так укусили, что он покинул Париж; мы более его не видали, оттого-то и постигла нас нищета.
– Ну а потом он вернулся? – У Луизы возникло какое-то инстинктивное чувство.
– Нет, дитя мое, он, может быть, никогда не вернется – он далеко отсюда. Один здешний молодой человек много раз видел его у моего сына – портного, встретился с ним там где-то, в провинции Дофине, и рассказал ему о нашей нужде. Этого довольно – он тотчас послал нам письмо вот с этой бумагой.
Вынула из сундука бумагу, тщательно завернутую в пять или шесть разных оберток, и подала ее Луизе.
– Вы, без сомнения, умеете читать, моя милая барышня, а я простая, неграмотная женщина. Прочитайте-ка эту бумагу громко для себя и для меня… я всегда слушаю ее с радостью, хотя она и заставляет меня плакать.
Луиза в сильном душевном волнении прочла следующее – с первой же строки узнала почерк и подпись писавшего:
«Этим актом, составленным в Жиере, близ Гренобля, в провинции Дофине, в присутствии Жирара, сельского нотариуса, я, Евстахий Лесюёр, живописец, уполномочиваю вдову Магдалину Кормье, мою добрую мать-кормилицу, продать в свою пользу всю мебель, посуду, оружие и художественные предметы, находящиеся в моей мастерской на улице де ла Гарп, в Париже, напротив улицы ла Паршеминери, исключая мой эскиз великого Рафаэля Санти, два рисунка Микеланджело и мою картину Доминикина, которыми она может впоследствии воспользоваться, если к концу этого года не получит от меня новых известий.
Евстахий Лесюёр»
– Что же, – вдова Кормье взглянула на Луизу и отерла слезу, – вот добрая душа.
– А письмо, – воскликнула Луиза, возвращая бумагу трепещущей рукой, – письмо, которое было при этом акте, оно у вас?!
Магдалина Кормье, удивляясь столь живому участию и приписывая его, однако, удивлению молодой дамы благородной чертой своего питомца, отыскала письмо и подала ей. Оно содержало следующие слова:
«Извините, добрая матушка, что я уехал, не повидавшись с вами; я очень несчастлив! Я работаю… работаю прилежно, усердно, в надежде все позабыть, исключая моих друзей и вас… но ничто не помогает! Теперь единственное мое блаженство заключается в религии, поэтому я причащался вчера в надежде, что это облегчит мои страдания… Но нет! Все что-то стоит между Богом и мной. Прощайте.
PS. Прилагаемый при сем акт может извлечь вас из стеснительного положения, в котором вы находитесь. Не бойтесь им воспользоваться. Мне больше ничего не нужно. Для меня достаточно навсегда одних моих кистей и палитры».
Луиза прочитала все это со стесненным сердцем; она не нашла в письме того, что искала. Глубокая горесть снедала Лесюёра… какая же тому причина… И в какое именно время он уехал из Парижа…
Она обратилась с первым вопросом к Магдалине Кормье не без колебания и некоторого смущения; но та не имела времени тотчас ответить. Только Луиза начала ее спрашивать, как вдруг Магдалина сделала прыжок к камину, где старик, все напевавший песни и псалмы, уронил ногой пылавшие сучья, они повалились прямо под его стул и обожгли бы ему ноги, не подоспей она вовремя. Почти в тот же миг один из мальчиков, упав со скамьи навзничь, набил на голове изрядную шишку. Добрая женщина, занятая тем, чтобы поставить на ноги и удалить от огня старого воина, а потом поднять ребенка, потереть ему голову и успокоить, – от ушиба он кричал во все горло – не успевала обдумывать свои выражения и смешивала ответы молодой даме с речами, с которыми обращалась к своим подопечным.
– Ну замолчи же ты, крикунишка! Вы спрашиваете, барышня, какая причина печали нашего Лесюёра? Ну перестань же плакать… ничего, пройдет! Ах ты, глупая голова! Печаль от любви продолжается недолго… один день… А вы, отец мой, неблагоразумны – ноги сухи, как подпорки, а все надо совать их в огонь!
– Как, эта горесть от любви? – спросила с большой твердостью Луиза, решившая все себе объяснить и сделавшаяся смелее от шума, происходившего в комнате.
– Да, дитя мое, – отвечала Магдалина, продолжая тереть голову внуку и отталкивая ногой сучья к камину, – любовишка к какой-нибудь непотребной женщине… По крайней мере мне так кажется. В худые тенета – добрая дичь! Но питомец мой скоро от нее вылечится… я надеюсь.
«Стало быть, моя тетка и де ла Шене были правы», – подумала Луиза и приняла опять вид более холодный и скромный.
– Как бы то ни было, моя милая, – сказала она Магдалине Кормье, – до тех пор пока вы меня снова не увидите, прошу вас не применять этот акт насчет продажи картин Лесюёра! Обещаете ли вы исполнить мою просьбу?
– О нет, моя голубушка, теперь уже поздно. Мой сын, портной, оставил обязательства, по которым надо было уплатить; накопились долги и с моей стороны… Без этого и не подумала бы продать его живопись… что делать, обстоятельства того требовали.
Молодая графиня, скрыв душевное волнение и тотчас распрощавшись с новой своей знакомой, снова пошла поцеловать мальчишек, на прощание сунув каждому в руку по золотому экю.
Полдень
В продолжение всей зимы в Париже после балов и комедий только и было разговоров, что о литературе да о письмах. Каждый вел переписку: письма писали, писем просили, их обещали друг другу. Письма со вкусом написанного достаточно было, чтобы заслужить имя остроумного человека. Повсюду слышалось: «Я пишу теперь к вам письмо – я над ним тружусь».
Хорошо, если с этим письмом не случилось, как с одой Малерба для первого председателя де Вердена на смерть его жены: над одой этой поэт трудился так усердно и долго, что, когда неутешный вдовец ее получил, он был уже снова женат и вторая его жена готовилась скоро родить.
Наибольшую славу в этом роде сочинений – письма его считались образцом изящного языка, нежных выражений и придворного тона – приобрел Вуатюр. О нем отзывались с величайшим уважением в высшем обществе домов де Креки и де Вантадура, а особенно в обществе знаменитого дома де Рамбулье, где собирался суд ученых женщин под председательством великой Артенисы для суждения о писателях того времени.
Вуатюр был любим всеми: письмо от него обеспечивало благорасположение в кругу некоторых людей наравне с каким-нибудь титулом, жалуемым королем; тройственная его известность – как хорошего игрока, великого стихотворца и образцового сочинителя писем – поставила его так высоко, что он приобрел право на вольность в обращении и безудержно ею пользовался даже в знатнейших домах.
Он только что вернулся из Италии, где, выполнив поручение – уведомить тосканского герцога о рождении дофина, – посетил Рим. Узнав о женитьбе Марильяка и счастливых переменах, происшедших в его состоянии, он явился к нему с поздравлением и просил представить жене, чью красоту ему расхвалили. Но Марильяку надоели уже подобные поздравления и он говорил, что у него нет времени; если его где и видели, то разве только на дороге из Аттиши в Олянвиль или из Олянвиля в Аттиши – всегда и везде хлопотал он о собственных делах и о делах короля.
Вуатюр решился представиться его жене сам. Графиня по возвращении из Нантера, удаляясь в свои покои, думала о последних словах Магдалины Кормье и печалилась о том, что ее принудили презирать Лесюёра, – ей хотелось быть одной во всем виноватой. Кого после этого ей уважать, если он, столь преданный в других своих привязанностях, столь признательный, великодушный, не чурался обмана? Чьим словам можно теперь верить, когда он умел лгать? Несмотря на это, какое-то тайное сомнение оставалось все же в душе ее в пользу молодого живописца. Луиза несколько легкомысленно поверила обвинительным свидетельствам против него ла Шене и баронессы де Сен-Сернен; но вот когда еще одно обвинение подтвердило два прежних, она сомневалась. Из гордости не хотела и думать, что он ставил Луизу де ла Порт наравне с Жанной ла Брабансон.
В эту минуту ей доложили о Вуатюре; о, ей так много о нем говорили, она читала некоторые его письма и знала их наизусть; что ж, несмотря на остроумное его сплетничество, она примет его.
– Извините, графиня, – сказал он, входя в ее будуар, – что я представляюсь вам сам, – впрочем, это в порядке вещей. Вуатюр – сопроводитель посланников к его королевскому высочеству герцогу Орлеанскому имел честь представить вам стихотворца Вуатюра, очень желающего познакомиться с парой прекрасных глаз, о которых…
Хотел продолжать заготовленную фразу: но, подняв голову после третьего церемониального поклона и внимательнее посмотрев на Луизу, отскочил и, подняв руки, прервал ее восклицанием:
– Клянусь червонным королем, сударыня, что не первый раз имею счастье наслаждаться лицезрением вас! Простите моему любопытству: не жили ли вы последнее время в Лионе?
– Я в нем никогда не бывала, милостивый государь, – сухо отвечала Луиза Марильяк.
– Однако же позвольте… в Лионе я вам удивлялся, поклонялся… в живописи. Ища идеальной красоты, живописец, конечно, встретил где-нибудь ваши черты; это обстоятельство заслуживает того, чтобы я вам о нем рассказал.
Несколько недель назад, – продолжал он, – молодой человек, небрежный в одежде, но с благородными манерами и правильными чертами лица – по молчаливости его скорее можно было принять за влюбленного до отчаяния, чем за странствующего художника, – проезжал через Лион, стараясь скрыть свое имя; едва ли три дня оставался он там. В то же самое время умер городской живописец, оставив только эскиз образа Святой Урсулы, заказанного для церкви Святого Низьера, и таким образом, надежда его семейства, находившегося в стесненных обстоятельствах, на цену за этот образ оказалась тщетной. Наш молодой человек взял кисти покойника, работал день и ночь и за сорок восемь часов написал образцовое произведение. На обратном пути из Италии, проезжая через Лион, я ходил, как и другие, смотреть эту Святую Урсулу; там была толпа народа… клянусь вам, графиня, – я молился пред вашим изображением! Теперь смотрю я на вас, припоминаю… сравниваю! Сходство – совершеннее невозможно!
Вуатюр рассказал ей еще несколько анекдотов о литераторах того времени, поздравлял, наговорил кучу комплиментов, обещал написать письмо; но посещение его не могло продолжаться долее – Луиза, по-видимому, страдала.
Как только он вышел, она вскрикнула:
– О боже мой! Итак, они все хотят, чтобы я его опять любила?! Неужели из всех уст буду я слышать только похвалы ему? Этот молодой живописец, такой филантроп, такой несчастный, – это он! Могу ли я теперь сомневаться в его любви? И где у меня был ум – представить себе, что эта девка принудила его изгнать себя из Парижа! Нет, все это наделало мое замужество! Напрасно я хотела обмануть себя, чтобы прикрыть собственную ошибку! Я ему изменила, я – причина его отчаяния! Эта любовь была бы моей славой – теперь она будет мне позором: я замужем!
Замужем… тут она припомнила все обязанности, заключающиеся в этом слове, и поклялась их исполнять. Боясь полюбить опять Лесюёра, старалась оправдать Марильяка во всем, в чем его обвиняли; говорила самой себе, что ее покорность обезоружит его, если он думает, что имел причины от нее удалиться, как это и делал.
Однако не довольно ли уже унизила она свою гордость? Двадцать раз Луиза улыбалась ему, стараясь удержать, когда в начале супружества он приходил к ней в сопровождении своих друзей и представлял их ей. Сестра Марильяка графиня Мор, бывшая отчасти свидетельницей ее страданий, бранила за это брата. И все это напрасно и к стыду Луизы? Нет нужды, сегодня ей грозит опасность и разом с двух сторон: речь идет о ее спокойствии и чести; может быть, она найдет это… если нужно, все ему расскажет, во всем признается и будет просить защитить ее от нее самой!
Луиза позвала одну из своих служанок и поручила ей узнать, где граф. Та ушла, а через минуту явилась сильно встревоженная баронесса де Сен-Сернен – как будто ей дали знать, что племянница сошла с ума.
– Что такое?! Что случилось?!
– Я хочу видеть мужа!
– Вашего мужа?..
– Я не могу более так жить, – заявила Луиза решительно, – надо, чтобы он меня выслушал, объяснился! Если он думает, что имеет право презирать меня, – что ж, пусть придет, обвинит меня! Я, может быть, сумею оправдаться, но, если и не смогу его убедить, узнаю, за что именно он меня презирает, за что он меня бросил!
– Ах, милое дитя мое, что вы так беспокоитесь, почему такие мысли приходят вам в голову? Вы счастливы…
– Нет, я несчастлива! – возразила Луиза необыкновенно живо с глазами полными слез.
– Чего же вам недостает? Богатство, звание, почести вволю – они сыплются на вас со всех сторон. Вы графиня, у вас кареты, лакеи, роскошная обстановка… Вам остается желать еще чего-нибудь – посмотрим, говорите! Конечно, весьма понятно: в ваши годы, в вашем положении вы удостоены дружбы короля – при всем этом иметь какие-то маленькие честолюбивые желания; за это вас никто порицать не станет. Не уметь пользоваться фортуной, когда она нам благоприятствует, – значит быть неблагодарными; но с этой стороны есть ли какое-нибудь препятствие, которое не происходит от вас самой? Отказывал вам король когда-нибудь в чем бы то ни было? Просили вы у него чего-нибудь?
– Чего же я стану просить у него, хоть сегодня? Душевное спокойствие, счастье – разве это такие вещи, которыми короли располагают более других?
Баронесса встревожилась от слов Луизы и ее тона.
– «Душевное спокойствие»… ах, милая моя, если душа ваша взволнована, неужели Марильяк вернет ей спокойствие?
– Почему же нет? Не клялся ли он быть моим покровителем, равно как я клялась быть ему верной?
– Судя по тому, как он держит свою клятву, вы можете считать себя почти свободной от своей. Вы ему покровительствуете, а не он – вам.
– Этим я и счастлива, но если судьба благоприятствует мне и я могу быть ему полезной, он доволен выгодами, которые наш союз ему доставил, почему вижу его не иначе как среди толпы? Почему, если нас разделяет одно какое-нибудь недоразумение, он не старается его объяснить? Почему вы, моя родственница, не хотите защитить меня и принудить его сблизиться со мной? Все меня окружающее, кажется, согласилось сделать это примирение невозможным! Я, право, не могу угадать, что здесь происходит. Хорошо, то, чего не делаете вы, но должны были бы сделать, я сделаю! Муж мой отказывается прийти ко мне – так я сама пойду к нему! Это нужно, я так хочу!
– Помилуйте, Луиза, да разве вы любите вашего мужа?! – воскликнула баронесса Сен-Сернен с видом притворного простодушия.
Луиза посмотрела на нее с изумлением.
– Не моя ли это обязанность?! Повторяю вам – я хочу его видеть; хочу идти к нему сию же минуту! Непременно надо, чтобы он меня выслушал. Я брошусь к ногам его и буду умолять, чтобы он любил меня!
– Бедное дитя! – Баронесса взяла ее за руку, демонстрируя сострадание. – Итак, вы никогда не захотите понять меня, вы меня обвиняете… Меня, сделавшую все для вашего счастья! Послушайте…
Луиза начинала уже терять свою твердость – подошла к тетке с покорностью, положила ей голову на плечо и дала волю говорить.
– Вот как можно повредиться в уме, – в тоне баронессы звучал кроткий упрек, – итак, мне надо, если я верно вас поняла, идти просить Марильяка, чтобы он к вам пожаловал. Но, дорогая моя, не значит ли это унизить ваше достоинство? Хотя вы и замужем, но вы… еще невинны… и не знаете, чего требует молодая женщина, оставленная с первой ночи своего брака, когда силой призывает мужа к его обязанностям. Нет, Луиза, я не могла бы этого сделать – ни от вашего, ни от своего имени… Это невозможно ни для кого, кто себя уважает! Вы хотите сейчас идти искать Марильяка, говорите вы? Ступайте, Луиза! И в награду за этот прекрасный поступок женщины, которая просит простить за оскорбление, вам скажут, что его нет дома, не бывает днем, как и ночью; что ночь он проводит в обществе господ Сен-Прейля, Вуатюра и Риё за картами и золотом, может быть еще менее занятый страстью к игре, чем старательно избегая супружеского крова.
– Значит, он меня ненавидит?! – Графиня подняла голову и устремила вопросительный взор на тетку.
– Нет, Луиза… он любит другую. – И, нанеся этот удар, остановилась, чтобы дать отчаянию племянницы разразиться, но, не замечая в чертах ее никакой перемены, разве только удивление, продолжала:
– С другой он проводит время, между тем как думают, что он на дороге из Олянвиля или из Аттиши… и не сомневайтесь в этом.
– О, – прервала Луиза, – как опасно верить легкомысленно.
– Это достоверно известно, говорю вам! И если уж надо снять маски, то дама, о которой идет речь, – маркиза де Бонневаль. Вы одна по моей милости не знали этого. Вот, любезная племянница, откуда тайна, вас окружающая.
– Он любит другую… сожалею о нем… – тихо произнесла Луиза скорее в задумчивости, чем в отчаянии, – но зачем же в таком случае он на мне женился?
– Без сомнения, из честолюбия, – отвечала баронесса.
– «Из честолюбия»? – повторила Луиза с печальной улыбкой. – Да… чтобы наслаждаться пышностью двора, иметь лакеев, карету, костюмы… быть близким к королю… не правда ли? Да… так! О, я жалею о нем тогда еще больше… горе, которое он причинил той, кого любит, существенно, а счастья, если на него надеялся, он не найдет!
Молодая графиня бросилась в кресло и предалась своим мыслям; она не слушала последних увещеваний тетки, которая советовала ей ободриться и рассеяться. Новые обиды со стороны Марильяка, сообщенные с такой неосторожностью, не увеличили ее негодования на него. Он любит, он, без сомнения, несчастлив… в положении их есть сходство, пусть отдаленное… и Луиза почувствовала, что может быть к нему снисходительна. Кроме того, приобретя опыт, она уже с недоверием слушала речи баронессы де Сен-Сернен. Не имеет ли тетка какой-то выгоды в том, чтобы обмануть ее насчет мужа, как прежде насчет Лесюёра?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.