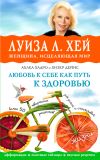Текст книги "Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)"

Автор книги: К. Сентин
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Глава II. Муж фаворитки короля
Весной весь двор, переехавший в Сен-Жермен, предавался там увеселениям, удовольствиям и интригам. В обоих замках этой королевской резиденции каждый заботился о том, чтобы король назначил его участвовать в предстоящей охоте, или готовился играть достойную роль в большом собрании, которое предстояло в тот же вечер у королевы.
Один только человек, убежав от шума, удалясь от всех, уединился в самой мрачной части леса и отдал там себя, казалось, во власть глубоких переживаний. Устремляя взгляды то на ту, то на другую из двух противоположных дорог, он в задумчивости бил себя рукой по лбу, ходил, бросался то туда, то сюда, не мог оставаться на одном месте, разговаривал сам с собой, писал на деревьях… как будто страждущая душа оживляла и мучила тело этого несчастного, старавшегося загладить какое-то преступление. Этот человек был граф де Марильяк.
Однако не угрызения совести за то, что сделал, терзали его, нет, так беспокоила его любовь. Но ведь он, Марильяк, не верил в нее – и все же был влюблен. И в кого же – в свою жену! Подобно многим богачам, лишившимся богатства, потеряв сокровище, он открыл для себя всю его ценность.
Любовь его началась с самого дня заключения брака. Частые свидания с Луизой у баронессы заставили его убедиться в том, чему он прежде также не верил, – в ее красоте и очаровании. Когда эта девушка у подножия алтаря поняла, что соединена с ним на всю жизнь, то по внушению чувства долга она уже с меньшим страхом подняла глаза на супруга, которого в неведении своем считала достойным большей привязанности, чем та, какую сама могла иметь к нему. Тут Луиза и явилась в чистой своей простоте, очаровавшей его.
Марильяк видел, как чувствительность проявилась на этом прекрасном лице и оживила его. Все изменения любви и ухищрения простосердечного кокетства отражались на нем одно за другим; наконец-то он понял страсть к ней и Лесюёра, и самого короля. Ла Шене по предварительному условию должен был прислать ему повеление, отданное в Лувре, чтобы новобрачный имел предлог немедленно удалиться из-под брачного крова. Но это повеление заставило себя долго ждать.
Луиза, как и всякая новобрачная в подобную минуту, трепетала, краснела, глядя на него и, казалось, ждала каких-нибудь ласковых и нежных слов. Повеление не приходило, и все это становилось невыносимым для новобрачного. Как столь долгое время оставаться неподвижным, молчать, сидеть скрестив руки перед милой, прелестной восемнадцатилетней девушкой, которая считала уже себя его женой…
Надежда всегда сопутствует желанию – Марильяку пришла в голову мысль, что угрызения совести вдруг овладели королем, и он, не лишая новобрачного своих благодеяний, уничтожает секретную статью брачного договора. «Лесюёр и король знатоки, – думал он, – но один уже отказался от Луизы, а если другому тоже угодно сделать подобное, то ставка, как в игре, останется на мной – я завладею ею!»
Поощряемый улыбками, разгоряченный свадебным вином, он забыл отчасти свои обязательства и, несмотря на присутствие баронессы, придвинул свое кресло к креслу Луизы, фамильярно сел возле нее, называл «мадемуазель моя жена» и давал ей нежнейшие имена, какие только приходили в голову.
Баронесса, встревоженная столь вольным обращением, несогласным с полученными инструкциями, раздраженная медлительностью ла Шене, всеми средствами, знаками, взглядами старалась напомнить Марильяку о его обязанностях и обещаниях. Он, однако, не обращал на это внимания, и возле Луизы слова его становились еще нежнее, телодвижения – все выразительнее. Наконец баронесса потеряла терпение и слово «вероломство!» вырвалось из ее уст.
Молодая жена, совсем не понявшая этого упрека, приняла часть его на себя, встала и, подойдя к госпоже де Сен-Сернен со смиренным и ласковым видом, молвила:
– Разве он не муж мне?
Между тем как она стояла в положении умоляющей, наклонив голову, ожидая прощения, вспомнила тут, что брачное ее ложе не освящено еще благословением тетки, как того требовал обычай. Тогда, встав на колени, она попросила:
– Любезная тетенька, не сердитесь сегодня на вашу племянницу… и благословите ее, чтобы она была счастлива!
– Прилично ли это сейчас? – засомневалась баронесса в замешательстве. – Разве мы здесь одни?
– А разве он не муж мне? – повторила Луиза. – Если впредь у нас все должно быть общее – ну что ж, и он получит свою долю! – И рукой сделала знак Марильяку, чтобы и он подошел и встал на колени возле нее.
Де Марильяк сперва с большим трудом сохранял спокойный вид; но, тронутый простосердечной доверчивостью Луизы, прельщенный, очарованный, растроганный до глубины души врожденными и наивными прелестями, обнаружившимися в ней в это время, готов был, наверно, пасть к ее ногам, как вдруг два сильных удара во входную дверь потрясли весь дом и уничтожили надежды молодого мужа: от короля прислано повеление.
Марильяку приходилось ехать – покидать все, унося в свое уединение холостяка желание обладать сокровищем, внезапно похищенным у него, и желание это еще более усиливалось от мысли о нем и от препятствий.
Быть влюбленным в свою жену для Марильяка оказалось больше чем великой печалью – это было сопряжено с опасностью. Сначала он пытался отнестись к этому с юмором, начал, с еще большим жаром, свою распутную, рассеянную жизнь – принялся играть, причем стал выигрывать; удача не оставляла его, и это ему совсем не нравилось: корыстолюбие не настолько было свойственно его натуре, чтобы занять душу.
Проклиная свою участь, он видел только одно средство излечиться от этой любви – влюбиться в другую. Только, видно, ему так суждено – быть несчастным в любви. Некогда он безуспешно волочился за одной лишь маркизой де Бонневаль – единственно ее любви искал в дворянском кругу Франции. Маркиза жила в Санли, и Марильяк по дороге из Аттиши нашел предлог и заехал к ней повидаться. Маркиза немного постарела; но следовало ли ему строго судить? Это женщина, которую он хотел любить, одна из добродетельных особ, способных довести его до отчаяния, если бы ему выпало счастье полюбить ее хоть немного.
Итак, он представился ей решительно, как будто пять лет отсутствия не погасили его любовь. Он заговорил о прежнем времени, скуке, испытанной в разлуке с ней, приятном возвращении, о постоянстве истинной любви; он воодушевлялся, воспламенялся… Но каково было его изумление, когда при первом свободно высказанном объяснении лицемерка – годы ее научили категорично дорожить минутами, – бросив на него взгляд, полный кроткого упрека, улыбнулась и молвила, как принцесса Элизенна великому Амадису галлов:
– А, наконец-то вы приехали!
Марильяк уехал от нее, потеряв всякую надежду на успех своего ухаживания. Тогда обратился он к другим мыслям, чтобы развлечься, – благороднейшим, возвышеннейшим, почерпнутым на этот раз в высших сферах его характера, а не в области земной и порочной. Он откроет себе дорогу к славе оружием. «Если король по милости своей сделает меня каким-нибудь военным начальником, – говорил он самому себе, – может быть, в кругу своих старинных военных товарищей я найду спокойствие, которого ищу. В лагере ли, в походе, мне, конечно, не станут все время говорить о жене».
Приятная надежда заставляла его еще более желать осуществления этого нового плана; он мечтал о славе, представлял себе, как она озарит Луизу, – не сможет она презирать того, кто сумел прославить имя, ею носимое. В то время шла война в Италии и даже во Франции, где некоторые места Пикардийской границы находились в руках испанцев. Марильяк подал прошение.
К несчастью, одно только присутствие при дворе мужа давало право жить там жене его… Король отказал ему в должности, которую он просил, и намеревался щедро вознаградить его – объявить, что с того же дня Марильяк принадлежит к числу первых четырех дворян его свиты. Егерьмейстер, граф, первый дворянин – не довольно ли этого, чтобы удовлетворить честолюбие самое неумеренное. Марильяк уже пугался быстроты своего повышения – оно привлечет к нему завистливые взоры, всегда дальновидные, – и мысленно обвинял короля в неосторожности и неумении скрывать свои тайны. Да и не признак ли это покорности Луизы нежной воле соперника; может быть, этими многочисленными милостями король платил за наслаждения, которые сам получал…
«Однако, – думал Марильяк, – Луиза непорочна, король так робок и невзыскателен… Любовницы его всегда самые честные девушки при дворе. Ну и что… со времени рождения дофина на этого человека нельзя полагаться. – Пожалуют меня герцогом – все, я пропал! Но, – говорил еще про себя несчастный супруг, – если Луиза только его фаворитка, а не любовница, когда-нибудь она добровольно возвратится ко мне; он не посмеет, может быть, сделать ее монахиней. На коленях выпрошу прощение… и все прошедшее будет забыто. Она не думает более о Лесюёре… если только о нем когда-нибудь думала; не может любить короля… нет! Она полюбит меня!»
С этого времени Марильяк перестал бороться со склонностью, которая влекла его к Луизе. Что он может тут сделать? Страсть к игре, желание влюбиться в другую, стремление к славе – все тщетно. Он предается любви первой, единственной, которую когда-либо чувствовал, допускает, чтобы она росла и развивалась в душе, и хранит ее в запасе, как надежду на будущее счастье.
Истинно какая-то лихорадочная любовная эпидемия господствовала в это время года, с приближением мая, в части замка, занимаемой покоями короля и графини де Марильяк. Одинокая, Луиза проводила дни в горести, думая только о Лесюёре. Людовик XIII и Марильяк, оба с возрастающей страстью, заняты были исключительно Луизой. Один, с трудом оправившись от волнения, которое испытал в сцене с ней, думал, как бы достигнуть своей цели и не повредить, однако, своему здоровью слишком сильными душевными волнениями. Другой возложил на себя двойное бремя и дал себе слово нести его с твердостью и покорностью воле провидения, то есть, насколько это возможно, оправдаться перед женой, убедить ее, что все оскорбления она ему приписывала – их не было; он полагался в этом гораздо более на раскаяние, чем на доказательства своей невиновности.
Находясь в большой дружбе с Сен-Марсом, граф легко узнал о любви его к мадемуазель де Шемеро.
– Вы могли бы, – сказал ему однажды Сен-Марс, – устроить мне случай повидаться наедине с моей принцессой. Она дружна с госпожой де Марильяк; пойдите как-нибудь прогуляться с обеими. Ваше присутствие даст мне право присоединиться к вам, как бы при случайной встрече… а остальное уж мое дело.
– Все это удобно только предположительно, – отвечал ему Марильяк, несколько смешавшись, – подождем несколько дней, у меня есть одна идея. Я могу встретиться с вашей богиней и, может быть, сделаю все это лучше, чем вы думаете, как для вас, так и для себя.
После этого разговора Марильяк, охваченный то страхом, то надеждой, навострив глаза и уши, спустя некоторое время бродил в отдаленной части Сен-Жерменского леса, где Сен-Марс собирался немедленно к нему присоединиться.
В это самое время де Шемеро и графиня де Марильяк в сопровождении одной только старой девы, компаньонки графини, прогуливались по великолепной террасе, устроенной Генрихом IV, с видом на окрестные поля и многочисленные извилины Сены. Держались они около леса, желая дойти до Вальского сада – он в конце террасы. Луиза повеселела, разговаривая с подругой, чьи легкомысленные и пустые разговоры ее развлекали и невольно вызывали улыбку; вдруг де Шемеро почти на полдороге остановилась и обратилась к компаньонке – та шла за ними:
– Дорогая, я забыла платок и кошелек. Сделайте одолжение, пойдите ко мне на квартиру и спросите их у моей горничной. А мы здесь отдохнем и подождем вас.
Компаньонка графини поклонилась, взглянула на свою госпожу и, не видя с ее стороны возражений, удалилась. Дамы уже несколько минут сидели на скамье, наслаждаясь прекрасным видом и уединением; разговор шел о произведении в чины, которое последует вечером у королевы; о путешествии на богомолье к часовне Святой Женевьевы, назначенное на завтрашний день; вдруг де Шемеро стала жаловаться на солнечный свет – он утомляет зрение – и предложила перейти в тень, под лесные деревья. Графиня заметила ей, что со всех сторон набегают облака и скоро ослабят яркий свет; к тому же вот-вот хлынет проливной дождь, весна ведь, – не благоразумнее ли вернуться в замок. Подруга ее смеялась над этим опасением и подшучивала над ней.
Между тем тучи все сгущались; графиня не говорила более ни слова, спокойно ожидая дождя, – он оправдает ее предсказание. Вскоре де Шемеро вполне согласилась с ее мнением, сказала даже, что несколько капель упали уже ей на лицо. Возвращаться в замок поздно, не отправиться ли в домик сторожа, тут, неподалеку, и укрыться от дождя. Луиза сначала испугалась – как же им, двум женщинам, идти лесом, – но подруга, то успокаивая ее, то увлекая, устремилась в лес, взявшись быть вожатой.
Не прошли они и ста шагов, как вдруг на повороте дороги появился перед ними Марильяк. Он сразу взял Луизу за руку, благословляя вслух счастливый случай, а про себя – де Шемеро. Та, притворяясь, будто очень испугалась этой встречи, убежала, оставив их одних, и благодаря своему ловкому бегству вскоре сама встретилась с молодым Сен-Марсом.
Луиза не отняла руку у Марильяка, не смея обнаружить презрения в присутствии де Шемеро… Но она не оглядывается, не смотрит… и Луиза попыталась убрать руку, но он удерживал ее, так же встревоженный и смущенный, как она.
Графиня взглянула на него робко и испугалась еще больше, заметив, что сильное душевное волнение овладело им. Снова попробовала высвободить руку, и на этот раз ей удалось; хотела тоже убежать, как вдруг, сразу после ослепительной молнии, раздался первый удар грома. Луиза остановилась – раскат грома навел на нее непреодолимый ужас; машинально она приблизилась к мужу… А тот, получив хоть слабый луч надежды, приступил наконец к своим оправданиям.
Луиза, едва переводя дыхание, готовая бежать, опустила глаза в землю и заткнула обеими руками уши… Да и вряд ли могли достигнуть ее слуха слова Марильяка – тысячекратное эхо леса повторяло громовые удары… Каждый раз, как он начинал говорить, она удалялась от него – и новый удар грома возвращал ее к нему, еще более бледную и трепещущую. Душа ее, казалось, воспринимала только одно – страх. Марильяк хотел и из сострадания и из любви заключить ее в свои объятия – скорее прикрыть, чем прижать к сердцу… Луиза подняла глаза, и страшное открытие, сообщенное королем, встало в ее сознании… О, она чувствует отвращение к человеку, который продал ее и теперь торжествует над ее ужасом! Луиза оттолкнула его и, несмотря на холодный дождь, смешанный с градом, побежала одна через лес, едва прикрыв голову.
В это время послышался стук копыт скачущих лошадей: несколько офицеров, принадлежащих к королевской охоте, ехали по дороге, где стоял Марильяк; граф не смел сделать вперед ни шагу, видя в крайнем замешательстве, какой ужас наводит он на Луизу, на свою жену…
Не разбирая дороги, Луиза пошла вперед наудачу, смело ступая по каменистой тропе, раздиравшей ее легкую обувь, по узкой тропинке, пересекаемой длинными рядами терновника. Она упорно продолжала свой путь, несмотря на болотистую местами почву, на дождь, который усиливался и лил вовсю на открытых местах сквозь редкие еще весенние листья деревьев, на гром, то и дело грохочущий; не испытывала ужаса среди всего этого весеннего тарахтения, а ведь незадолго перед тем оно заставляло ее цепенеть. Теперь же Луиза шагала без устали по дороге, которая казалась бесконечной… Когда она очутилась все же перед замком, голова у нее горела, и она вся тряслась в лихорадке, озябнув и промокнув насквозь.
Глава III. Поцелуй королевы
Назавтра, в воспоминание того дня три года назад, когда королева, как простая богомолка, ходила пешком просить Святую Женевьеву Нантерскую даровать ей дофина, Анна Австрийская собиралась отправиться благодарить эту покровительницу парижан за ее святое ходатайство пред Богом, осуществившее сокровенные ее желания.
А теперь она полулежала по обычаю своей страны на мягких бархатных подушках в уборной своей комнате. Обилие богатых материй, вышитых шелком и серебром, составляло контраст простым деревянным шкафам с довольно грубой резьбой – вот и вся почти меблировка. Плафон над ложем королевы поддерживали двадцать выдающихся наружу брусьев, украшенных арабесками. При Анне Австрийской были только д’Отфор и де Сен-Луи, ее наперсницы. Большое венецианское зеркало, установленное на вызолоченном подножии, стояло перед ней; шелковые занавеси, драпировавшие окна, пропускали в комнату свет через малые стекла рам. Королева попросила открыть одну раму, чтобы свободнее дышать утренним воздухом – он так освежает, – и комкала в руках только что прочитанное письмо, бросая взоры то на зеркало, то на Сен-Жерменский лес, раскинувшийся перед ней.
– Так она была вымочена дождем… – начала она говорить.
– Кто, государыня? – сочла нужным уточнить де Сен-Луи.
– Эта женщина… – отвечала королева презрительным тоном. – Если бы ее прогулка в лесу и не имела другого последствия, то и это уже можно считать таковым.
– Ваше величество, – позволила себе заметить д’Отфор, – вы показываете, что у вас почти нет сострадания. Говорят, она, бедняжка, вернулась совершенно в лихорадке.
– Вы некстати раздобрились, моя милая… – И, комкая еще сильнее письмо в руках, продолжала: – Думаю, Шемеро очень ее любит, – вчера, по возвращении своем, что-то очень защищала.
– Не имеет значения, какого свойства эта дружба, – возразила де Сен-Луи, – если цель ее благоприятствует вашему величеству. Можете ли вы, государыня, упрекать ее за то, что она хотела примирить графиню с мужем? Если она в том не успела…
– Конечно, судьба в том виновата! – прервала д’Отфор со смехом.
– Да, – отвечала королева, вздохнув, – но глупо думать об этом. Графиня слишком честолюбива в душе, чтобы таким образом, по глупости, потерять плоды своей пронырливости и кокетства. И оперлась головой на ладонь, погрузив локоть в подушку, – засверкали белизна и совершенная красота ее руки.
На лице ее проступило выражение кротости, столь свойственной ее характеру, и она с просительной интонацией обратилась к д’Отфор:
– Одна только вы в силах помочь нам в этом!
– Я, государыня?! Неужели я имею такую большую силу?
– Да… может быть.
Д’Отфор тотчас подбежала к королеве с веселым видом и встала перед ней на колени, показывая готовность быть ближе и выслушать ее. Королева свободной рукой стала играть прекрасными волосами своей фрейлины и гладить ее белые плечи.
– Конечно! Кроме вас никого нет! – произнесла она с улыбкой. – Эту женщину я ненавижу, боюсь ее… но вас, добрая моя Мария, не боюсь, вы любите меня более, чем можете любить короля.
– О, это правда, государыня! – И д’Отфор поцеловала руку королевы, лежащую к ней так близко.
– Итак, вам надо употребить все средства, чтобы пробудить ту склонность, которую король имел к вам, да и теперь иногда показывает.
– Что же я могу сделать?! – воскликнула Мария д’Отфор, отступив со сложенными на груди руками, садясь у ног королевы. – Государыня, после наследника наследства уже не получают. Со времени моего царствования одно уже прошло, а другое начинается. Есть ли возможность у любви умершей и погребенной бороться с юной, свежей и живой любовью! Если король, супруг ваш, еще удостаивает меня, по-видимому, некоторого внимания, то лишь для того, чтобы лучше скрыть свои намерения. Поет мне некоторые свои песни, но сочиняет их не для меня, а для другой. Поверьте, – все двенадцать подвигов Геркулеса ничто в сравнении с тем, что вы мне предлагаете!
– Вы ошибаетесь, Мария, – одну вас он всегда истинно любил. Де ла Файетт выбрал так… с досады. И несмотря на эту другую, вы еще много можете сделать, если захотите. Надо захотеть, я вас прошу об этом!
– Я сделаю все возможное, государыня, потому что вы этого требуете! – отозвалась д’Отфор с веселым и покорным видом. – Но, ради бога, если я не буду иметь успеха, чего и боюсь, не отчаивайтесь слишком! Король имеет к графине де Марильяк, без сомнения, ту же невинную и скоропреходящую склонность, что к де ла Файетт… и ко мне.
– Нет, эта может получить больше власти над его сердцем и чувствами – он беспрестанно видится с ней тайно, притом выдал ее замуж… Впрочем, что мне за дело до того, насколько невинны его склонности… У меня дело идет о правах супруги! Разве я не королева и не мать? Разве нельзя мне бояться моих врагов? Эта женщина подкуплена ими – в этом я не сомневаюсь!
– Де Шемеро уверяет в обратном, – вступила в разговор де Сен-Луи, – что графиня не имеет ни одной политической идеи в голове, – так по крайней мере она о ней говорит.
– Шемеро, Шемеро… – повторила королева печально. – Шемеро сама, может быть… – Не кончила фразы и, вынув письмо из-под подушки, хотела как будто переменить предмет разговора. – Вот письмо, написанное воровским языком, которое обязательно приказано доставить мне сегодня поутру; найдено на лестнице у кардинала, в Рюэле, почерк изменен. Но посмотрите, моя милая, – он не совсем вам незнаком; уверена.
Д’Отфор взяла письмо и прочла его. Одна доверенная особа королевы отдавала в нем отчет кардиналу на том условном языке, на котором говорили Сируа и ла Шене, о том, что происходило у ее величества. Читая, д’Отфор колебалась, назвать ли ту особу, которой, казалось, принадлежал почерк, когда поспешно вошла де Шемеро и доложила о короле. Посещение его в этот час всех удивило.
Д’Отфор, все еще державшая в руке письмо, бросила на де Шемеро особенный взгляд – и не произнесла имени автора письма[14]14
Вот это письмо: «Аврора обязала Цефала приказать Плутону не вмешиваться более в его дела с Авророй. Аврора считает себя упавшей в мнении Цефала через злые наветы, сделанные ему Оракулом. Прокрида принимает в этом участие и недовольна Оракулом как нельзя более и пр. Прокрида сказала Доброму Ангелу: “Я знаю, вы шпион Оракула; но будьте уверены: если я в этом удостоверюсь, ни с кем никогда не поступали так плохо, как поступят с вами”. То есть госпожа д’Отфор обязала короля приказать ла Шене не вмешиваться более в его дела с ней. Госпожа д’Отфор считает себя упавшей в мнении короля из-за злых наветов, сделанных ему вами (кардиналом). Королева принимает в этом участие и недовольна вами (кардиналом) нельзя более и пр. Королева сказала мне (де Шемеро)…» и пр.
[Закрыть].
Но королева угадала ее молчание и обратилась к вновь пришедшей:
– Меня уверяли, Шемеро, что вы были у кардинала. Не хочу этому верить; однако помните: если я получу доказательство, то, несмотря на всю его власть над волей короля, он не спасет вас от меня!
Защищаясь изо всех сил против этого обвинения, де Шемеро напомнила королеве, с каким усердием еще недавно служила ей и представляла все возможные доказательства своей преданности. Анна Австрийская, видимо, поверила в ее слова и дала ей поцеловать свою руку в знак примирения.
Тем не менее действительно при короле – ла Шене, а при королеве – де Шемеро, молодая, красивая, умная девушка, играла гнусную роль шпионки, возложенную на нее кардиналом; вознаграждение – обещание кардинала устроить ее будущее; бедная, без состояния, она согласилась на это из любви к Сен-Марсу, за которого надеялась выйти замуж.
Когда вошел король, д’Отфор проворно спрятала письмо в карман платья и встала, чтобы поклониться его величеству. Людовик XIII казался сначала довольно важным и задумчивым. Заговорив о прогулке в Нантер, на богомолье, он спросил у королевы, какие дамы ей сопутствуют и, просмотрев список, сказал:
– Мне кажется, вы некоторых забыли. – И назвал герцогинь Гемене и Монбазон.
– Из них, государь, – отвечала королева, – одна больна и теперь в Париже, а другая – в своих бургундских поместьях.
– А графиня де Марильяк? – Король не придавал, по-видимому, большой важности своему вопросу.
Королева покраснела, встала и промолвила гордо:
– Кто же заставит меня беспрестанно принимать ее у себя?
– Кто, сударыня? Конечно, не я. Моя рекомендация для нее не годится… Разве только потому, что графиня – жена одного из добрых слуг моих, вы поступите с ней таким образом.
– Нет, государь, не потому, что она жена де Марильяка; не та причина! – произнесла насмешливо Анна Австрийская.
– Мне кажется, – возразил король, – что в день вашего богомолья вы могли бы ласково принять ее, – так следует.
– Раз вы мне приказываете, – отвечала гордая дочь Филиппа II, – это будет исполнено, государь! Чтобы вам угодить и доказать мою покорность, я согласна даже поцеловать ее в присутствии всего двора! Чего вы еще требуете?
– Я ничего не требую, сударыня, какое мне до этого дело? Но разве нельзя мне подать вам совет, который считаю справедливым, когда я сам каждый день согласен принимать советы моих подданных?
Чтобы не возникло мысли, что он пришел только с намерением настоять на приглашении графини, Людовик XIII сел возле прекрасной д’Отфор, предложив королеве начать одевание в его присутствии, – иногда он это позволял. В то время как Филандр, первая камер-юнгфера ее величества, убирала ей голову, он любезничал с прежней своей фавориткой.
Мария д’Отфор, получившая недавно наставления, на этот раз не отталкивала его от себя насмешками, поскольку задалась целью снова приковать к себе. Веселая, благосклонная и скорее побуждаемая присутствием супруги, чем ее опасаясь, она обращалась с королем вольно, что он иной раз допускал, и разговорами своими, предупредительностью принуждала его заниматься ею.
Король осведомился как бы из любопытства, тихим голосом, что заключало в себе письмо, с такой заботливостью ею спрятанное, когда он вошел.
Не смея отвечать ему на это без позволения королевы, она, смеясь, защищалась и объявила, что ничего не помнит и не знает, куда письмо девалось. Тогда Людовик XIII, указывая на карман ее платья, возразил:
– Оно здесь.
Но она не проявляла намерения показать ему письмо; подстрекаемый любопытством, он сделал движение, будто хочет сам его оттуда вынуть. Тотчас д’Отфор встала, сама взяла письмо и, размахивая им в воздухе, убежала в галерею близ комнаты королевы. Король за ней погнался.
– Это не от маркиза ли де Жевра? – кричал он ей вслед.
– Кто же теперь думает о маркизе де Жевре?
– Покажите же мне письмо – я хочу его видеть! Я этого хочу!
– Нет, государь, вы знаете, – отвечала д’Отфор почтительно, но не отдавая письма, которое он хотел выхватить у нее, – что между нами раз навсегда положено: ваша королевская воля и власть никогда не будут вмешиваться в наши споры.
Король, однако, настаивал все сильнее и начинал даже сердиться и горячиться; д’Отфор спрятала письмо под корсет.
– Вы хотите его видеть, государь? Хорошо! Возьмите же теперь его сами! – И храбро приблизилась к нему.
Людовик, конечно, не хотел там его искать или просто не смел; смутился и перестал настаивать.
– Хорош король! Хорош влюбленный! – воскликнула д’Отфор с несколько принужденным смехом. – Поистине, государь, вас напрасно подозревают во многом, на что, думаю, вы вовсе не способны!
Когда они вернулись к королеве, ей только что принесли дофина; она показала его королю, тот поцеловал сына и удалился. Как только его не оказалось в комнате, Анна Австрийская спросила д’Отфор:
– Ну что, моя милая?
– Не на моей ли стороне правда? Его величество ничего больше ко мне не чувствует! Я зашла с письмом так далеко, как только честная девушка может зайти, но, несмотря на все мои кокетливые уловки, ему и в голову не пришло, что я желаю ему понравиться.
– Так и есть! – В чертах лица королевы появилась горькая досада. – У него в мыслях одна только эта женщина и я ее проклинаю! Не родственница ли она кардиналу?
– Говорят, государыня.
– Ему недоставало только этого родства! О, я отомщу за себя! – И, понюхав из маленького флакона спирту, чтобы прийти в себя, королева обратилась к своей камер-юнгфере, которая вошла, чтобы вдеть ей серьги:
– Филандр! Пойдите к графине де Марильяк и пригласите ее от имени короля и от меня быть сегодня в часовне Святой Женевьевы Нантерской.
Спустя два часа большая парадная карета выехала из старого Сен-Жерменского замка. Людовик XIII и Анна Австрийская сидели в ней друг возле друга, а малолетний дофин – на руках своей кормилицы Амелины, вместе с гувернанткой госпожой де Лансек. Две роты телохранителей и мушкетеров под командой Тревиля и Гито сопровождали карету.
Небольшая Пинторская церковь, посвященная Святой Женевьеве и построенная, как говорит предание, на том самом месте, где находился дом Севера и Геронсии, родителей Святой Девы, была в этот день тщательно украшена цветами; еще более – богатыми нарядными дамами, наполнявшими хоры часовни. Дары королевы были положены перед алтарем, на богатой эстраде, покрытой великолепными тканями, подаренными четырнадцать лет назад сестрой Людовика XIII. Королевские скрипачи, музыканты парижских приходов, отличавшиеся сафьяновыми отворотами, встав на своих подмостках, приготовились приветствовать прибытие их величеств.
Наконец они прибыли с обычным церемониалом, и приор монахов Женевьевского ордена вышел, чтобы поставить их под приготовленным для этого балдахином.
Лишь только Анна Австрийская сделала несколько шагов в церкви, как заметила графиню де Марильяк, разместившуюся недалеко от кресла, предназначенного для королевы. Она взошла на хоры и села возле короля. По окончании обедни дофина подвели под благословение. Анна Австрийская при этом встала и, гордо подняв голову, что возвысило еще более свойственное ей выражение врожденного достоинства, во всем богатстве своего наряда, подошла одна, твердым шагом к подножию алтаря.
Одета она была скорее по-испански, чем по-французски, и почти так же прекрасна, как когда в первый раз представлялась молодому супругу; атласное платье вышито было золотом и серебром, висячие рукава, подбитые куньим мехом, перехватывались на руках большими алмазами. Брыжи обрамляли лицо и подчеркивали гордость взгляда, умиротворяемого улыбкой; черное перо, прикрепленное украшенной драгоценными камнями пряжкой, осеняло голову, разительно контрастируя с бледно-пепельным цветом волос.
Кто наблюдал бы в это время тщательно за ее улыбкой и поступью, заметил бы в них и тщеславное торжество, и гордую решимость, не согласовывавшиеся с религиозным действием, которое она совершала. Обратившись лицом к раке Нантерской пустынницы, она подняла вверх сложенные руки и твердым голосом, выдававшим все же тайное душевное волнение, произнесла:
– Я, Анна Австрийская, инфанта Испании и королева Франции, благодарю здесь сначала Бога, а потом – мою святую заступницу, блаженную святомученицу Женевьеву, за великую милость, ниспосланную мне: я стала матерью и горжусь своим сыном как надеждой и утешением Франции – нового моего отечества!
В знак благодарности за это благодеяние, которым я им обязана, и чтобы засвидетельствовать по-христиански живейшую мою признательность, – прощаю, устами и сердцем, жесточайших врагов своих, даже и тех, которые чувствительнейшим образом оскорбили меня в сердечных моих привязанностях. И вот доказательство моей искренности, – тут она обратилась к Луизе де Марильяк, указывая на нее пальцем, – подойдите, госпожа де Марильяк, и примите от меня здесь, публично, этот поцелуй мира… и прощения!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.