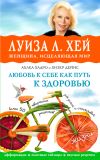Текст книги "Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)"

Автор книги: К. Сентин
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Глава IX. Тайны де Марильяка
Прошло несколько дней; Лесюёр все не переставал бродить около дома Луизы в поисках утраченного случая, но не находил его. Однажды поутру, когда он стоял в раздумье на некотором расстоянии от дома госпожи де Сен-Сернен, с балкона небольшого дома, довольно красивого, упал к ногам его букет цветов. В это время года цветы были редки… он поднял букет и ожидал, глядя вверх, что за ним кто-нибудь последует; не увидев никого, положил на подоконник и удалился.
На другой день на том же месте и в то же время ему бросили другой букет, связанный шелковой с серебром голубой лентой. Ему явилась мысль: нет ли в этом букете таинственного послания? Раздвинул цветы, развязал ленту и нашел, к величайшей своей радости, пригласительный билет на бал в Городскую думу, подписанный старшиной, купеческим консулом и господином де ла Шене, камердинером короля.
Все это непонятнее, чем прежде… Кто угадал пламенное желание, им овладевшее? Не имея еще почти ни имени, ни богатства, смел ли он ожидать быть допущенным участвовать в этом празднестве – там знатнейшие дворяне и высшие граждане, присутствует даже сам король.
И этот билет написан на его имя – «Евстахий Лесюёр, живописец»! Имя приглашенного – необходимое условие для входа; тут нет никакой ошибки – билет предназначен для него. Следовательно, в этом доме кто-нибудь его знает, но этот кто-нибудь не Луиза и не Марильяк. Он терялся в догадках; свернул билет и спрятал в самый тайный карман камзола; букет скрыл под плащом, поцеловав его прежде на всякий случай, и с радостью на лице, с наслаждением в сердце поспешно отправился на улицу Филь-Сен-Тома, где близ отеля Рамбулье жил де Марильяк.
Войдя к другу, он – живой, радостный, торжествующий, с блестящими глазами – нашел его печальным, скучным, в кресле, с кулаком под подбородком: они поменялись ролями.
Лесюёр рассказал ему о неожиданном и неизъяснимом своем счастье, заставившем прийти к нему; показал и билет, и цветы, целуя раз двадцать то и другое с восторгом ребенка.
– Понимаете ли вы, как счастлив и сколько очарований может мне доставить этот праздник в Городской думе? Всю ночь мне можно ее видеть, быть с ней, не боясь даже ее тетки, уединяться с ней от толпы! В маске все позволяется – имеешь больше смелости… замаскируюсь и опишу ей свою любовь так, как я ее понимаю!
– Да, ты счастлив, – отвечал ему задумчиво Марильяк, – у тебя в голове любовь. Это глупость, ну и что же – твое прошлое не опутало тебя цепями, которые крепче твоей воли, а будущее принадлежит тебе… Ты будешь по крайней мере мечтать о счастье, которого тебе не удастся достигнуть…
И Марильяк, проведя рукой по лбу, все с тем же скучным видом стал прохаживаться большими шагами по комнате.
– Что с вами, любезный друг? – спросил Лесюёр. – Извините, что я пришел рассказывать вам о своей радости в такое время, когда, может быть, сердце ваше чем-нибудь обеспокоено. Что же с вами случилось?
– Со мной… ничего, все то же. Это проходящее облако, – отвечал Марильяк, стараясь принять свой обычный тон беспечности, – завтра я должен явиться ко двору, вот и все!
– Ко двору?!
– Да, я должен представиться королю!
– Этим надо гордиться… надеюсь, и я скоро его увижу.
– Но ты увидишь его не по принуждению! – воскликнул Марильяк, бросаясь опять в кресло и схватившись за его ручки так, что они затрещали. – А я – по приказанию! Для меня это обязанность! Вчера кардинал вернулся из армии. Завтра мне неудобно явиться в Лувр с поклоном к моим тиранам, которые и не взглянут на меня, может быть! И это единственная благосклонность, которой я от них ожидаю, любезный мой Сюдориус!
Лесюёр, изумленный этими словами, молчал.
– Однако же я мог бы быть, подобно тебе, счастлив, – продолжал Марильяк, – но, конечно, не по-твоему: в тебе душа чиста, невозмутима… ты влюблен, как один из героев «Клелии» или «Астреи». Что касается меня, то любовь никогда не затрагивала моего сердца… но я люблю удовольствия, люблю их до страсти и неплохо распорядился бы жизнью, если бы жизнь моя принадлежала мне!
Лесюёр, удивляясь все более, оставался неподвижен и слушал друга со вниманием.
– Ты считал меня человеком недостойным сожаления, не правда ли?
– Правда, – отвечал Лесюёр.
– Это потому, что ты не видишь этой вечной угрозы, этой секиры, висящей над моей головой; не знаешь, что душа, которую дал мне Бог, живет в теле, которое не принадлежит мне! О, успокойся, Сюдориус, – конечно, у меня бывают дни радости и самозабвения, но, когда приходит в голову мысль… Ну что же, – продолжал он, встав вдруг с места, – мысль эта удваивает жар мой к удовольствиям! Завтра, может быть, тело мое будет предано в руки палачей, и, чтобы не допустить этого, я с удовольствием стараюсь наперед изнурить его, предаваясь самым гибельным страстям, бросаясь во все распутства, лишь бы освободить себя от эшафота.
– Ах, да что же это значит, что?! – вскричал Лесюёр со слезами на глазах, горячо сжимая Марильяка в объятиях.
– Ты имеешь право, любезный друг, требовать от меня объяснений. Ты вверил мне тайну своей любви – я в свою очередь обязан полностью тебе довериться. Наверно, у тебя в эту минуту в сердце слишком много сладостных мыслей и ты не будешь внимателен к моему рассказу, но, если я тебе наскучу, скажи мне или лучше притворись, будто меня слушаешь, и думай о своей Луизе!
– Марильяк, как можете вы такое предполагать?!
– О, я не стесняю тебя, мы только поквитаемся, – возразил Марильяк, придя уже в веселое расположение духа. – Поверь мне, когда ты рассказывал о своих похождениях в любви и прелестях твоей богини, я часто думал совсем о другом.
Тут он взял маленький свисток, лежавший недалеко от него, и свистнул: вошел живой, проворный, с веселым лицом молодой человек, лет семнадцати-восемнадцати.
– Синьор, – сказал ему Марильяк – по всегдашней своей привычке он давал смешные прозвища всем, с кем разговаривал, – друзьям или пажу, – подай нам стаканы и то, чем их наполнять; а когда это совершишь, ложись у порога моей двери и спи! – Этим приказанием выражалась мысль никого не впускать в комнату.
Когда паж исполнил все, что ему было приказано, Марильяк обратился вновь к другу:
– Видишь ли, Лесюёр, беседа вдвоем утомительна и без скуки не обходится. Влюбленные имеют всегда третьим лицом при себе «ту красивую птичку, у которой перья только на крыльях», как говорит Маро. Для друзей нужен стол, их разделяющий, на который они могли бы облокотиться, и вино – отличный собеседник, ибо вино составляет публику, возбуждает доверие и развязывает язык.
Когда уселись за стол, он продолжал:
– Не стану рассказывать тебе о днях моего отрочества – они были непродолжительны. В шестнадцать лет я вышел из пажей; в твои лета волонтером участвовал в сражении при Валтелине и Рошели, получил чин поручика в Вантадурском полку; наконец, служил в Пьемонте под командованием моего дяди. И вот его схватили и арестовали среди своей армии под предлогом притеснений и расточения казны – его, бескорыстнейшего из смертных! Истинное преступление дяди моего состояло в том, что он советовал вдовствующей королеве арестовать кардинала в случае, если король умрет от болезни, приключившейся с ним во время пребывания его в Лионе. Поэтому, как он говорил в своей защитительной речи, его могли втянуть только в тяжбу «о соломе и сене»! Чтобы вернее осудить, таскали его из суда в суд, избрали ему судьей Шатонёфа, назначенного вместо него министром юстиции, и не сумевшего удержаться в этом новом достоинстве иначе как через гибель обоих братьев – Лаффема и Морика, его личных врагов!
Наконец маршала перевезли… куда, как ты думаешь? В Рюэль, в дом кардинала, – в это логовище тигра! Заседатели мнимой палаты юстиции отправились туда же вслед за ним; там его судили и осудили. Горе, Сюдориус, тому, кто переступит через порог Рюэльского замка по приглашению, подписанному кардиналом Ришелье! Там друзьям нисколько не лучше, чем врагам; доказательством этого служат мой дядя и – недавний случай – Его Серое Преосвященство капуцин Иосиф, задушевный приятель Его Красного Преосвященства: он отправился туда больной, с тем чтобы поправиться… Но в Рюэле и судьи, и врачи морят человечество!
– Как, – не выдержал Лесюёр, – неужели не нашлось людей настолько и благородных и могущественных, чтобы защитить маршала?!
– Да, нашелся один. Его королевское высочество принц Гастон, находившийся уже за пределами Франции, в порыве честности грозил следователям этого дела размозжить им головы пулей из пистолета, если они осмелятся изменить правосудию. Но Гастон был в Брюсселе, а они – в Париже: пистолетные выстрелы недействительны на таком большом расстоянии.
– А что же король – король Франции?! Разве он отрекся от своего прозвания – Правосудный? Он строг, но справедлив.
– Да, к чести его и славе должен сказать, что он явил себя милостивым по-своему. Когда маршал сходил с лестницы Городской думы, чтобы идти на казнь, Тестю, начальник стражи, подошел к нему и объявил, что его величество повелел освободить его от телеги. В самом деле, эшафот был построен у самого крыльца и маршал мог взойти на него, не ступив ногой на землю, – его освободили от скуки ехать в телеге до эшафота. Маршала казнили. Брат его между тем томился в изгнании; спустя три месяца и его уже не было на свете!
Сказав это, Марильяк закрыл рукой лицо, но тягостные чувства у него недолго продолжались, он научился побеждать их; в то время, когда Лесюёр менее всего ожидал, Марильяк громко воскликнул:
– Выпьем! – И поднял свой стакан. – В память тех, кого нет в живых!
– В память их! – повторил Лесюёр, едва придя в себя из-за непредвиденного восклицания Морильяка.
– И за спокойствие тех, которые остаются в живых! Не историю моих дядей хотел я рассказать тебе, Сюдориус… нет! Приступим наконец и к моей собственной. Итак…
И далее речь его длилась долго, так что слушателю пришлось набраться терпения.
– Его высочество Гастон, поддерживаемый Испанией и предводительствуя партией недовольных, вступил в пределы Франции, – продолжал Марильяк. – Храбрый и добродушный Генрих Монморанси, маршал Франции, сын и внук коннетаблей, обольщенный просьбами молодого принца, способствовал ему в его намерениях и возмущал провинцию Лангедок. Он думал только о благе государства, а я… я хотел отомстить за своих дядей, вооружиться против этого врага, принудившего меня пропеть «вечную память» всей моей фамилии… И вот вантадурские солдаты следуют за мной. Я спешу соединиться с армией принца и по дороге без всякого приказания, путем нечаянного нападения, поддержанного несколькими жителями, овладеваю городом Фавио. Нас принимают как освободителей, угощают – мы не против. В продолжение двух дней мы наслаждались всяческим обилием, музыкой, танцами… Старшины от имени города поднесли мне три тысячи пистолей в благодарность за то, что я освободил их от королевского гарнизона. На эти деньги я великодушно устроил для них великолепный праздник, длившийся сорок восемь часов; в продолжение его я заставил плясать всех хорошеньких горожанок. Начало не слишком плохое, не правда ли?
Помолчав немного, он возобновил свой рассказ:
– Я уже начинал находить междоусобную войну вещью довольно приятной. Но по прибытии моем к Гастону увидел в лагере его большой беспорядок – дело перед Нарбонной не удалось, всякий старался переложить на другого причину неудачи, жаждал быть главнокомандующим. Пюйлоран, любимец принца, завидовал Монморанси, герцог д’Эльбёф отказывался служить под его начальством, а Монморанси был душой армии: событие должно доказать, что без него она не существует. Чтобы усмирить раздоры между полководцами, Гастон собирал их у себя за столом и заставлял чокаться между собой, однако ссоры на другой день возобновлялись. Ночь проводили в пьянстве, день – в спорах. Между тем приближалась королевская армия… И вот наконец мы встретились с ней под стенами Кастельнодари.
Он опять умолк, видимо, вспоминая.
– Хотя ты был тогда еще юн, Сюдориус, но не можешь не знать плачевной развязки этого предприятия. Вступив в дело первым, оставленный теми, кто должен следовать за ним, благородный Монморанси, не думая о том, что лишен всякой помощи, бросается в массу королевской армии, опрокидывает первую шеренгу, отчаянно пробивается через эскадрон жандармов, среди шпажных ударов и пистолетных выстрелов, и, получив уже десять ран, разрывает шесть рядов гвардии и убивает двоих в седьмом ряду. Клянусь моей матерью, я желал бы умереть возле, защищая его! – воскликнул Марильяк в душевном волнении, которое легче преодолевал, вспоминая о катастрофе своих дядюшек. – Столь же добрый, как и красивый, Монморанси, быть может, единственный между нами принял участие в этой войне из чувства великодушия, а не для мщения. Ах, зачем не умер он от своих ран?! Но нет, небо позволило кардиналу Ришелье приобрести эту славу – снять с плеч знаменитейшую голову в королевстве, голову победителя Вельяна и Казаля. В один и тот же год, тысяча шестьсот тридцать второй, пали под ударами секиры два маршала Франции… Увы, ничто не спасло Монморанси! Тщетно сестра его, принцесса крови Конде, падала к ногам кардинала. Тот играл комедию: жалел принцессу, плакал, но не отменил смертного приговора. Напрасно герцог Орлеанский, примирившийся с братом, обнаруживал свое отчаяние и даже произносил угрозы; бесполезно весь двор, как один человек, падал к стопам короля, вопия о прощении и милосердии. Король был непоколебим – слыша вопли и стоны целого народа, раздававшиеся на улицах, площадях и дорогах, по которым проезжал; непоколебим, имея в руках у себя смертный приговор, который сами судьи омочили своими слезами! Людовику Тринадцатому, чтобы стеречь Монморанси, пленника, в Тулузе, требовалась армия многочисленнее той, какая нужна была, чтобы его победить… И в день, назначенный для казни, во всех церквах его королевства раздавался предсмертный колокольный звон; все его подданные, католики и протестанты, толпились в храмах и вне храмов, моля Бога за Генриха Монморанси и негодуя на короля Франции.
Выразив негодование свое так сильно и пространно, что вовсе было ему не свойственно, Марильяк опять встал с кресла, не в силах скрыть живейшего душевного беспокойства. Изумленный Лесюёр со вниманием смотрел на друга, увидев в нем нечто новое.
– Вы так добры и чувствительны… я угадал вас и за это-то и люблю!
– Ах, как бы ты его любил, если б знал, как я! Это был человек, ценивший удовольствия и войну, неустрашимый воин, добрый христианин, хороший игрок… Да, мой друг, он обладал всеми добродетелями и достоинствами, присущими совершенному дворянину!
Марильяк восхищался своим героем, как Монтень – Парижем и объявил Лесюёру, что после рассказа о Монморанси не смеет уже говорить о самом себе.
Лесюёр, однако, просил его продолжать.
– Нет, Сюдориус, что моя жизнь в сравнении с его жизнью?! Что значат мои беды в сравнении с его несчастьями?! Остановимся на этом и выпьем лучше в память Монморанси! Кстати, у меня есть и вино, соответствующее этому обстоятельству… виноградные лозы, с которых оно получено, еще растут в окрестностях Тулузы.
По знаку, данному свистком, вбежал паж.
– Эй, синьор! Мою единственную бутылку Брюйерского! Я хочу осушить ее сегодня, чтобы у меня не оставалось более вина, которое напоминает столь страшные события. Оно шестилетнее, – прибавил он, рассматривая цвет вина, когда «синьор», возвратившись из погреба, наливал его в стаканы, – и я сам видел кисти винограда, из которых оно выжато… Там, у часовни Богородицы Брюйерской, пока Монморанси ожидал приговора, мы – офицеры армии его высочества, – встречаясь друг с другом переодетыми, с тем чтобы возмутить народ и с помощью его освободить маршала, но, отчаявшись в этом преуспеть, составили заговор против кардинала… замысел безумцев!
– Да, – отвечал Лесюёр, – кардинал окружил себя, говорят, ротой гвардейцев и ходит всегда в кирасе.
– Самая прочная его кираса, Сюдориус, – кардинальская ряса! Потому-то мы после и отказались от своего намерения; но сначала, в первом порыве ненависти, чтобы прочнее скрепить верность друг к другу, мы подписали обязательство – подписали его своей кровью! – и отслужили обедню в часовне. Нас было тринадцать – число это влечет за собой несчастья… Между нами был изменник! Хотя мы и оставили потом свои намерения, но письменного нашего обязательства уже не нашли – оно оказалось в руках кардинала.
– «Кардинала»?! – повторил со страхом Лесюёр.
– Да, в руках кардинала.
– И что же после? – В чертах Лесюёра ясно выражалось пламенное желание узнать развязку таинственного повествования.
– «После»? В самом деле, – отвечал Марильяк, – благодаря Монморанси и Брюйерскому главный предмет сего повествования сблизился с вступлением к нему, и окончить его мне тем легче.
Он опорожнил стакан, который все еще держал в руке, и продолжал:
– Узнав о смерти герцога, его высочество от гнева и отчаяния удалился опять в Нидерланды, куда я имел честь сопровождать его за свой счет, потому что казна его, равно как и армия, исчезла. Итак, я жил там своими способностями и своим кредитом – таким, что он мог открыть мне двери дома призрения бедных. Я хотел уже решиться вступить в шведскую службу, когда его королевское высочество помирился со своим братом; амнистию объявили всем, кого он увлек за собой, и они стали виновными только из повиновения его приказаниям. Заметь хорошенько, Сюдориус, конец этой фразы – принц сделал меня уязвляемым, им же меня и поразили. Почти всех лангедокских бунтовщиков хорошо приняли при дворе. Пюйлоран получил даже титул герцога и пэра, и кардинал женил его на одной из своих родственниц, мадемуазель де Пон Шато, что не воспрепятствовало ему вскоре посадить его в Венсеннскую тюрьму, где он и умер. Боже нас сохрани от родственниц кардинала-герцога! Другие заняли свои прежние места и обрели достоинства, а я снова начал свою бродячую, разгульную жизнь, не имея никакой должности. Продал все остававшееся у меня наследство, и только трефовый валет утешал меня в несчастье. Спокойствие мое было непродолжительно: однажды поутру, когда, напроказив в городе, я возвратился домой, меня схватили стрелки, посадили в карету, и я очутился вместе с Пюйлораном в Венсенне, где очень боялся кончить жизнь свою, подобно ему. Сперва я думал, что дело шло только об оторванных вывесках, разбитых стеклах и опрокинутых фонарях, и ожидал, что меня потребуют в Шателе, но нет!
При этих словах лицо Марильяка внезапно омрачилось.
– То, что мне остается сказать тебе, Сюдориус, должно навсегда остаться тайной между тобой и мной – слышишь ли? – И он умолк в ожидании.
Лесюёр положил руку на сердце, и Марильяк заговорил вновь:
– Никто на свете не знает и не должен знать, какие узы связывают меня с этим демоном! Я обещал об этом молчать… и обещал тому, кто жестоко отомстит, если я не сдержу слова.
– Если так, – отвечал тронутый Лесюёр, протягивая ему руку, – храните вашу тайну – не потому, что я выдам ее, но вы стали бы, может быть, этого бояться, и это увеличило бы ваше беспокойство.
– Клянусь богом, ты все узнаешь! Я нуждаюсь в друге, перед которым мог бы мечтать вслух. Итак, слушай же! Ты помнишь тот день, когда в Париже поднялся общий крик ужаса: «Корбия взята! Корбия в руках испанцев!» Это было три года назад. В то время как наши силы были заняты в Италии и Бургундии, кардинал-инфант Жан де Вер и Пикколомини, найдя границу Пикардии открытой, овладели постепенно Капелью, Шателе, Руа, наконец, Корбией и оттуда грозили столице, где ужас затуманил всем головы. Отряды Краватов (или Кроатов) дошли до самых ворот Парижа, принеся с собой бедствия и… новую моду. Против них могли выставить только небольшое войско, и потому всякий кусок дерева превращали в стрелу; лакеи и подмастерья стали солдатами, метелки – пиками; каждый дом выставлял пехотинца, у каждых ворот находился кавалерист – к этому обязывали. Ты видел это, без сомнения, лучше меня, Сюдориус, – стены Венсенна не так тонки, как кружева, и почти не отражают эхо парижского шума. Но этим воинам из черни недоставало офицеров – их искали повсюду, даже в тюрьмах.
В один прекрасный вечер, когда я спал на своей скверной постели, мечтая о роскоши, триктраке и милых девушках, визгливый голос вскричал мне: «Вставайте и ступайте за мной!» Это был какой-то чиновник Министерства юстиции. Подъемные мосты опустились перед нами, и я считал себя уже свободным. Мы сели в карету, и она с довольно почетным конвоем отвезла нас в Малый Люксембург, где жил в то время кардинал-герцог. Я немедленно явился к нему; он стоял в своей поповской рясе, с гордым видом поглаживая усы. Хотя я немного оробел, но хотел его гордости противопоставить свою и готовился уже спросить у него о причине несправедливого заключения меня в тюрьму; но тут он сухо и коротко сказал мне: «Вы заслужили смерть, господин Марильяк, смерть позорную как изменник королю; если я пошлю вас в палату военного суда, что и обязан сделать, выйдете вы из нее, только чтобы отправиться на Гревскую площадь или на перекресток Святого Павла с веревкой на шее!»
Можешь себе представить, Сюдориус, как остыла гордость моя от такого начала. «Ваше преосвященство, – отвечал я ему, – разве я не включен в амнистию, как всякий другой?» – «Нет, милостивый государь, вы из нее исключены, потому что овладели городом Фавио, не имея на то приказания принца!» – «Это объявил сам его высочество?» – возразил я с большим беспокойством. «Если его высочество оправдает вас под клятвой, чего я не предполагаю, никто не осмелится подвергать сомнению его слово». Я перевел дух – дверь спасения для меня открылась! Но кардинал захлопнул ее очень скоро. «Если вы не будете осуждены на смерть за преступление и измену королю, то будете – за намерение убить его министра. Откажетесь ли вы, милостивый государь, от своей подписи?» – И пальцем показал мне имя, написанное моей кровью на роковом обязательстве, заключенном у Брюйерской часовни. Я поник головой и ничего не отвечал.
Несколько минут смотрел он на меня своим взором гиены, потом заговорил: «Слушайте меня внимательно: вы виновны в двух преступлениях, из которых и одно заслуживает тысячу смертей. Вы должны умереть! Однако мне тяжело видеть кровь еще одного Марильяка, текущую по эшафоту, – я хочу избавить вас от этой позорной казни! Вы сами совершите смертный приговор над собой». О, если б ты знал, Сюдориус, что сделалось со мной, когда прозвучали эти слова!
Художник молчал, пот струился по лбу его.
– Подождав немного, – продолжал Марильяк, – кардинал завершил наконец так: «К Парижу приближается неприятель. Назначаю вас капитаном роты волонтеров, которые отправляются для освобождения Корбии, находящейся во власти испанцев. Идите сражаться, милостивый государь, и постарайтесь, чтобы вас убили, – я вам это приказываю!» – «Благодарю вас, ваше преосвященство, что вы избрали для меня по крайней мере честную смерть – смерть солдата», – отвечал я ему. Кардинал потребовал от меня честного слова дворянина, что я не буду уклоняться от казни бегством, и я дал ему это слово.
– Какой ужасный договор! – воскликнул Лесюёр, всплеснув руками. – Что же вы сделали, чтобы освободиться от него?
– Ничего, мой друг! Договор все еще продолжается; я тебе сказал – жизнь моя мне не принадлежит. Я сделал все, чтобы повиноваться данной мне инструкции и буквально ее исполнить. Злой рок беспрестанно отнимал у меня к тому средства. Прибыв к Корбии, узнал я, что неприятель, оставив в крепости гарнизон, удалился и находится в трех лье оттуда. Желая скорее покончить с собой, я под предлогом приучить своих людей к войне, получил позволение преследовать неприятеля.
У меня была сотня пикнеров, которые, разумеется, не понимали ни одного слова команды, с полсотни мушкетеров, столько же пищальщиков, которые обжигали себе пальцы, прикладывая к курку фитиль, – да и неудивительно: всех этих бедняг недавно набрали в лавках и мастерских Парижа. Стремительно обогнув опушку леса, увидели мы вдруг эскадрон испанских кавалеристов, отступавших тихим шагом.
«Ребята! – сказал я своим солдатам. – Древний закон наказывал смертью всякого, кто сдавался или обращался в бегство, пока у него цела правая рука и жива лошадь. Но у вас нет лошадей и вы левши на обе руки. Итак, если хотите, – то вперед! Если нет, – назад, в свою очередь!» И я, хорошо вооруженный, понесся во всю прыть на испанскую кавалерию, – если оставят меня мои новобранцы, паду под ударами множества неприятелей, подобно благородному моему начальнику Генриху Монморанси. Однако нет – парижане мои были храбры по природе и любили меня, сам не знаю за что. При виде опасности, которой я подвергался, они испустили страшные крики и бросились со всех ног ко мне. Вскоре, соединившись со мной посреди испанцев, смело вступили они, в простых своих плащах, в бой с воинами, которые защищены были крепкими кирасами, – кололи и рубили во все стороны, дрались, как на поединке, с бешенством, как будто получили от кардинала такое же приказание, как я. Неприятель, думая, что они надеются на близкую помощь, пришел в страх от такой горячности и обратился в бегство… И вот я вернулся в лагерь перед Корбией жив и здоров, ведя за собой шестеро пленных… Слушай меня – пики вперед! Мушкетеры, заряжай! И выпьем испанского вина за здоровье моих парижан!
– О, от всего сердца! – отозвался в восторге художник. – Никогда так не гордился и не был так счастлив тем, что родился в Париже!
– Что мне еще сказать тебе, любезный мой Рафаэль? – продолжал Марильяк. – Случаи умереть с кинжалом в руке представляются не каждый день! Неприятель отступал все далее, город не шевелился. Граф Суассон и герцог Орлеанский, командовавшие армией, приглашали меня участвовать в своих удовольствиях. Терпеливо я переносил жизнь свою, выжидая средства покончить с ней. Каждое ядро осажденных готов был принять на себя, но ядра взрывали передо мной землю или перелетали через мою голову. Наконец мне представилась надежда кончить свою жестокую комедию: испанский гарнизон вздумал предпринять сильную вылазку из Корбии. Полетел я навстречу, едва одетый, без панциря и оставив в своей палатке, как будто в спешке, свой нагрудник с набедренниками. В таком виде, только с суконной фуражкой на голове, бросился я на неприятеля из своего ряда как ошпаренный, защищая лишь инстинктивно собственную жизнь, предавши ее на волю Божью. Потом, чувствуя, что изнемогаю, лишаюсь чувств, прочитал «В руце Твои…» и упал… Очнувшись, увидел, что лежу в поле, окруженный мертвыми телами… С трудом открыл глаза: лошадь мертва подо мной, шпага в крови до самого эфеса… Стал звать на помощь, но никто не отвечал мне; пробовал подняться, не надеясь, однако, что это удастся, – разбитый, весь в лохмотьях, облитый кровью. Жизнь хотела, казалось, вылететь из моего тела двадцатью отверстиями разом. Я искал на себе раны, чтобы сосчитать их и удостовериться в своем жребии, – проклятие, кровь не моя, Сюдориус, я даже не был ранен!
– Это похоже на чудо… не было ли на вас какого-нибудь талисмана?
– На мне был крестик, последний дар моей матери, – верь или не верь в его действие. Ты знаешь, что я набожен именно настолько, сколько нужно, чтобы думать, что никогда не поздно таковым стать. Однако весь тот день я верил этой святыне, как верил матери, когда был ребенком. Итак, придется начинать сначала… На другой день узнал: траншеей овладели до самых стен крепости и решили идти на приступ. Я обрадовался: чтобы избавиться от эшафота, рассчитывал уже на кипящее масло, гранаты и взрывы… Но меня преследовало несчастье: город, как нарочно, капитулировал.
– Слава богу! Не вижу только, почему это событие наводило на вас печаль, – сказал Лесюёр. – Что же кардинал-то об этом думал?
– По освобождении Корбии он осмотрел армию; проезжая по рядам, увидел меня на своем месте, во главе оставшихся моих парижан, и, остановившись вдруг передо мной, с удивлением и неудовольствием произнес: «А, вот и вы!» – «Поверьте, ваше преосвященство, что я в этом не виноват!» – отвечал я ему, и он поехал далее. После этого он, кажется, забыл обо мне, не теряя, однако же, меня из виду – наш кровавый договор сделал меня его рабом. По его приказанию мне следовало прибывать к нему в определенные сроки – поэтому-то завтра я должен явиться ко двору. Там должен ему напоминать, что жертва всегда готова, коли ему вздумается поразить ее.
Теперь понимаешь, Лесюёр, мою тоску сегодняшнего утра? Постигаешь мысль, которая среди самых сладких удовольствий оледеняет вдруг мою душу?.. Все вы свободны, молоды, веселы… составляете планы своего счастья… Господь Бог волен, без сомнения, уничтожить вас, ну а меня… меня погубить может злая воля одного человека. Какая же цель остается мне в жизни, каково мое будущее? Какие там планы – настоящая минута едва ли принадлежит мне… Могу ли мечтать о честолюбии и почестях – я, для кого единственная перспектива впереди – эшафот? Можно ли мне жениться? В день свадьбы вот-вот придет повеление умереть… Да спасут меня святые угодники Божьи! Ну, допьем же это вино, настоянное на пряных кореньях… в честь… моей цветущей старости, ибо я, может быть, старее, чем думаю.
Лесюёр подставил свой стакан и, когда он наполнился, со скорбью на лице, со слезами на глазах вскричал:
– За смерть кардинала!
– Молчи, безрассудный! – Марильяк, удержал его руку. – Выплесни это вино – оно обожжет тебе горло, если выпьешь! Отрекись от этого слова – оно не сообразно ни с твоим характером, ни с твоими правилами, такими кроткими и непорочными! Нет, не хочу, чтобы из-за меня ненависть поселилась в твоем влюбленном сердце! Выплесни это вино! – Отняв у него стакан, вылил вино в золу камина.
Потом с улыбкой, показавшейся на его переменчивом лице, продолжал:
– Может быть, Сюдориус, я и не так достоин сожаления, как в минуту мрачного расположения духа казался самому себе. Жизнь, если ей грозит опасность, подобна любовнице, которую подозреваешь в неверности: еще больше ее любишь и ценишь ее прелести. Кардинал – ну что же? Он научил меня дорожить минутами жизни, ему обязан я тем, что так хорошо ими пользуюсь. Разве невозможно, что в глубине своего сердца он уже простил меня? По-видимому, это доказывается реальностью…
Итак, успокойся, любезный мой Рафаэль! Неужели я так несчастлив? Не обладаю ли я железным здоровьем, так что не боюсь ни разгульной жизни, ни докторов; не довольно ли у меня ума в голове и радости в сердце, кредиторов, полных ко мне доверия; любовниц, обожающих меня, когда игра мне благоприятствует, и друзей, которые меня любят, неважно, есть у меня деньги или нет; не имею ли я, наконец, единственного друга и он отказывается иногда участвовать в моих удовольствиях, но всегда готов разделить мое горе и облегчить его? Не так ли все это, Сюдориус?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.