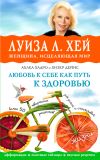Текст книги "Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)"

Автор книги: К. Сентин
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Глава VIII. Завтрак зрителей
В большой галерее нового замка два человека, занятые производством работ по части живописи, которые Людовик XIII приказал исполнять в Сен-Жермене, разговаривали между собой вполголоса, и время от времени старший начинал хохотать громче, чем произносил слова. Это были Симон Вуэ, первый живописец короля, и ученик его, уже получивший звание художника, Евстахий Лесюёр.
– У тебя есть тут, при дворе, славное знакомство, советую тебе этим хвастаться, – говорил Симон Вуэ. – Да, такое знакомство хорошо, черт возьми! Он в милости, камергер, граф… и много еще что!
– Как, в самом деле, он женат? – спросил Лесюёр. – А его жена, говорите вы?..
– Его жена также выдана замуж, – прервал Вуэ, громко засмеявшись, – да, выдана… только вдвойне, с правой и с левой сторон. Граф Марильяк будет тебе хорошим покровителем, и его супруга… – И снова засмеялся.
Лесюёр, как бы увлеченный примером учителя, улыбался при каждом шутливом слове, сказанном о графе Марильяке.
– Бедный граф! – сказал он. – Впрочем, меня это не слишком удивляет – он ни во что не верил, даже в саму любовь!
– Ну ее, любовь! – отвечал Вуэ. – Я в этом отношении совершенно одного с ним мнения – не верю в нее более… Запах хорошего жаркого куда скорее вскружит мне голову, чем сладкий голосок какой-нибудь хорошенькой девушки.
– Жена Марильяка, без сомнения, хорошей фамилии, из хорошего дома?
Лесюёр не подозревал, что ответ может быть для него громовым ударом. К счастью, старик Вуэ не мог в подробностях рассказать ему о жене Марильяка.
– Всегда те дома бывают хороши, которые доставляют нашим королям вкусную дичь, но что касается родословных, то я обращаю внимание только на те, которые сплетаются с моей родословной, а так как мадам эта, вероятно, не принадлежит ни к роду Вуэ, ни к роду Бистуристов, ни к роду Ганделю, то мне и дела нет!
Лесюёр погрузился на некоторое время в раздумье. Он думал о странной судьбе Марильяка, своего друга, прежде столь веселого, откровенного; сожалел о бесчестии, которое падало на него вследствие того, что он стал мужем подобной женщины. Но через несколько минут лицо Лесюёра стало более веселым и он, оставив мысли обо всем плохом и порочном, стал восторженно думать о Луизе.
«Если она так мне доверяла, – говорил он сам себе, – значит, она еще свободна, сердце ее пока не занято. Преграда, которая была между нами, все та же, что прежде: Луиза дворянского рода… Что ж, своей работой я могу заслужить впоследствии громкое имя и стать богатым… Если мне понадобится дворянское звание, то я буду его иметь – я куплю его!
Узнав, где живет Марильяк, Лесюёр отправился к нему. Увидев его, Марильяк вскрикнул от удивления и радости; но мгновенно пришедшие ему в голову мысли о жене заставили спросить:
– Что вам угодно?
– Я думал найти здесь друга, прежнего моего товарища, но вижу… я ошибся. Прощайте! – И хотел удалиться.
Марильяк остановил его и протянул руку.
– Нет, Сюдориус, ты не ошибся – в горе я и не узнал тебя.
– А я подумал, вы отдалились от нас. – Лесюёр внутренне был рад, что отношение Марильяка к нему нисколько не охладело, и отвечал дружелюбно: – «В горе»? Разве вы не радуетесь вашему счастью? Я всюду слышу, что вы счастливы. Теперь вы богаты, в милости…
– Да, мой друг, благодаря матери! Я бы согласился, впрочем, лишить себя богатства, почестей, не быть графом Марильяком, а просто Евстахием Лесюёром. Да, верь мне, я охотно променял бы свою судьбу на твою, свое имя – на твое!
– А я так с удовольствием принял бы все это, – признался молодой человек, – быть богатым, иметь высокое звание… Но чего вам еще желать, граф?
– Не правда ли, ты находишь во мне большую перемену? Да иначе и быть не могло! Когда мы расстались, ты помнишь, я был беден, был игрок… И не заманчива ли фортуна, которую ищет себе человек, на нее надеется, и она снова покидает его, как изменчивая красавица. Так и со мной: мне было худо… очень худо! Но я пренебрегал смертью точно так же, как своими долгами, забывал кредиторов. Сказать правду, гордился даже своей беспечностью, веселой, разгульной жизнью. Наконец, – прибавил он, поникнув головой и как бы с раскаянием, – я был тогда… холостой. Теперь вовсе не то!
– Я знаю это, – отвечал Люсюёр, – эта новость нисколько меня не удивляет.
– А тебе говорили о моей жене? – возразил граф, пристально посмотрев на него. – И что же тебе сказали?
– Что она… хороша собой, – отвечал, несколько заикаясь, художник.
– Да, мой друг, очень хороша! – Потом, вздохнув, продолжал: – Надеюсь, ты сказал бы что-то, если бы ее видел, – уверен. Но она теперь далеко… в деревне, проживет там еще долго, надеюсь, – воздух при дворе показался ей вредным. Впрочем, что об этом говорить… не сегодня, в другой какой-нибудь день. Будем опять чаще видеться и заживем по-прежнему – по-дружески! Ты не завтракал? Эй, Синьор!
Паж вбежал в комнату, накрыл на стол – серебряный сервиз, хрустальные стаканы, бутылка дорогого вина, разные закуски – и принялся прислуживать. Лесюёр вытаращил глаза от удивления при виде такой роскоши – никогда прежде не было ее у Марильяка.
– Ты удивляешься моему богатству, не правда ли? – сказал ему граф. – Сам иногда удивляюсь… знаешь, я всегда любил серебряные деньги, и сейчас они не потеряли для меня своего номинального значения – пистоль и есть пистоль, а экю и есть экю… Я теперь не играю более! И тогда только вполне доволен, когда могу их предложить друзьям. Говори, Рафаэль, будь откровенен со мной, – продолжал он более ласково, – весьма счастлив оказать тебе в чем-либо услугу. Поездки всегда разорительны, ты, конечно, вернулся с пустым кошельком… могу тебе его пополнить.
Лесюёр поблагодарил графа за лестное к нему внимание и стал еще смелее в своих надеждах – друг таков же, каким он знавал его прежде.
– Черт возьми! – Марильяк с гневом разрезал кусок дичи, которая, казалось, сопротивлялась ножу. – Серебряные блюда нисколько не делают, кажется, старую дичь мягче. Как попал этот бекас на мою кухню, Синьор?
– Он получен с последней охоты короля, ваше сиятельство, – отвечал паж.
– Убрать его прочь – пусть жарится! – И стал вдруг задумчив и озабочен.
Потом, как бы желая скорее выйти из этого состояния, заговорил об изящных искусствах, расспрашивал Лесюёра о новых его работах и по старой привычке – о его любовных интригах.
Молодой художник поднял голову – для него наступила, казалось, минута, когда он готов был решиться поверить другу все, что замышлял в будущем, но присутствие пажа стесняло его. Более того, он не знал, как бы лучше приняться за свой рассказ, – ведь он дал Луизе клятву ничего не узнавать о ее участи.
– Вина! – произнес повелительно Марильяк.
Когда Синьор исполнил его приказание, он сказал:
– Провозглашаю тост в честь новой возлюбленной!
Друзья чокнулись стаканами, и Лесюёр, нагнувшись к графу, сказал едва слышно:
– За ее здоровье, ибо она одна только у меня на уме!
Граф вопросительно взглянул на молодого художника и поставил свой стакан на стол.
– Все за нее? Ну хорошо – за ее здоровье!
– За здоровье Луизы! – провозгласил Лесюёр.
– За здоровье Луизы! – повторил Марильяк и залпом выпил свой стакан. – Так ты еще любишь ее? – Марильяк с сожалением взглянул на Лесюёра.
– Я не переставал любить ее…
– Тем хуже для тебя!
– Как, – воскликнул Лесюёр, как будто забывшись, – неужели правда, что она замужем? О нет, нет, не может быть, этот брак не состоялся…
– Впрочем, – отвечал Марильяк с некоторой иронией, – очень может быть, что она осталась девицей.
– Но разве вам ничего не известно? Разве вы не имеете никаких сведений насчет…
– Ты не пьешь, Сюдориус, – прервал Марильяк с видимым равнодушием.
Лесюёр взял машинально стакан и выпил, не понимая, что делает, и как будто для того, чтобы Марильяк не упрекал его.
– Граф, если вы что и знаете о Луизе, – умолчите! Я поклялся свято хранить ее тайну.
Марильяк, сжалившись над молодым человеком, чье смущение увеличивалось, не хотел сначала пускаться в дальнейшие объяснения насчет Луизы; но, движимый любопытством, вызванным в особенности последними словами живописца, не удержался и попытался узнать более:
– Кому ты обещал? Кому ты поклялся?
Лесюёр молчал.
– Кому ты дал клятву? – повторил граф.
– Луизе, – вымолвил наконец Лесюёр.
– Так ты виделся с ней? – произнес Марильяк с несколько смущенным видом.
– Да, я ее видел… и благословляю случай, который позволил мне увидеться с ней! Я видел ее всего один раз! Но…
– Но что?..
– Я еще увижусь с ней, уверен; она мне дала слово. – И глаза Лесюёра заблестели вдруг, оживились от любви и счастья.
– Она тебе ничего не говорила про себя?
– Ничего, да я не хочу и знать про ее судьбу… а если и узнаю, то от нее самой.
– Стало быть, она тебя еще любит? – Граф со вниманием следил за всеми движениями молодого художника; подумал с минуту и прибавил: – Ну что ж, тем хуже!
Слова эти смутили сначала Лесюёра, но потом он успокоился. Граф, казалось, слушал его с большим вниманием – каждое его слово. Лесюёр долго размышлял – что сказать своему знатному другу – и наконец попросил, воспользовавшись минутным отсутствием пажа:
– Ах, если бы вы согласились содействовать мне, граф, – ничего более не желал бы!
– Как, чего тебе еще недостает?
– Вы мне сами напомнили… да, так… я стал честолюбив – хочу быть дворянином… поверите ли мне? Не обвиняйте меня в гордости и в смелости мыслей, друг мой Марильяк! Моими художническими трудами я могу снискать себе славу и громкое имя… но не на собственные заслуги рассчитываю я, не на талант свой, не на маленькую известность мою – нет! Я не достигну с их помощью желаемой цели… Но через вас, благодаря дружескому содействию… вашему покровительству!
– Вы рассчитываете на меня, Лесюёр?
– Король дает дворянство по своей воле, кому захочет, – продолжал молодой человек с увлечением. – И мне говорили, что король для вас сделает все. Будьте моим ходатаем перед ним – скажите, что дело идет о счастье… а быть может, и о жизни одного из его верноподданных… предоставьте мне случай увидеть короля. Я паду перед ним на колени, буду просить, умолять его дать мне дворянское звание, дабы можно мне было жениться на Луизе!
Как ни странно и дико прозвучало для Марильяка это желание Лесюёра, однако он не удержался от смеха, смешанного с некоторой иронией. «Черт возьми, жениться на моей жене, – сказал он себе, – да еще через мою протекцию!» И, обратившись к Лесюёру, продолжал:
– Мы обо всем этом поговорим после, Сюдориус. Не жалуйся только на свою судьбу! Если я сравню ее с моей, то…
– Ах, – воскликнул Лесюёр, прерывая речь Марильяка, – почему вы не нашли девушки такой, как Луиза?!
– «Как Луиза»… – повторил Марильяк.
Последние слова художника легко рассмешили бы всякого на месте графа, но он удержался на этот раз от смеха, принял суровый вид и, облокотившись обеими руками о стол, заговорил, нахмурив брови:
– Ты, кажется, соболезнуешь мне, Лесюёр? Да, ты вполне можешь жалеть меня, если я решусь открыть тебе все тайны моего сердца. Слушай и не обвиняй свой слух в неверном отголоске слов, ибо то, что я буду говорить тебе – чистая правда! Скажу тебе, Сюдориус, что я, как и ты, люблю… что я влюблен! И можешь ли ты понять, какое значение имеет для меня это слово, «любовь», – для меня, который никогда никого не любил?! Но ты молодой еще человек – знал ли ты любовь? Нет, ты показался, поднял к небу глаза – и тебя полюбили, не так ли? А я, твой наперсник, твой товарищ и друг, не понимавший святости этого чувства, – я отвергал твою любовь, внутренне смеялся над тобой, я был безжалостен… Теперь твоя очередь, Лесюёр, – не имей ко мне сожаления, будь и ты со мной безжалостен! О, я не только влюблен, но люблю без ума, до ревности люблю… а между тем нелюбим той, о которой ежечасно думаю и страдаю… Я ненавидим… о боже мой, я ненавидим! Впрочем, я заслужил эту ненависть, я стою того! Думал иметь одного соперника – теперь имею двоих… Положение мое таково, что из всех людей, на которых мог бы обратить свой гнев, эти два человека составляют невольное исключение. Против них я и с силой бессилен, на них не поднимется рука моя! Обоим моим соперникам я обязан почтением – по долгу и по совести! Ну, отвечай же теперь, Лесюёр, говори: находишь ли ты мою судьбу такой, какой можно позавидовать?
Лесюёр оставался на месте безмолвный, неподвижный, едва веря тому, что слышал. Марильяк встал и, быстро отодвинув от себя стол в другой угол комнаты – все поставленное на нем едва не полетело на пол, – сказал взволнованно:
– Довольно об этом… мне нужно подышать воздухом, я задыхаюсь здесь – выйдем!
Чтобы выйти из зала, Марильяк повел товарища через длинные коридоры и разные потаенные двери. Из них одна выходила на большую галерею Аполлонова зала; здесь Лесюёр остановился и стал с любопытством рассматривать картины, живописные и резные украшения, медальоны, висящие между колоннами… Вдруг внизу послышался шум; он взглянул туда, и зрелище, которое представилось глазам, произвело на него впечатление столь же сильное, как и коллекция картин.
Королева в этот день назначила прогулку в лес в сопровождении статс-дам и фрейлин свиты; для отъезда всей свите предстояло собраться в Аполлоновом зале молчания. Хорошенькие особы эти находились уже в зале; их легкий, важный говор, шорох шелковых платьев, грациозность и роскошная изысканность нарядов привлекли внимание художника.
Глядя на этих дам и сравнивая их с грациозными девушками, которыми недавно любовался в липовой аллее Благовещенского монастыря, Лесюёр невольно вспомнил о Луизе, о счастливом будущем, которое как будто улыбалось ему. В то время как Лесюёр думал о Луизе, Марильяк думал о своей жене, – то есть тоже о Луизе, – которая, как он считал, все еще живет в монастыре. И оба они, без сомнения, задавали себе вопрос: если бы Луиза явилась вдруг среди этого собрания очаровательных дам, была бы она красивее всех?..
В это время большая боковая дверь зала открылась, вошел камердинер и доложил громко:
– Графиня де Марильяк!
При этом имени все дамы заговорили, как бы с удивлением, между собой и все обернулись в одну сторону.
– Уйдем! – Марильяк схватил друга за руку и отвел к дверям.
Но Лесюёр, удерживая его, с живостью возразил:
– Ведь это ваша жена – разве вы не слышали? Стало быть, она вернулась?.. Мне хочется на нее взглянуть… – И, любопытствуя посмотреть на ту, которая сумела воспламенить холодное сердце Марильяка и приковать к себе монарха, бросился к балюстраде.
В ту самую минуту графиня де Марильяк вошла в зал. Лесюёр посмотрел – и в глазах у него потемнело, взор омрачился. «Луиза!..» – прозвучало в сознании; он переменился в лице, побледнел и, указывая на нее пальцем, воскликнул:
– Да это она! Она, Луиза!..
– Да… Луиза де ла Порт, моя жена, – отвечал Марильяк, освободившись наконец от бремени, лежавшего на сердце.
Преисполненный жалости, стыда и угрызений совести, он силился поддержать несчастного, которого жизнь, казалось, хотела оставить. Лесюёр оттолкнул его, но почти без негодования – силы души и тела ослабли при этом неожиданном ударе и, слабый, дрожащий, почти лишившись чувств, он удалился: с этой минуты он перестал верить и в любовь и в дружбу, потерял все надежды на будущее свое счастье.
Этот момент стал торжеством для Луизы. Королева вошла в зал почти вслед за ней и приняла ее весьма ласково: благодаря письму де ла Файетт узнала, что графиня де Марильяк стала с этого времени ей предана и расположена сочувствовать ее интересам, коли придется действовать против кардинала. Пусть все дамы свиты Анны Австрийской видят – значение графини при дворе с этого дня восстановилось.
Глава IX. Больной
В своей квартире в доме на улице Коломбье, Жанна ла Брабансон, в утреннем неглиже, лежала на широком, обитом шелковой материей диване, подобрав под себя ноги и подложив под голову руки и, казалось, с удивительным равнодушием слушала яростные упреки Эдмонда-Франсуа де ла Шене.
– Вернуться домой в три часа ночи! – говорил он. – И вы думаете, что я стерплю такое?! Не хотите даже сказать мне причины такого позднего возвращения!
– Зачем вам говорить? – отвечала Жанна, спокойно глядя на ла Шене. – Если скажу, вы еще больше рассердитесь.
– А, так вы сознаетесь! Вы мне изменили, вы обманываете меня!
– Мне вас обманывать? Боже меня сохрани, никогда и не думала! Не так уж я завишу от вас, чтобы не могла по своему желанию вас оставить, зачем же мне вас обманывать?
– Это бессовестно! – говорил ла Шене, с гневом ударяя кулаками по креслу, на котором сидел, повернувшись почти спиной к ла Брабансон. – Меня оставлять, уходить от меня – вот какую награду я заслужил! Вы забыли, сколько я для вас сделал, когда, терпя нужду и голод, вы пришли ко мне и просили помочь вам?
– Я просила вас подать мне хлеба, больше ничего, об остальном почти не заботилась, сударь, – отвечала Жанна тем же спокойным голосом. – Вы хотели видеть меня в нарядных платьях; чтобы угодить вам, я их надевала, потому что обязана была быть вам благодарной и послушной, как моему покровителю. Но, сказать правду, эти нарядные платья сначала меня стесняли, я к ним мало привыкла – не носила. И как сожалела тогда о моем платьице, в котором всегда ходила! Теперь не скажу этого – люблю наряды, охотно украшаю свою ночную прическу перьями, чтобы быть более интересной во время сна.
– А кто же дал вам все эти убранства, все эти наряды? Кому обязаны вы тем, что одеты ныне в шелк и бархат… неблагодарная?!
– Я обязана всем этим удовольствию, которое вы ощущаете, видя меня хорошенькой и пригоженькой, – с наивностью отвечала Жанна, – а кроме этого удовольствия, еще вашему тщеславию, которое берет в вашем сердце верх над всеми чувствами, когда вечером вы говорите своим приятелям: «Эта хорошенькая девушка, которая вам столь по вкусу, – эта девушка знаете ли кто? Моя принцесса!» Поэтому, сударь, я долго молила Бога, дабы Он продлил вашу жизнь… и сохранил в вас эту склонность к тщеславию!
– «К тщеславию»! – повторил ла Шене, быстро повернувшись вместе с креслом к Жанне и бросая на нее взоры, исполненные гнева. – Разве я из тщеславия меблировал вашу квартиру, куда никто не ходит? Из тщеславия придал ей вид более благородный?
– Да, в мою квартиру, кроме вас, никто, конечно, не ходит…
– Разве я из тщеславия, – продолжал взволнованный ла Шене, – подарил вам на днях триста экю?! Что вы на них сделали? Куда их девали? Об этом также вы настойчиво решили не говорить! Хотите, вероятно, заставить меня думать, что вы их отдали вашему отцу?
– Господь с вами, господин ла Шене! – воскликнула Жанна. – Дать триста экю моему отцу! Что вы?! Вино еще не так дорого, чтобы я могла сыпать на него столько денег!
– Я ли еще для вас мало сделал?! Я, кажется, всегда исполнял ваши желания, ваши маленькие прихоти! И разве я делал все это из одного только тщеславия? Нет, это из любви, из глупой любви к вам, – любви, которой я сам стыжусь!
– Ах, – воскликнула ла Брабансон, приподнимаясь с дивана и пристально посмотрев на ла Шене, – наконец-то я дождалась доброго слова! Вы теперь стыдитесь вашей привязанности ко мне… вы, не правда ли, раскаиваетесь, что употребили во зло вашу власть над бедной, неопытной девушкой, которая хотя и страдала от голода, но не любила вас, не могла любить вас… Что вы ее как бы принудили отдаться вам – вам, который мог быть ее отцом! Если это заставляет вас краснеть за вашу любовь ко мне, то… поздравляю вас!
– Как, что такое?! – Ла Шене оскорбили последние слова Жанны, выражавшие явную насмешку над его преклонными летами; он с живостью повернул теперь свое кресло прямо к Жанне. – А, так вы меня не любили?! Стало быть, вы любите другого! Не отговаривайтесь, пожалуйста, я очень хорошо это знаю! – И, выходя все более из себя, распаляясь от собственных слов, продолжал тоном влюбленного ревнивца и оскорбленного благодетеля: – Так вот отчего, милая, вы не ночевали сегодня дома! А, понимаю! Но вы забываете, что принадлежите еще мне, что вы покуда еще у меня, да! Это неблагородно… низко! И поэтому я… выгоняю вас!
Соскочив тотчас с дивана, на котором сидела, Жанна, нисколько не переменившись в лице и голосе, сказала:
– Если вы меня гоните, я уйду… сейчас же уйду!
Постояла некоторое время неподвижно перед ла Шене, потом, оправив платье и разровняв на нем складки, подошла к зеркалу и оглядела весь свой туалет; с тем же спокойным видом проследовала к другому углу комнаты, чтобы взять мантилью и накинуть на плечи.
Углубившись в кресло, ревнивец ла Шене с поникшей головой следил за ней исподлобья, с трудом веря такой смелой решительности, такому внезапному расставанию с ним. Но когда увидел, что она подошла к дверям и, взявшись за ручку, сказала с легким реверансом: «Прощайте, сударь!», он, смущенный и еще более взволнованный, повернулся к ней, так что кресло описало почти правильный круг по полу, и произнес голосом, выражавшим скорее просьбу, чем гнев:
– Жанна!
Но девушка была уже на улице; она пошла скорыми шагами и не замедлила оказаться у дома на улице де ла Гарп, выходившей на улицу де ла Паршеминери…
И вот уже ла Брабансон, нарядившись как нельзя лучше, отправлялась в Кур-ла-Рен, окруженная толпой щеголей, приставших к ней по дороге и засыпавших ее комплиментами. При повороте к Тюильрийскому валу Жанна увидела проходившего мимо нее молодого человека: лицо бледное, худощавое, в одежде заметен беспорядок, и она покрыта пылью – следствие продолжительного пути; это был Лесюёр, возвращавшийся из Сен-Жермена.
На сей раз знатным дамам не показалось оскорбительным пребывание Жанны в Кур-ла-Рен, а потом – в той самой мастерской, по стольким причинам хорошо ей знакомой. Всеми силами старалась она утешить молодого художника, хотя не знала еще истинной причины его печали. В своем роскошном наряде, с золотыми украшениями на шее и с перьями на голове – сама, казалось, не обращая на все это никакого внимания, – она стала вдруг горничной, сиделкой при больном, служанкой. Поднималась и спускалась по лестнице, бегала по соседям, из одного дома в другой, чтобы найти доктора, лекарства, помощь больному… Дело в том, что, вернувшись к себе на квартиру, Лесюёр, изнуренный усталостью и горем, полностью лишился сил.
Продолжая навещать его, Жанна явилась на другой день в своем прежнем платье, которое носила в то время, когда была его натурщицей. Боясь за больного, она, прежде чем открыть дверь в его комнату, прислушалась и, полная беспокойства, не могла объяснить себе причины какого-то однообразного, регулярно повторяемого шума, который раздавался оттуда. Наконец она вошла – и встретилась лицом к лицу с мадам Кормье: снова принявшись за свои обязанности, та, с метелкой в руке, уже трудилась у картин и других вещей своего питомца. Добрая мать-кормилица прибежала из Нантера, чтобы ухаживать за больным сынком своим, оставив столетнего старца и своих мальчишек на попечение соседки.
При виде Жанны она, несколько удивившись, бросила вопросительный взгляд на молодого человека, лежавшего в постели в углу комнаты. Заметив, что с приближением Жанны он немного приподнимается с постели и встречает ее внимательным и благодарным взглядом, Магдалина Кормье снова принялась за свое дело – продолжала обметать в комнате пыль, расставлять мебель, стараясь не поворачиваться лицом к пришедшей, которой даже не хотела поклониться.
Между тем показался доктор: он осмотрел больного, выписал длинный рецепт на латыни и удалился, покачав головой, что крайне встревожило обеих женщин. Действительно, Лесюёр находился в опасном состоянии. Тайна, открывшаяся ему столь неожиданно на галерее Аполлонового зала, сделала его добычей сильной горячки, угрожавшей переброситься в голову. Ученый доктор сказал, чтобы больного не оставляли ни на минуту без присмотра. Добрая Кормье, вспомнив тогда пословицу «береженого бог бережет» и не вымолвив ни слова, указала Жанне пальцем на рецепт, который та поспешила отнести в аптеку.
Вечер и часть ночи прошли в неусыпной заботливости обеих женщин о больном, хотя обе за это время не произнесли опять-таки ни слова. Только когда Лесюёр в сильном припадке горячки вскрикивал, как бы пораженный каким-то горестным воспоминанием, и та и другая отвечали ему на это дружным, согласным вздохом или становились вместе на колени перед образом, прося усердно Бога облегчить его страдания.
Несмотря на давнишнюю глубокую ненависть, которую чувствовала Магдалина к Жанне, между ними установилась дружеская, хотя и безмолвная связь во всем, что касалось ухода за больным. Они поочередно подавали ему пить или сидели у его изголовья, отирая холодный пот, выступавший на челе. Время шло, наступала уже ночь, но ни та ни другая не отходили от страдальца. Магдалина, которую стали одолевать сон и усталость, начинала признавать пользу присутствия Жанны: искала в мастерской удобное место, где можно отдохнуть, а помощница ее, она куда как моложе, посидит при больном. В скором времени Кормье, развалившись в широком, древнего образца кресле, заснула крепким сном.
Лесюёр тоже как будто притих: лежал неподвижно, закрыв глаза, и с улыбкой на губах бормотал какие-то неясные фразы, – можно было разобрать только слова «живопись» и «любовь»; казалось, сон овладел им, а грезы стали для него приятны.
Сидя на маленьком табурете, облокотившись на колени, Жанна рассматривала больного при слабом свете лампады: каковы же причины болезни и того сильного отчаяния, в котором она видела его накануне… Вдруг больной зашевелился, вскочил на постели, открыл глаза и начал озираться вокруг, но не замечал, однако, предметов, его окружающих. Горячка бросилась в мозг – он издавал неистовые восклицания и попытался соскочить с постели… Жанна сколько у нее было силы схватила его обеими руками – только бы не дать ему сойти с кровати…
– Ах, оставьте меня, не троньте меня… – говорил он слабым, умоляющим голосом. – Марильяк… друг мой… посторонитесь, пожалуйста! Эта колонна мешает мне их хорошенько рассмотреть… Как они милы, очаровательны – все эти женщины! Как грациозны их шаги! Каким благоухающим воздухом дышит все здесь! А вот эта, другая, которая входит в зал… о, она лучше, красивее всех! Это моя Луиза… Луиза, которую я так люблю!.. Но какое же имя дали они ей? – Потом, судорожным движением опершись на худощавые руки, он вдруг опустил голову и глаза его, распаленные внутренним жаром, с любопытством уставились в пол… Потом он снова стал вскакивать, потрясать руками и испускать раздирающие сердце крики:
– Луиза! Луиза замужем!.. Она любовница короля!.. Она, моя Луиза!.. Нет! Нет! Я злословлю! Ах, убейте меня!.. Убейте меня!.. Не нужна мне жизнь! – И после такого сильного бреда несчастный снова опустил в изнеможении голову на подушки.
Через некоторое время он начал понемногу приходить в себя и повернулся лицом к Жанне… Она-то знала уже теперь тайную причину его болезни, и он, найдя ее в слезах, стоящей перед ним на коленях, вдруг узнал ее. Жанна утерла слезы и, дружески улыбаясь, пожимая ему руки, старалась придать своим словам как можно больше уверенности:
– Вас обманули – вы можете еще любить и уважать Луизу! – Но голос ее дрожал и прерывался. – Нет, Луиза не то, что вы думаете… она не любовница короля… она никогда не была ею!
Лесюёр поспешно отодвинулся к стене и устремил на Жанну болезненно проницательный взгляд.
– Кто мог открыть вам то, что у меня на душе, – никому я еще не доверял моих тайн?..
– Вы сами про все сказали, господин Лесюёр, – вы открыли свою тайну во время сна. Хорошо еще, что вы высказали ее передо мной, ибо я могу вас успокоить: те, кто говорил вам об этом, солгали!
– «Солгали»… – проговорил сквозь зубы больной.
– Да, – отвечала с твердостью Жанна, – солгали, я в этом уверена! Не предсказывала ли я вам все те огорчения, к которым вы сами себя исподволь готовили? На этом большом городском балу, когда вы с трудом слушали бедную Жанну, – помните ли, у стены, за оркестром, – не предсказала ли я вам великие будущие несчастья, как какая-нибудь искусная колдунья… Я знала, чего от Луизы хотели, и знаю даже, что с ней случилось!
– Каким же образом вы можете все знать про Луизу? Кто давал вам знать про нее? Скажите мне, Жанна!
Девушка смутилась и опустила глаза в землю; чтобы убедить Лесюёра в справедливости своих слов, ей надо сослаться на ла Шене, произнести его имя… она не решилась на это перед молодым человеком.
– Если бы я мог верить, что это только сомнение! – вскричал с отчаянием Лесюёр. – Но нет, это невозможно! Тот, для кого она отвергла меня, кому теперь жена, – он также, может быть, хорошо все знает! Жанна, – продолжал он голосом более слабым, – если вы не хотите, чтобы я умер, не говорите мне больше о Луизе… прошу вас!
Жанна горячо приняла к сердцу эту просьбу больного – она замолчала; но в то же время ей пришел в голову один план, и она решила его осуществить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.