Текст книги "Честное слово"
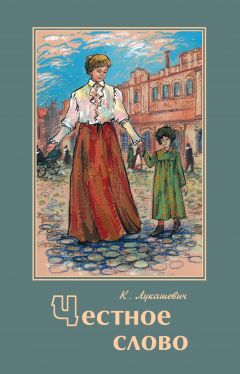
Автор книги: Клавдия Лукашевич
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
VI
Прошёл целый год. Уроки рисования шли своим чередом; их одинаково жадно ожидали и учитель и ученица: их сблизила любовь к искусству. Кронид Иванович приложил тут все свои знания: он обдумывал уроки, готовился к ним, выписывал книги и безгранично радовался успехам Тани. Помимо занятий он никогда не бывал у Королёвых и на приглашения всегда находил отговорки.
В первое время знакомства Кронид Иванович старательно подыскивал темы для разговоров с ученицей: он передавал девушке вычитанные из газет истории, по большей части страшные, или рассказывал сны, в которых часто фигурировала она.
– …И вижу я, душечка, будто вы стоите на скале, на берегу моря, в каком-то необыкновенном сиянии, волосы у вас распущены и развеваются по ветру, взор устремлён вдаль и вы говорите волнам о той дивной картине, которую собираетесь писать… Речь ваша так красноречива, так вдохновенна.
– Я-то уж мало похожа на ту фею! – шутила Таня.
– Учитесь, Татьяна Вадимовна… Перед вами широкая дорога, благородное поприще, а может быть, и слава…
Таня привыкла к своему учителю, относилась к нему сердечно и встречала приветливо, несмотря на всеобщий отзыв, что Кронид Иванович – человек злой, жадный, бессердечный; девушку привлекала необыкновенная правдивость, честность его и прямота.
«Может быть, и вся жизнь-то его была несчастливая», – думала Таня, и ей становилось жаль его.
Мало-помалу разговоры между учителем и ученицей перешли на более живые темы: на искусство, литературу и даже на личную жизнь.
– Меня интересует всякий человек, – говорила Таня. – Если было бы возможно заглянуть в душу каждого, проследить жизнь и всё записать. Это была бы великая книга.
– Если стоит жить, – возражал Сомов, – то никак не для людей… Жить стоит ради науки, искусства, великих открытий.
– Кто может, пожалуй… Но это как-то мёртво! Всё-таки ближе всего живые существа…разве у вас, Кро-нид Иванович, нет родных или друзей?
– Нет! – резко отвечал Сомов и тотчас переменил разговор.
– Знаете ли, Татьяна Вадимовна, как только я разбогатею, оставлю свои гимназии, устрою прекрасный тарантас, возьму помощника и поеду по всей Сибири. Вы здесь новичок и представить себе не можете, что за редкостная, разнообразная и красивая флора в Сибири и на Амуре. Я буду рисовать встречающиеся по пути деревья, плоды и цветы; к каждому рисунку составлю подробное описание и издам роскошный художественный атлас! Нравится ли вам мой план, Татьяна Вадимовна?
– Да, конечно, – задумчиво отвечала Таня; но этого ей казалось слишком мало для жизни и счастья.
Случилось как-то, что Кронид Иванович заболел и пропустил несколько уроков. Таня взволновалась: ей представлялось, что её учитель лежит больной один, всеми забытый, и что некому не только сказать ему слово, но даже подать стакан воды.
Девушка написала записку, в которой выражала своё участие и желание быть чем-то полезной. Она попросила няню сходить к Крониду Ивановичу и отнести ему варенья и бутылку крепкого бульону…
Арина скоро вернулась сильно раздражённая.
– Никогда больше к нему не пойду!.. Люди-то, матушка, врать не станут… Вот неблагодарный человек!.. Барышня к нему с доброй душой, а он, накось… Насупился, что зверь… «Мне ничего не надо!.. Мне это стеснительно… и незачем». Тьфу, какая злоба у человека!
Нянька расходилась и долго ворчала; из её воркотни Таня поняла, что Кронид Иванович не принял присланного гостинца и был недоволен посещением старухи. Однако Таня не обратила внимания на слова своей няньки; она решила, что Кронид Иванович просто стесняется, и упросила отца навестить его.
– Сходи, папочка, так жаль его!.. Ведь он один-одинёшенек…
Кронид Иванович очень удивился и сконфузился, открыв дверь инспектору.
– Моя дочка тревожится о вас, коллега, – сердечно сказал Вадим Львович,
– Право, я не стою такого внимания… Как-то ко мне оно не подходит, да и ничем не заслужено, – с горькой усмешкой отвечал Сомов.
– Каждый человек, Кронид Иванович, заслуживает внимания.
«Что они за люди? И что я им такое? Почему это внимание?» – рассуждал сам с собою Кронид Иванович и ловил себя на том, что, несмотря на протест, всё это было ему приятно.
Когда Сомов пришёл после болезни на урок, Таня встретила его с радостью.
– Наконец-то! Как долго я вас не видела! Очень соскучилась, и мне чего-то не хватало…
– Это вам только так кажется, Татьяна Вадимовна, – иронически улыбнулся Кронид Иванович.
– За что вы меня обижаете таким недоверием?
– Простите, но невероятным кажется мне, чтобы моя персона могла для кого-либо что-нибудь представлять, – отвечал Сомов и помимо воли почувствовал в душе благодарность за сердечные слова милой девушки.
Прерванные уроки пошли своим чередом.
Вадим Львович Королёв с дочерьми и со знакомыми по вечерам очень часто отправлялись за город. Они переезжали на «самолёте»[9]9
«Самолёт» – паром.
[Закрыть] через реку и уходили в горы, где было так хорошо, тихо, привольно.
Во время одной из таких прогулок, далеко от города, взобравшись на самую высокую гору, они встретили Сомова, одиноко бродившего по лужайке с огромным букетом в руках.
– Наш Крокодил?! Вот чучело-то! И как нейдёт к нему букет, – шепнула на ухо Тане Марина.
Та взглянула на неё укоризненно.
– «Есть одиночество в глуши… вдали людей, вблизи природы!» – воскликнула Таня, припомнив чьи-то стихи и приветливо подходя к своему учителю.
– Разве вы тоже гуляете так далеко? Я не ожидал вас встретить, – растерянно проговорил Кронид Иванович, здороваясь со всеми.
– А вы думаете, что это ваша привилегия уединяться? – пошутил Вадим Львович.
– Пойдёмте-ка с нами: мы вас арестуем и не отпустим. Паром пустим. Будет вам прятаться в свою раковину, – и Королёв взял под руку Кронида Ивановича.
– Видите ли, душечка… мне уже домой пора… и давно… Уже сыровато становится.
Он чувствовал себя смущённым и не знал, куда девать руки с букетом.
– Какой у вас дивный букет! Сейчас видно, что его делал художник, – сказала Таня, стараясь вывести из смущения своего учителя.
– Это я для себя… уверяю вас, для себя, – как бы оправдывался Кронид Иванович.
– Вы, наверно, очень любите природу?
– Созерцание природы – это великое наслаждение… Сколько тут гармонии, величия, прелести, поэзии! Природу не все могут постигнуть, – серьёзно и насупившись отвечал Сомов.
Марина, шедшая несколько поодаль с сёстрами Тани, очевидно, делала насмешливые замечания по поводу каждого слова Кронида Ивановича. Девочки смеялись. Таня обернулась и строго посмотрела на них. Смех затих.
– Вы правы, Кронид Иванович, – говорил Королёв, – кто не сжился с людьми, тому надо уходить в горы, в леса, в глушь…
– Там покой и тишина… Там всё проще, ближе к Творцу вселенной, – как бы про себя проговорил Сомов.
Марина не могла удержаться от смеха.
Таким образом разговаривая, они дошли незаметно до дома, где жил инспектор. Тут уже, несмотря ни на какие отговорки, Сомова не отпустили, и молодёжь насильно затащила его пить чай.
Кронид Иванович сначала стеснялся, но хозяева были так просты и радушны, что он почувствовал себя хорошо и даже шутил с девочками, которые показывали ему свои тетради, книги, игрушки.
Расставаясь, Королёвы настойчиво звали его ещё и ещё.
– Вы мне скажите, что вы любите из кушаний, – я вас угощу… Я очень люблю угощать! – шутливо говорила Таня.
– Право, не стоит. Я человек неинтересный, – возражал Сомов.
– Позвольте уж нам об этом судить, – заметил Вадим Львович.
– Приходите к нам без церемоний. Мы вам всегда рады, – ласково ещё раз сказала Таня.
Кронид Иванович шёл по тёмным улицам и враждовал сам с собою: «Пустяки… Прочь соблазны… И зачем надо было мне соваться с своим знакомством к инспектору? Конечно, меня терпят там только из любезности; со мной им скучно, я для них ничто…»
А в это время Таня горячо спорила с Мариной.
– Ну, и тоска же с этим Холодным сердцем! И зачем вы его, Танечка, зазвали к себе? Такой неинтересный, противный, – Не говорите так, Мариша; он хороший, правдивый. Нельзя ему отказывать в участии и ласке.
– Да, Танечка, вы, российские, снисходительнее нас, сибиряков… Мы если не любим, значит уж без пощады…
– Как это жестоко! – заметила с грустью Таня.
VII
С Сомовым происходило что-то непонятное.
Он перестал всецело увлекаться своими молчаливыми друзьями – предметами редкостей.
Может быть, действительно, в неаполитанском мальчике-рыбаке не столько было экспрессии, чтобы по целым часам любоваться им! Или в бронзовых подсвечниках времён Людовика XV недостаточно строго был выдержан стиль! Кронид Иванович последнее время редко брал их в руки, редко даже обтирал с них пыль.
«Тоскливо, тоскливо жить на свете! Для чего жить? Что делать? – рассуждал сам с собою Сомов. – Что могло бы теперь порадовать? Пожалуй, одно… одного бы я ещё желал, чтобы жива была мать. Я бы её поберёг… Бедная так и не знала в своей жизни красных дней; кажется, никогда не была сыта, пригрета…»
Целыми вечерами бродил Кронид Иванович по комнатам и думал, думал без конца… Вся его жизнь проносилась перед глазами, жизнь тяжёлая, неудачная, одинокая… Ему вспомнилось далёкое детство.
Бедная мастерская портного в провинциальном городке. Мрачный, сырой подвал; мало света, мало воздуха. Писк детей, крики и брань сгорбившейся исхудалой женщины: она стирает бельё и поминутно даёт подзатыльники пристающим к ней ребятишкам.
– А, чтоб вас… Надоели!.. Не смотреть бы на всё… – шепчут бледные губы.
– Мамка, Васька у тебя копейку стащил и подсол-нушков купил… Пусть он мне даст подсолнушков…
– Вот я ему, чертёнку…
Раздается звонкий шлепок и рёв Васьки.
– Ай, дербень, дербень, Калуга,
Дербень, Ладога моя…
Пропадай, моя телега…
Все четыре колеса… —
послышался с улицы пьяный громкий голос. Дверь распахнулась, и показался человек, который шатался из стороны в сторону.
– Несчастный! Опять напился! – воскликнула женщина, всплеснув руками.
– Я не несчастный… а портной Сомов… Понимаешь, женщина?
– Креста на тебе нет, бесчестный ты человек! Дети не евши сидят… А ты что?! – вскрикнула, заплакав, жена.
– Кронька, ступай за водкой! – закричал отец.
Мальчик, сидевший до тех пор за шитьём, поджав ноги на окне, и не принимавший никакого участия в том, что происходило дома, как мышонок шмыгнул на улицу. У него не было денег на водку, но был повод выбежать из подвала.
Выбежав, он потянулся, расправил усталые члены. Это был некрасивый мальчуган, большеголовый, бледный, с красными глазами.
Кронька бросился, как стрела, по улицам, добежал живо до серого невзрачного домика в одной из глухих улиц города и словно прилип к стене, заглядывая с замирающим сердцем из-за угла.
У окна сидел иконописец и писал образ. Иконописец уже второй год работает у этого окна. Кронька уже второй год из-за угла следит за каждым образом, который выходит из его мастерской. Они не знают друг друга. Но живописец этот – любимый Кронькин человек в городе… К нему рвутся все помыслы маленького портного, из-за него не раз горят его уши и трещит от колотушек голова.
Кронька смотрит, как пишет молодой человек, а сам рукой по воздуху водит; сердце его бьётся. В глазах встает дивный, никем дотоле невиданный лик святого… Кронька глаз не спускает с заветного окна… и задумывается…
– Дяденька, а, дяденька… – решается он, наконец, окликнуть, – сделай ты святому отцу правую щёку потемнее.
Живописец от неожиданности уронил на пол кисти и палитру и рассердился…

– Вон пошёл, пострелёнок!.. – крикнул он, захлопнув окно.
Огорчённый Кронька убежал в самую дальнюю улицу. Там было тихо: ни извозчика, ни пешехода, ни собаки даже. Мальчуган достал из своих рваных штанишек уголь и вообразил себя живописцем.
Вдохновенье преобразило черты юного живописца, он забыл всё на свете.
– Ах ты, мразь! Вот кто заборы-то пачкает… – вдруг раздался над ухом живописца злой, задыхающийся голос… Чьи-то костлявые руки держали Кроньку за шиворот…
– Вот тебе!.. Вот тебе, дрянной мальчишка!.. Я тебя проучу… – и старик в халате здорово оттрепал художника.
Кронька жил двойной жизнью. В действительности побои, голод, ненавистная работа, отвратительная игла, которую он часто ломал, противные материи, которые он нарочно портил… А в мечтах он был живописец точно такой, как и тот, любимый… О, эти чудные, несравненные картины, которые проходили в его воображении: эти лики святых, необыкновенные цветы, портреты, голубые небеса, зелёные деревья по берегу рек. Кронька убегал на улицу и пропадал надолго, чертил на песке, на заборах, везде, где только возможно было что-либо изобразить.
Мальчугана измучила неудовлетворённая жажда рисовать, и все его мечты сводились к желанию иметь карандаш и кусочек бумаги, о красках же он мечтал, как о недосягаемом блаженстве.
Он похудел и побледнел: его страсть оказалась сильнее его, и с внутренним трепетом он стащил у отца гривенник, купил бумаги и карандаш и рисовал запоем, задыхаясь от волнения. Бумага вышла в тот же день, понадобился опять пятачок… Дома узнали… Мало того, что Кронька дармоед, лентяй, он ещё и вор…
– Сокрушу… убью негодяя! – кричал разъярённый пьяный отец.
Пусть больно голове, пусть горят уши, пусть вся спина в синяках, – мальчуган не унывал. В Кроньке теплилась искра Божия, жила и росла могучая любовь к искусству, совсем не сродному ножницам и игле…
Кронька счастлив… Он познакомился с живописцем…
Притаившись в его мастерской, он слушает о Петербурге, о выставках, об академике. О счастье! О радость! Настал незабвенный день: в руках у мальчика краски, кисти, даже полотно, которое натянул его новый друг. Кронька рисует первую картину. Это была зима. На первом плане деревья были маленькие, а чем дальше, тем больше, краски лежали так высоко, что кидали сами от себя тени… Но Кроньке была дорога эта мазня; он любил этот рисунок, как нечто одушевлённое.
Иконописец не мог учить своего молодого друга; он был заурядный, бесталанный богомаз. Хорошо и то, что в его сердце нашлось тёплое участие к бедному мальчику.
Подученный живописцем, Кронька пришёл раз домой и бросился в ноги отцу.
– Батюшка, отпусти меня в Петербург учиться, – взмолился он.
– Ах ты, балбес… Подумайте… в Петербург… учиться… Чему?.. Чему, я тебя спрашиваю, лентяй, дармоед?..
– Рисовать, – робко произнёс Кронька.
Отец залился грубым смехом… Даже мать улыбнулась.
– Погоди, я тебе нарисую узоры, дармоеду… Садись за иглу…
Прошёл ещё год. Та же мастерская… Плач ребят, брань измождённой женщины. Только жизнь стала невыносимее. На Кроньку дома рукой махнули, как на пропащего: он всё портил, всем был в тягость.
Как-то вечером вошёл отец: он был мрачен, но не был пьян.
– Вот тебе, Кронид, паспорт… Вот тебе пять рублей денег… Ступай на все четыре стороны. Ты нам не ко двору… Тебе тринадцать лет, и пора думать о себе самому…
И больше ни слова. В их среде не водилось ни прощаний, ни нежностей.
Мальчик не спал целую ночь; думал, мечтал и слышал, что в комнате рядом тоже кто-то возится, не спит…
Утром, на заре, он ушёл из дома, где он доставлял всем только горе. Он вышел без грустного чувства, не сознавая, куда и на что он идёт.
Дошёл мальчик до угла своей улицы. Тишина невозмутимая, весь город спит. Слышит: кто-то за ним бежит, догоняет, кличет по имени, да так, как его ни разу никто ещё не называл:
– Кроня!.. Кронечка!..
Обернулся… Мать торопится, запыхалась… Подошла и обняла… Суровая, неласковая женщина заплакала.
– Вот тебе, голубчик Кроня, узелок… Тут образок, кое-что из белья, еда, денег немного… Прощай… Христос с тобой… Боюсь, отец увидит…
Она порывисто перекрестила, поцеловала мальчика и без оглядки побежала домой.
Кронид стоял, как очарованный: что-то новое, неизведанное, сладкое охватило его… Уж не вернуться ли?
«Нет, вперёд, вперёд!..» Добежал он и до серого дома, где впервые увидел свет, обнял своего друга-иконописца и заплакал.
– Не падай духом, Кронид… Всё твоё счастье в труде… Терпи и борись… иди неуклонно к цели. Многие начинали, как ты!.. – сказал тот ему на прощание, дал немного денег, дал бумаги, красок.
До Петербурга мальчик добрался где по железной дороге, где с обозами, где пешком.
Очутившись один в большом суетливом городе, он растерялся и, остановившись на постоялом дворе, рассказывал о своём намерении. Все только смеялись над ним, бранили, предлагали поступить лучше в мастерство.
Подошла зима. Кронид походил на самого отчаянного оборванца. В один из холодных пасмурных дней он пробрался на людную улицу и решился обратиться к прохожим. Он выбрал одну молодую даму, которой лицо ему показалось добрым.
– Барыня, а, барыня…
Она строго взглянула на него.
– Как тебе не стыдно! Большой мальчишка и попрошайничаешь, а не работаешь!..
– Барыня, я хочу научиться рисовать…
– Погоди, вот я городового позову, он тебя в участок заберёт, – и барыня прошла мимо, шумя шёлковым платьем.
Мальчик отошёл… Вот когда стало ему жутко. Что теперь делать? Никто не станет слушать его. И он горько упрекал себя, что ушёл из родного города.
Прижавшись к большому каменному дому, он бесцельно устремил в пространство тупой, озлобленный взор и горько задумался.
– Мальчик, что ты как смотришь? – окликнул его чей-то голос. Кронид вздрогнул: перед ним стоял высокий старик в хорошей шубе.
– Ты плачешь? Ты озяб, голоден? Отвечай же скорей, мальчик!
– Барин, я хочу выучиться иконы писать… Я пришёл издалека…
– Какой ты странный! Пойдём ко мне, там поговорим…
Они пришли в богатую квартиру, и Кронид откровенно всё рассказал о себе. Старик пожалел его, принял в нём участие, обул, одел, выучил…
В гимназии, куда его определили, он делал огромные успехи. Школа его облагородила, внушила правила чести… А дома он был одинок. Старик был очень занят, важная семья не любила нищего, взятого с улицы.
Когда умер старик-благодетель, то юношу без сожаления отправили на все четыре стороны. Но теперь он стоял уже на ногах и пропасть не мог. Он чувствовал в себе силу и знал, что любовь к труду поможет ему выбиться на дорогу. Гимназия приняла в нём участие.
Наступил, наконец, счастливый и радостный день. Кронид поступил в Академию художеств.
Академический курс Кронид Иванович Сомов прошёл так, как проходят его все бедняки: уроками и работой поддерживал он своё существование, а если этого не было, то часто утолял голод одним чёрным хлебом. Поселился он за гроши на каком-то чердаке. Кроме того, что было на нём, другой одежды не имелось. А тут ещё гордость ложная: не хотел перед товарищами казаться нищим…
Встанет до свету, перечинит кое-как платье, помоет с трудом бельё, оденется наскоро, да и бежит в академию, работает с жаром, с увлечение. Из академии – вёрст за пять к богомазу, корпит за 30, за 40 копеек над образами, вечером опять в академию. Так тянулись многие годы.
VIII
– Кронид Иванович, у меня к вам есть небольшое дело… Помогите, если можно… Такое тяжёлое положение, – сказала Таня своему учителю за одним из уроков. Всё время она была молчалива, задумчива и рассеянна.
– Чем могу служить, Татьяна Вадимовна?
Девушка достала какой-то лист бумаги.
– Вот каково моё дело… Вчера у одной бедной женщины случилось несчастье: прибежала она к нам на кухню – волосы растрёпаны, на самой лица нет, прилегла на стол головой и не плачет, а кричит каким-то диким голосом. У меня даже ноги подкосились; думаю: «Верно, что с ребятишками её случилось». Спрашиваю: «Что ты, Ульянушка, что у тебя случилось?» – «Всё, – говорит, – барышня, украли, всё до ниточки». Знаете настоящее время: вернулись с приисков рабочие… Среди белого дня дети Ульяны куда-то ушли, а из её каморки воры всё вытаскали. Ну, разве это не ужасно – обидеть такую несчастную! Она работает целыми днями и зарабатывает, конечно, гроши. Правда, невелико богатство, но ведь этот скарб она приобретала много лет, и каждая мелочь нужна в её бедном хозяйстве. Представьте, даже самовар – и тот унесли, а для сибирячки самовар – всё. Я вчера же дала ей свой самовар. Как мне её жаль! Она такая тихая, честная женщина, такая хорошая мать. Теперь я хочу сделать между своими друзьями маленькую подписку. Хотя бы самое необходимое купила она.
– Что же, тунеядство поощряете, Татьяна Вадимовна? – равнодушно ответил Сомов.
– Как тунеядство? Вы меня не поняли, Кронид Иванович, – мягко возразила Таня. – Ведь эта женщина – подёнщица; у неё пятеро маленьких детей; она целыми днями не разгибает спины, чтобы впроголодь накормить детей.
– Испытания в жизни посылаются всем. Они только закаляют характер. И всякий человек обязан выбиваться сам.
– Нет, я с вами не согласна! – дрожащим голосом возразила Таня. – Бывают такие случаи, что человек теряет голову от несчастья и не в силах сам встать на ноги. Не поддержать его – значит дать пропасть.
– Я не признаю такого малодушия: это недостойно человека. Конечно, грустно, что обокрали вашу подёнщицу… Что же? Пусть прикладывает больше старания, труда – и выбьется на дорогу. Это благороднее, чем смотреть в чужой карман.
– Кронид Иванович, мне кажется, человек человеку в беде сам должен прийти на помощь, а не дожидаться, пока его попросят.
– Нет, Татьяна Вадимовна, я охотнее куплю себе ненужные вазочки, чем стану заниматься этой портящей людей благотворительностью.
Таня замолчала. Она стала рисовать нервно и порывисто. Слёзы подступали к горлу; красные пятна выступали на щеках и разгорались всё ярче и ярче; пальцы едва держали карандаш. Вдруг она встала.
– Простите, Кронид Иванович, я не могу сегодня рисовать: у меня голова разболелась, – чуть слышно прошептала она, протянула руку учителю и вышла.
Сомов остался один. Ему было как-то неловко; его волновали сложные чувства: озлобление против этой неизвестной подёнщицы и безотчётная неловкость перед Таней. «Эх, уж лучше бы я дал рубль этой женщине… Теперь Танечка обиделась», – думал он и даже подошёл к двери, в которую скрылась девушка.
– Татьяна Вадимовна! – окликнул он тихо и постучал в дверь, но ответа не последовало: вероятно, хозяйка скрылась в дальние комнаты.
Сомов ушёл; до следующего урока оставалось два дня, а Крониду Ивановичу показалось, что тянется целая вечность.
«Обиделась Танечка, – так про себя называл Кро-нид Иванович свою ученицу. – Даже слёзы на глазах дрожали. Стоило из-за таких пустяков!.. Теперь и отцу рассказала; подумают, что я жадничаю…»
Спускались сумерки, Сомов не зажигал огня. На окнах обрисовались контуры растений, в соседних домах зажигались огни, мелькали силуэты людей, а Кро-нид Иванович ходил из угла в угол по тёмным комнатам и думал, думал без конца.
«Дурное подумала обо мне Танечка… Хотя и невольно, всё ж я её огорчил. А должно быть, ловкая баба эта подёнщица! Наверно, и про кражу-то всё выдумала. Видит, что барышня простая и доверчивая… Всё-таки славная она девица… не похожа на других».
Кронид Иванович пришёл на урок смущённый. Ученица встретила его приветливо, как будто между ними ничего не было.
– Татьяна Вадимовна, я бы, право, не прочь, – начал, запинаясь, Кронид Иванович, – я надумался и готов тоже принять участие в подписке вашей подёнщице.
– О, нет, нет… Теперь не беспокойтесь, Кронид Иванович… Ничего не надо. Всё уж устроено, – живо перебила его Таня.
И Сомову показалось, что она по отношению к нему не прежняя, как будто в её обращении оборвалась какая-то едва заметная ниточка, ускользнула и скрылась; не скрылась она только от учителя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































