Текст книги "Честное слово"
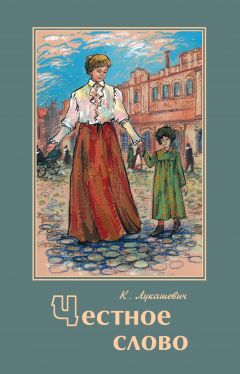
Автор книги: Клавдия Лукашевич
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Холодное сердце

I
По большому сибирскому тракту, по тяжёлой, грязной дороге, изрытой ямами и колеями, ехали два экипажа: впереди огромный тарантас казанской работы с фордеком, другим экипажем была перекладная кибитка тройкой, невзрачная, крытая рогожей.
Тарантас поднялся на гору: из окна выглянули две детские головки.
– Станция! Скоро станция! – послышались радостные громкие восклицания.
Под горою внизу показалось бесконечное богатое село, такое, какие в Сибири часто тянутся на две и на три версты.
– К одной… к одной! – крикнул ямщик, обгоняя встречный обоз. Он стегнул по лошадям, взмахнул кнутом и ухарски прикрикнул.
Тарантас и кибитка, подпрыгивая по рытвинам и колеям, качаясь из стороны в сторону, бойко подкатили к деревянному дому, около которого красовался полосатый верстовой столб с подробной надписью, какая это станция и сколько вёрст вперёд и назад.

Из тарантаса выпрыгнули две хорошенькие девочки, а за ними спустилась молодая девушка, повязанная платочком, и стала помогать вылезти старухе, которая кряхтела, призывала Бога и святых.
– Ой! Ой! Господи, спаси! Святитель Николай, чудотворец, помоги!.. За грехи людские посылается такой тернистый путь… Ну, и дороженька!.. Ох, искушение!
– Не бойся, Аринушка… не бойся! Спускай теперь ноги, слезай скорей, моя старушка, – уговаривала девушка.
Из перекладной кибитки вышел высокий седой господин.
– Что?.. Опять приключение с нашей старушенцией? – спросил он, поспешив к тарантасу.
– Ох! Ой! Чуть Богу душу не отдала… Так трясло, так колотило!.. Говорила – не берите: не довезёте мои старые кости!
Старуха стояла уже на земле и махала руками.
– Успокойся, няня милая, уже много мы проехали… Иди скорее, отдыхай, – уговаривала её девушка и, бережно обняв, помогала идти.
– Теперь скоро и конец, нянюшка! Утомилась ты, голубушка, – успокаивал её и седой господин.
– Ну и дорога! Ох, искушение какое!
– Станция Тулуновская; до города N-ска осталось 306 вёрст, – сообщила одна из девочек, читая вывеску на полосатом столбе.
Другая девочка, постарше, с золотистыми кудрями, ласкалась к девушке, только что проводившей старуху и вернувшейся к тарантасу, чтобы достать корзины, мешки и баульчики.
– Будем тут чай пить, Танюша?
– Непременно. Вы, я думаю, и поесть не прочь?
– Никогда не отказываемся…
Приехавшие вошли в дом. В дверях показался станционный смотритель. В сенях из дальней двери выглянула женская голова, выбежали двое ребятишек.
– Однако самоварчик требуется? – спросила женщина.
– Пожалуйста, милая! Да, если есть, дайте яиц, молока… – попросила девушка.
– Мигом, кралечка, мигом…
Приехавший пожилой господин отправился уплачивать прогоны и прописывать подорожную.
Остальная компания прошла в комнаты налево. Одна комната уже была занята.
Комнаты невзрачные, бедно обставленные, как и по всему тракту. Мягкие диваны, обитые тиком, по стенам портреты царской фамилии, лубочные картины, почтовые правила и описание дороги. К одному из окон на зелёном шнурке была припечатана книга жалоб. Всё это было не ново и знакомо нашим путешественникам.
Старуха Арина уже храпела на диване. Девочки рассматривали по стенам картины. Молодая девушка сбросила с себя шубку и платок, проворно стала накрывать на стол, развязывать корзины и доставать провизию.
Она была очень мила: среднего роста, худощавая, подвижная, с длинной волнистой косой. Румяное смуглое лицо её особенно красили большие серые ласковые глаза с чёрными ресницами да белые сверкающие зубы. В её движениях было какое-то спокойствие, уверенность и самостоятельность.
Она пошла к девочкам и нежно поцеловала одну и другую.
– Мои детки проголодались, мечтали о роскошном обеде… Увы! должны довольствоваться неизменным другом-самоварчиком, булками, закуской!.. – и она, как нежная мать, ласкала девочек, которые повисли у неё на шее и покрывали её целым градом поцелуев.
– Будет, будет, ребятишки… всю растрепали! – отбивалась она,
– Ах, Танюша, у нас аппетит неистощимый… Давай только скорее – всё подъедим! – звонко смеялись девочки.
Из соседней комнаты показался купец. Очень полный, с крупными чертами лица, весь красный, улыбающийся, он развязно направился к трём хохотушкам.
– Из России[5]5
Сибиряки называли Россией местность за Уралом. Сибирь Россией не называли.
[Закрыть] изволите ехать?
– Из Москвы, – ответила Таня.
– Куда, позволю спросить?
– В N-ск.
– Мариша, Мариша, иди сюда, милая!
Из занятой комнаты вышла девушка, высокая, полная, с сильно развитыми скулами, с бойкими серыми глазками; она что-то жевала.
– Дочь моя – Марина Сизых, гимназистка N-ской гимназии. Мы сами оттуда. Просим любить да жаловать, – отрекомендовался купец.
Девушки протянули руки и в неловком молчании посматривали друг на друга, не находя, о чём говорить.
– Вот, Маришенька, барышни в наш город едут… Отличный город, первостепенный! Вы чьих же будете, барышни?
Таня взглянула удивлённо, озадаченная вопросом.
– Я спрашиваю, как вашего родителя фамилия?
– Королёв… папа назначен инспектором гимназии.
– Слышишь, Мариша? Очень приятно! Будемте знакомы! Неохотно, думаю, едете, барышни, в Сибирь?
– Нам всё равно, где ни жить, лишь бы в своей семье. Мамы у нас нет, а с папой хоть на край света.
– Российские не любят Сибири, да и сибиряков не жалуют.
– За что же? Что вы? – удивилась девушка. – Люди везде одинаковы, и, наверно, в Сибири найдётся много добрых и хороших людей. Сибирь очень интересует и папу и нас.
– Вот это люблю… Спасибо!.. Разодолжили! Ручку позвольте пожать, барышня! – крикнул купец.
Сонная старуха приподняла голову, взглянула кругом и перекрестилась. Марина и девочки улыбались, а Таня немножко переконфузилась.
– А вот и папа наш! – воскликнула одна из девочек при виде входившего седого господина.
Купец тоже поспешил к нему.
– Очень желательно познакомиться! Премного доволен вашей барышней! – он добродушно протягивал руки.
– С кем имею честь говорить? – ответив на пожатие, спросил вошедший.
– Сизых Павел Иннокентьевич. Тоже живём в N-ске. Имеем свои прииски. А вот наша дочь – Марина.
– Вадим Львович Королёв.
– Разговорились с вашей барышней, почтенный Вадим Львович. Удивительно, в такие ранние годы такое разумение!
– О чём же вы говорили с моей Таней?
– Удивила меня барышня… Говорит: «и в Сибири есть хорошие люди»… Скажу я вам откровенно, – купец наклонился к уху и зашептал: – Скажу я вам, в Сибирь-то едут поневоле, едут денежки наживать. Приезжие не любят сибиряков, да и сибиряки их не жалуют.
– Это было прежде, господин Сизых, – серьёзно отвечал Вадим Львович. – А теперь многие едут в вашу глушь с бескорыстными намерениями принести пользу, послужить вообще людям. Таких примеров немало.
– Я вас сразу полюбил! Ей Богу, полюбил! – воскликнул купец и, усадив Королёва рядом с собою, заговорил о дороге, о делах…
Молодые девушки тоже разговорились. Таня, приготовляя чай, расспрашивала Марину с живым любопытством о Сибири.
– Говорят, у вас зимой страшные морозы.
– Да, но они переносятся легко. Мы привыкли, и на коньках катаемся и гуляем в это время. У нас зимой и в морозы солнце светит ярко и небо голубое, как весной.
– Скажите, бывают ли у вас выставки, чтения, концерты?
– Нет, выставок и чтений совсем не бывает; концерты редко, если кто-нибудь случайно заедет.
– Это жаль! А есть ли у вас хорошие учителя рисования? Я ведь немножно занималась, люблю это искусство и жаль было бы его бросить…
Марина рассмеялась.
– У нас на весь город два учителя, и оба преумори-тельные; одного гимназисты прозвали Эскиз – он молодой, вертлявый, любит веселиться и на своё дело смотрит спустя рукава. Нашего же мы окрестили Холодным сердцем или Крокодилом Ивановичем. Его зовут Кронид Иванович – он злой, мрачный, ненавидит людей, вообще же, говорят, у него зимой снегу не выпросишь. Оба они ровно ничего не стоят.
Затем Марина рассказала, что едет с отцом в Красноярск, к тётке на именины, что зимой они живут очень весело, что Сибирь – самая лучшая страна на свете и что вкуснее омулей нет рыбы… Во время разговора она беспрерывно грызла кедровые орешки, которых у неё был огромный запас и которые она навязала Тане и её сестрам.
Вскоре были поданы лошади купцу. Стали собираться. Марина крепко обняла и расцеловала Таню и девочек и взяла с них слово часто видеться зимой.
– Мы рады с вами познакомиться! Сразу вы нам полюбились. Счастливого пути! – кричал словоохотливый Павел Иннокентьевич, усаживаясь с дочерью в тарантас.
Тарантас двинулся, и пока не скрылся из виду, отъехавшие всё махали платками.
Таня подошла к отцу, нежно поцеловала ему руку и обняла за шею.
– Устал, родной! Будь поуступчивее, папа, садись с детьми в тарантас! Там удобнее, мягче, и не так трясёт… Ты уснёшь дорогой. А мне безразлично: я крепка, как сталь.
– Не беспокойся, милая! Мне совсем не худо в кибитке… Спасибо за заботы, Танюша.
– Несговорчивый ты, папа!.. Пора нам и собираться… Ну, девочки, Женя, Соня! Няня, напилась чайку? Я-то думала, папа, что сибиряки мрачные, подозрительные, неразговорчивые… Вот какой приветливый Павел Иннокентьевич… И Марина его – премилая!
– Вам лошади поданы, – громко сказал писарь, показавшийся в дверях.
Начались сборы.
* * *
Ночь. Светит луна. По сибирскому тракту едут тарантас и кибитка.
Непроходимая тайга по одну сторону дороги, та же тайга по другую… Качают вершинами ели, сосны, лиственницы и кедры. Между деревьями вдали мелькает человеческая тень – одинокий путник скрывается и прячется от людей.
– К одной… к одной… – сонным голосом покрикивает ямщик… Побрякивают колокольчики…
В тарантасе храпит и даже присвисывает старуха, девочки ворочаются и сквозь сон стонут от толчков.
Таня не спит. Она глубоко задумалась. «Что-то ждёт их в глуши? Как станет она растить там своих девочек? С кем займётся любимым искусством, к которому её влечёт с детства? Как устроится вообще жизнь? Им говорили, что люди там холодные, озлобленные и мрачные, как сама природа; книги доставать трудно, искусства забыты. Люди живут, ничем не интересуются: день да ночь, сутки прочь».
«Пустяки! Люди везде с сердцем, с душой, с умом; везде они созданы по образу и подобию Божию. Жизнь так прекрасна! Каждый человек кому-нибудь нужен, полезен и дорог».
Молодая мечтательница с нежностью поправила двух девочек, скатившихся от тряски в одну сторону, заботливо подложила подушку под голову своей няни, сама закуталась в платок и под однообразные звуки почтового колокольчика стала дремать.
II
Стоял прекрасный день, такой, каких много бывает в Сибири осенью: тёплый и тихий с неизменным солнцем. Наступило воскресенье; в городе N-ске был базар.
Торговцы заняли не только всю городскую площадь, но даже соседние улицы. Чего-чего только не навезли из окрестных сел; тут вкусная сибирская рыба нельма, максуны, таймень; дальше груды кедровых шишек; возы капусты, овощей, минусинских мелких арбузов; целые вороха душистой ягоды облепихи; а в стороне бочки с солёными омулями, селенгой и с солёной черемшой.
Много народу ходит по базару; чуть ли не весь город собрался сюда от нечего делать, точно на праздник. Подъезжают долгуши и тележки с разряженными барынями, спешат стряпки[6]6
Стряпки – кухарки (разг.).
[Закрыть] с корзинками и с массою удобных сибирских туесков[7]7
Туес или туесок – очень удобный сосуд с крышкой из древесной коры, в большом употреблении в Сибири; в нём носят молоко, сметану, ягоды и вообще, что придётся (прим, автора).
[Закрыть].
Среди движущегося по базару люда толпятся якуты с грудами мехов – лисиц и соболей. Буряты продают двух белок, живого лисёнка и дикую козочку. Ребятишки бегают за ними.
На базаре стоял невообразимый гул: стучали колёса экипажей, бранились торговцы из-за мест, кричали поросята, гуси, куры, и всё это покрывал своеобразный тягучий сибирский говор.
– Однако хорош омулёк! – говорил сибиряк-торговец, сидя на возу и откусывая кусок за куском любимой солёной рыбы, чрез головку которой была проткнута палочка.
– Чо ж ты чайку? Скипятила я. Однако налью, – предлагала ему молодуха. Они принялись пить кирпичный чай, сваренный в котле с молоком, маслом и солью.

Два китайца в длинных курмах не отставали от молодой барыни, предлагая ей чи-чун-чу[8]8
Китайский спирт, применяется вместе с молоком для избавления от тошноты.
[Закрыть], китайскую посуду, засахаренные фрукты.
– Купи, плиятель! Сама лада пудешь…
– Что стоит эта чашечка?
– Солок… солок копеек.
– Однако, приятель, дорого. Не давайте им больше двадцати, барыня, – учила стряпка свою хозяйку.
Китайцы, улыбаясь во весь рот и обнажая свои огромные чёрные зубы, не отставали от молодой барыни.
Несколько молодых девушек собрались в стороне; руки их были полны кедровыми шишками, арбузами и туесками с ягодами. Все они были в коричневых платьях с чёрными передниками – очевидно, учащаяся молодёжь. В середине стояла Марина Сизых и с живостью рассказывала подругам:
– Видела я их, друзья мои, собственными глазами видела, познакомилась и даже разговаривала… Инспектор уже пожилой, а какая дочка его, милочка, – просто душка!
– Слушайте, девицы, что я вам расскажу про нашего Крокодила, – перебила Марину девушка с бурятским лицом. – Летит он недавно с тетрадкой через весь класс, показывает её Ольге Петровне. Нарисован шар, а по шару какие-то червяки. Петровна наша разгневалась, говорит: «Хорошо, я накажу эту шалунью Бабакину». А Крокодил – в ужас! «Помилуйте, – кричит, – ведь это прелестно, это самородок! Пусть себе завитушками тушует, мы их закроем: тут мысль видна, тени правильно лежат!» Оба они не поняли друг друга и разозлились… Смеху-то что было! Ха-ха-ха!
– Ха-ха-ха! – расхохотались девушки.
– Господа, вон он! – крикнула одна из них. – Лёгок на помине!
– Холодное сердце торгует цветок. Наверно, не купит, денег пожалеет…
На краю базара на возах стояли цветы, которые в Сибири растут отлично. Господин в форменной фуражке держал в руках розовый кактус и молча любовался им.
Молодые девушки смотрели на него, смеялись и обменивались шутливыми замечаниями.
– А вот и она – Танечка Королёва… Ну, разве не прелесть? – проговорила Марина и бросилась навстречу новой знакомой. Таня ходила по базару с сёстрами и с нянькой и всё с интересом осматривала.
Марина Сизых окликнула её:
– И вы здесь, Татьяна Вадимовна? Не правда ли, как хорошо у нас, в Сибири? Какой сегодня огромный базар!
– Как я рада вас встретить, Марина Павловна. Тут очень интересно. У моих девчурок глаза разбежались: и орехов купи, и ягод купи, и лисёнка, и козочку… Просто – разоренье!
Обе девочки застенчиво прижались к старшей сестре.
– Хорошо ли вы устроились, Татьяна Вадимовна?
– Да, очень хорошо. Приходите к нам поскорее. Очень буду рада, Марина Павловна.
– Непременно приду… Только зовите меня попросту Маришей…
– А вы меня Таней…
– Помните, Танечка, на станции вы меня расспрашивали про учителей рисования. Могу вам сейчас указать Холодное сердце. Вон он покупает что-то у старьёвщика.
Таня внимательно посмотрела на господина в форменной фуражке: высокий, несколько сутуловатый, должно быть, средних лет. Борода с сильной проседью, нависшие брови и сморщенный лоб делали его лицо каким-то жёстким, мрачным и даже злым.
Он стоял у навеса старьёвщика. Чего-чего тут только не было разложено: меха, картины, китайские вышивки, посуда и разные обломки.
– Купите, недурные вещи, – предлагал торговец, показывая две вазочки.
– Нет, не нравится.
– Эту статуэтку, господин.
– Это дрянь.
– Вот подсвечничек, редкий экземпляр.
– Нет, нет. Вот что я возьму, – и он указал на грязную металлическую фигуру.
Стали торговаться долго и упорно; наконец торговец уступил.
Взяв под мышку свою покупку, господин в форменной фуражке пошёл с базара. Он шёл медленно, ни на кого не глядя. Раза два к нему приставали нищие. «Не подаю, не подаю, отходите», – резко говорил он.
В тихой улице, где он жил, около пустынного забора ему бросился под ноги маленький щенок; жалкий, весь мокрый, он жалобно визжал и дрожал всем телом. Господин в форменной фуражке с отвращением оттолкнул его ногой и быстро прошёл в калитку своего дома.
III
Давно это было, когда Кронид Иванович Сомов приехал в город N-ck.
Этот нелюдим как-то сразу всем не понравился.
Он и сам не делал попытки сблизиться с кем-либо из сотоварищей, и даже на первых порах с учителем словесности вышло у него недоразумение.
Как-то раз, сидя в учительской, Сомов заговорил о своей любви к цветам.
– Приходите посмотреть, коллега, скоро у меня распустится редкий экземпляр жёлтой розы, – сказал ему сослуживец, учитель словесности.
– Это мой любимый цветок! Прекрасно, приду… Этюд с него набросаю…
– Приходите, Кронид Иванович, розу-то смотреть – распустилась, – сказал через несколько дней тот же учитель.
Сомов волновался не на шутку. Пришёл домой, не мог даже обедать, приготовил полотно, растёр краски и непривычно скорым шагом отправился к дому, где жил сослуживец. Приходит… а роскошная, огромная, действительно редкая роза уже опустила лепестки…
– Она отцвела!.. Нет, душечка, извините, это – чёрствый эгоизм… бессердечное отношение! – говорил раздражённо, задыхаясь, Сомов.
– Что же мне с ней делать? Скажу ей – цвети, не послушается! Ну, право же, это ребячество! – рассмеялся сотоварищ.
– Ничего тут нет смешного! Ещё три дня тому назад могли сказать…
– Простите, батенька, запамятовал…
– Запамятовал, запамятовал… Будь это кто-нибудь другой, а не я – Сомов, не забыли бы. Да-с!
– Эх, Кронид Иванович, чудак вы, право! На вас и сердиться-то смешно!
Сомов давно решил, что все люди чёрствые эгоисты и что он для них не только не интересный, но даже нетерпимый.
В Сибири Кронид Иванович нанял домик-особняк и зажил один. Прислуга хозяйки приносила ему обед и исполняла его поручения. Он нигде не бывал, и у него никто не бывал. Все знали, что у Сомова были хорошие средства к жизни и что он собирал старинные дорогие вещи.
Каково же было удивление Кронида Ивановича, когда в один ненастный зимний вечер к нему неожиданно зашёл его сослуживец – бледный и расстроенный.
– Коллега, выручайте, голубчик! – дрожащим голосом сказал он. – Одолжите на несколько дней десять рублей. У меня ребёнок тяжело болен… Я всё истратил… Нужны лекарства, доктора, еда получше…
– Видите ли, душечка, у меня нет лишних денег… Вы – человек молодой.
– Кронид Иванович, ведь я прошу у вас не на бедность. Тяжёлые затруднения бывают у всякого… Я вам отдам с благодарностью…
– Видите ли… Я не могу… не могу… Я тоже живу своим трудом.
Сотоварищ не стал его слушать и, схватившись за голову, выбежал в дверь, Кронид Иванович мог бы помочь, он знал, что его сослуживец действительно в беде, нуждается, убит горем, что у него тяжко болен единственный сын, но его сердце никогда не билось отзывчиво на чужие горести.
Даже дети в нём не вызывали участия. Как-то вечером он послал хозяйскую прислугу, девочку лет двенадцати, за булками и дал ей разменять три рубля. На улице свирепствовала страшная вьюга. Девчонка живо вернулась, бросилась Сомову в ноги – на ней лица не было.
– Барин, простите, не погубите!.. Простите, ветер деньги вырвал… Смилуйтесь! – рыдала несчастная, валяясь в ногах. – Забьёт меня хозяйка.
Чьё бы сердце тут не смягчилось?
– Я тебе потакать не намерен… Знать ничего не хочу… Чтобы были деньги!.. – сурово сказал Сомов.
И бедная девочка была жестоко наказана хозяйкой да ещё два месяца служила даром, выплачивая потерянное.
В квартире Кронида Ивановича было много дорогих вещей, на окнах красовались цветы. Но предметом особенных забот и любви были два стеклянных шкапа, наполненных старинными вещами.
IV
Очень скромно, удобно и уютно устроились Королёвы в N-ске. Дом у них был казённый, двухэтажный, с большим садом, с огородом и теплицей. Комнаты в доме были высокие, светлые; по окнам стояли свежие цветы. Самая любимая комната семьи – столовая со множеством окон, очень светлая. Тут в кадках стояли акации, дубы, клён, которые замечательно культивируются в Сибири в миниатюрном виде.
– Это вовсе не специально столовая, а просто наша любимая комната, – говорила Таня. – Тут мы обедаем, тут пьём чай и тут по вечерам собираемся все вместе, читаем и работаем, а папа отдыхает.
Убранство в квартире было также очень простое; даже на окнах нигде не было ни тюлевых, ни тяжёлых занавесей: всюду шторки, которые спускались, когда уже чересчур припекало солнце. Но зато как чисто было у молодой хозяйки, и эта чистота была привлекательнее всякой роскоши.
– У нас дети… К тому же папа, мои цветы и я сама так любим свет, так дорожим вашим постоянным солнцем, что, право, грешно закрывать окна от такого прекрасного друга, – говорила Таня знакомым сибирякам.
– Молоденькая хозяюшка, приятно смотреть, сколько забот кладёте вы на свое гнёздышко! – говорили ей, и глубокое уважение слышалось в этих словах.
Таких семей, каковы были Королёвы, немного в настоящее время: они светят как чудный желанный маяк в беспредельном жизненном море. Зайдите к ним днём – тишина, порядок, хозяйка занята по горло. Попадёте пред обедом – вас ни за что не отпустят: угостят, чем Бог послал. К обеду собирается вся семья, учащиеся, служащие, и идёт оживлённая передача событий дня. Но милее всего заглянуть в такую семью вечерком: все вместе читают, занимаются любимым делом и разговаривают. Вам покажется, что и лампы-то здесь льют свет мягче и приветливее, что мебель стоит уютнее: вы почувствуете сразу, что тут живут простые, бесхитростные, хорошие люди.
Вадим Львович Королёв был педагог. Сначала длинная дорога школьного учителя, затем предложенное инспекторство в Сибири взяли всё время, все силы, все помыслы добросовестного труженика.
Старшая дочь его, Таня, шестнадцати лет кончила курс гимназии и затем испытала первое горе в жизни – схоронила мать. Она горячо любила свою тихую больную маму и ещё ребёнком во всем ей помогала. И не заметила девочка, как в заботах промелькнуло детство, как шестнадцатилетняя девушка стала названой матерью двух крошек-сестёр, опорой и утешением убитому горем отцу.
– Не покидай их, вырасти, выучи, моя Танюша… Замени им меня… – говорила, умирая, мать, и девушка свято выполняла её заветы.
По приезде в N-ск Таня отдала сестёр в гимназию; дома хозяйничала, завела корову, кур; занималась огородом, находила время рисовать, читать и шить.
У Королёвых стала собираться молодёжь, особенно по субботам. Время проходило очень весело: играли на рояле, пели, танцевали, вместе читали, гуляли, только в карты не играли: их терпеть не могли Вадим Львович и Таня.
В этих субботах было для города что-то новое, молодое, живительное, как свежая струя воздуха.
Была одна из таких суббот. Вадим Львович и Таня приветливо встречали гостей. Дом залит огнями; слышался весёлый говор, звуки рояля.
То одушевлённый смех молодой хозяйки звучит среди молодёжи, то она расспрашивает учителя русского языка, что почитать бы её деткам, то подсядет к пожилым преподавателям.
– Татьяна Вадимовна всех заполонила, всех покорила, старики и те рвутся к вам, чтобы только посмотреть в ваши ясные очи да послушать ваш смех, – говорил ей старичок-учитель, француз.
– Не говорите так! Ведь я могу невесть что вообразить о себе! Зазнаюсь! Заважничаю! – отвечала, улыбаясь, девушка.
Она замечает молодую учительницу, грустно отдалявшуюся от общества, и подходит к ней.
– Ну, что ваша мама, милая Елена Васильевна? Простите, голубушка, сегодня не успела зайти её навестить.
– Мама всё в том же положении. Знаете, Татьяна Вадимовна, паралич в её годы – болезнь неизлечимая. Тяжело моей старушке.
– Милая Елена Васильевна, пойдёмте на минутку наверх в мою комнату.
Обе отправляются наверх. Таня конфузливо передает учительнице какие-то свёртки.
– Варенье сама сварила… Булку моя няня испекла сегодня – очень удалась… А эти пуховые чулки я нарочно выписала из Москвы для больных ног вашей бедной мамы… Не благодарите, милая. Мне так совестно… это всё, что могла…
– Спасибо, Татьяна Вадимовна. Хороший вы человек.
Обе молодые девушки крепко обнялись и поцеловались в полутёмной комнатке.
Вечерело. Погода была тихая, ясная. Но в воздухе было холодно.
Таня Королёва гуляла в саду с молодёжью, между которою была и знакомая нам Марина. Они обрывали мелкую сибирскую яблоню, охваченную морозом, лакомились её вяжущими плодами, шутили и смеялись.
Опадала лиственница и обильно осыпала пожелтевшей хвоей дорожки; только роскошный кедр, хвастаясь своею могучею природой, гордо поднимался в саду над всеми деревьями, зеленел и не страшился ни осени, ни суровой сибирской зимы.
– Нет, скажите… Отчего же? Отчего? – спрашивала Таня, продолжая прерванный разговор.
– Оттого, что это человек дикий, нелюдимый, – отвечал ей один из учителей. – Он и с товарищами-то не сходится, а к инспектору, да ещё на вечер – его никаким калачом не заманишь!
– Что же он делает всю жизнь один?
– А кто его знает! Должно быть, рисует свою «мёртвую натуру» да и с людьми враждует…
– За что же он с людьми враждует? Например, если ему человек ничего дурного не сделал?
– Ах, Татьяна Вадимовна, ну, что вы этим ничтожеством интересуетесь? – заметила худощавая классная дама. – Право, не стоит! Сомов – человек злой, грубый, эгоист, каких мало, и ненавидит людей.
– Знаете, Танечка, – прибавила Марина, – говорят, Крокодил Иванович до того жаден, что питается только водой и хлебом, покрытым плесенью.
Таня умолкла и задумалась. «Неужели есть такие люди?» – мелькнуло в её голове.
– Папа, что же, придёт к нам когда-нибудь господин Сомов? – спросила Таня подошедшего отца.
– Нет, не придёт. Это такой оригинал, такой чудак! Он положительно избегает меня, и на все мои приглашения у него тысяча отговорок.
– А как же моё рисование?
– Может быть, ещё и устроится. Однако холодно! Прошу вас, господа, в комнаты. Вечер-то настоящий сибирский!
Молодёжь весело направилась в зал; там тотчас же раздались звуки рояля, и в открытые окна далеко по тихому, уже собиравшемуся ко сну городу понеслась стройная хоровая песня.
Кронид Иванович ходил по своей квартире нахмуренный, раздражённый. Он собирался на урок к Королёвым. Ему тяжело было выбраться из дома, лень было одеваться, и он горько упрекал себя, что не сумел отказать инспектору. Он думал: «Девица привередничает от нечего делать. У них там в моде эти затеи, а я потешай»… – и он хмурился всё более и более.
Сомов пришёл на урок сумрачный и молчаливый.
Таня робко посмотрела на него и притихла. Она принесла свои прежние рисунки и, разложив на столе, устремила пытливо на учителя большие внимательные глаза, сдвинула чёрные брови и ждала, что он скажет.
Кронид Иванович взглянул на рисунки мельком и, не поднимая головы, проговорил недовольным тоном: «Устарелая метода! Надо побольше с натуры рисовать!»
– Не хвалил и не порицал, папа! Он всё молчит. Кто его знает, что он думает! Он кажется таким недовольным и даже ни разу не взглянул на меня, – рассказывала вечером Таня отцу.
– Займись, попробуй. Посмотрим, как пойдёт дело. Не наладится, можешь и отказаться, – посоветовал ей отец.
Сомов приходил к своей новой ученице два раза в неделю; молча, не взглянув на девушку, уставлял он гипсовые фигуры, чинил карандаши, делал кой-какие замечания, наблюдал за работой, объяснял законы перспективы, поправлял рисунок, говорил «недурно» и уходил.
Таня рисовала добросовестно и шар, и куб, и пирамиду, и трапецию, отдельно каждую фигуру и нагромождённые друг на друга. Учитель приносил ей гипсовые руки и ноги, орнаменты, наконец, дал ей голову Аполлона. Девушка при нём набросала контур.
Когда Кронид Иванович пришёл на следующий урок, Таня, считая себя немного виноватой, сказала ему:
– Кронид Иванович, вы извините, что я без ваших указаний попробовала тени проложить. Мне так хотелось порисовать это время. Я ведь не отделывала. Если б вы могли представить, с каким удовольствием я работала; мне так нравится эта голова. Вы не сердитесь? – и девушка застенчиво открыла свою тетрадь.
Сомов взглянул на рисунок, отшатнулся назад и уставился на свою ученицу изумлённым внимательным взглядом, как на человека, которого увидел первый раз в жизни.
– Это сделали вы? – спросил он, едва скрывая охватившее его волнение.
– Да, я. Кому же больше? – ответила смущённая девушка.
– Да, знаете ли вы? Да если бы вы, душечка, были мальчик, я бы вас расцеловал… Ведь у вас талант! Да ещё какой!..
Лицо учителя совершенно преобразилось: мрачности как не бывало. Неподдельный восторг скрасил угрюмые черты. На Таню смотрели добрые, умные и серьёзные глаза. Кронид Иванович то подходил к рисунку, то отходил, то склонял голову направо, то налево и говорил в каком-то экстазе:
– Как смелы и правильны тени! Какая легкость и оригинальность полутонов! Талантливо!.. Вот тут надо немного потемнее… Ну, теперь блики, блики, душечка, ставьте. На носу, на глазах… вот тут…
Вся взволнованная, раскрасневшаяся, с блестящими глазами, работала Таня. Карандаш нервно и уверенно двигался по бумаге, и голова Аполлона рельефно выступала на тёмном фоне, будто она была не нарисованная, а настоящая – гипсовая, как и та, что стояла перед ней на пьедестале и выделялась красотой своих линий.
Похвала мрачного учителя придала смелости девушке: росла уверенность в работе, росли способности.
Сомов лихорадочно следил за карандашом, стоял около своей ученицы, подняв обе руки, как будто он призывал на неё вдохновение.

Голова Аполлона была окончена, и Кронид Иванович переводил восторженные взгляды с рисунка на ученицу.
– Какое у вас оригинальное лицо! – вдруг неожиданно заметил он, серьёзно и пристально рассматривая Таню. – Особенно интересен изгиб бровей и овал глаз удивительный!
«Что он меня так рассматривает, да ещё вслух делает замечания!» – подумала Таня, сконфузившись.
– Неужели, душечка, у вас собственная коса, а не приделанная? – продолжал свой обзор странный Кронид Иванович.
Таня улыбнулась: она поняла, что имеет дело с человеком, не бывавшим в обществе.
– Коса моя собственная, и брови и глаза тоже мои!
– шутливо отвечала девушка и весело рассмеялась.
Пришла очередь сконфузиться Крониду Ивановичу.
– Извините, душечка. Право, я так… Я ведь не умею с девицами разговаривать… Может быть, сказал что и не так… Уж не взыщите…
– Что вы, Кронид Иванович, да разве с девицами надо особенно разговаривать?! Ведь мы такие же люди и, уверяю вас, понимаем обыкновенную речь, – не унималась Таня.
– Да, да, конечно, это так, – растерянно повторял Кронид Иванович. – Спасибо вам за рисунок. Уж очень порадовала меня голова Аполлона! У вас серьёзный талант! Нельзя зарывать его в землю… Что сумею – сделаю. Надо основательно подумать, как вас направлять. Я очень рад с вами заниматься. Пожалуйста, если будет время, докончите фон. До свидания!
Сомов ушёл.
– Папа, какой Кронид Иванович чудак! Совсем дитя природы! – говорила Таня отцу, передавая подробности последнего урока, и они вместе добродушно смеялись.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































