Текст книги "Честное слово"
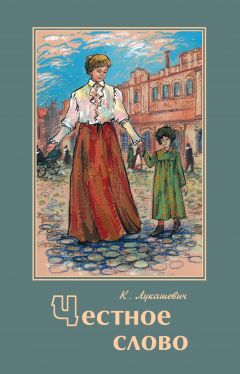
Автор книги: Клавдия Лукашевич
Жанр: Книги для детей: прочее, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Доктор Гааз

I
На правом берегу Москвы-реки, против Девичьего поля и знаменитого монастыря, холмистою грядою возвышаются Воробьёвы горы. Восхитительный вид открывается с этих гор. Видна почти вся Москва с золотыми маковками сорока-сороков своих церквей, с красивыми башнями, постройками седой старины, с зеленью садов и бульваров. Прекрасен вид с холмов Воробьёвых гор, но нерадостные взоры людей окидывали прежде оттуда златоглавую Москву. В сороковых годах здесь, в мрачных тесных помещениях, находилась пересыльная тюрьма. Каждый год через эту тюрьму проходило более 6000 человек арестантов, отправляемых в Сибирь. Отправление арестантов происходило по понедельникам.
Был один из таких понедельников. Стояло жаркое лето. День был солнечный, знойный, душный… По пыльной дороге к Воробьёвым горам ехала пролётка. Колёса её звенели, дребезжали и поскрипывали, грозя ежеминутно развалиться; кожаный фартук, прикрывавший груду корзин и самого хозяина, был весь в заплатах, как и сама пролётка. На козлах сидел неуклюже старик-кучер в порыжелом кафтане и правил парою разношёрстных кляч, разбитых на ноги. Сам хозяин, заставленный корзинами и ящиками, так что из-за них едва виднелся, – был очень странный и даже смешной человек. Это был старик, широкоплечий, сутуловатый, с крупными выразительными чертами лица, с большими голубыми глазами. Он был одет в чёрный фрак с белым жабо и с Владимирским крестом в петлице, на голове его виднелся рыжий парик.

При встрече с дребезжащей пролёткой и с сидевшим в ней стариком в смешном костюме, какого в то время больше никто не носил, многие прохожие останавливались и снисходительно улыбались… Все знали, что это доктор Феодор Петрович едет к своим несчастным. Иной шутник и посмеётся, скажет: «Эх, доктору с кучером и лошадьми будет лет четыреста, а то и больше». А другие встречные, большей частью простолюдины и бедняки, провожали старика в рыжем парике умилённым, благодарным взглядом, и вслед дребезжащей пролётке неслись благословения и тихий шёпот: «батюшка родной», «святой наш доктор», «божий человек»…
На тюремном дворе уже собралась партия арестантов. Их было около 100 человек. Слышался сдержанный говор, плач, перебранка и звон цепей; виднелись мрачные, озлобленные лица; некоторые с обритыми до половины головами имели вид призраков. Около ворот тюрьмы толпился народ: любопытные и провожающие родственники несчастных.
Когда к тюрьме подъехала дребезжащая пролётка и на дворе показался высокий сутуловатый старик в чёрном фраке и белом жабо, то все головы, бритые и небритые, обернулись к нему, и на мрачных, отчаянных лицах мелькнуло что-то светлое, радостное… А нежные, ласковые голубые глаза старика глянули на этих несчастных с участием и с беззаветной добротой. Быстрыми шагами подошёл он к арестантам, стал разговаривать, утешать, увещевать, выслушивать их жалобы, раздавал им деньги, съестное, книги, вступался за них перед их начальством: одних просил оставить по болезни, для других – слабых – хлопотал о позволении ехать на телегах, а не идти пешком; а когда одного арестанта так неумело заковали, что нога его оказалась в крови и он не мог встать от боли, то Феодор Петрович велел его расковать, приняв на себя ответственность за возможный побег.
Перед отходом партии, после переклички, арестанты построились, стали креститься на церковь, падали на колени, прощались и плакали.
Затем каждый подходил к старику в рыжем парике, ему целовали руки и благословляли: «Спасибо тебе, Феодор Петрович, за всё добро… Спаси тебя Господь», и голоса их прерывались слезами. Феодор Петрович прощался с каждым, некоторых целовал, давал всем советы и говорил ободряющие слова и сам молился за них.
Партия, звеня цепями, медленно двинулась по Владимирке, то есть по Владимирской дороге. Встречные москвичи, торопливо вынимая подаяние и передавая его несчастным, замечали, что с партией идёт старик во фраке, с Владимирским крестом в петлице, в старых башмаках с пряжками и в чёрных заштопанных чулках. Москвичей не удивляла эта встреча. Все знали, что это Феодор Петрович Гааз, что его любящей душе близки нужды несчастных и все горести, которые предстоят им на долгом пути. Он проводит их далеко за Москву, утешая и наставляя… А благодарные сердца унесут с собой светлую память о человеке, который думает о них, заботится и страдает, и эти воспоминания будут для них единственным утешением в их мрачной судьбе.
II
Феодор Петрович Гааз был родом немец. Он родился 24 августа 1780 г. в старинном живописном городке Мюнстерэйфеле.
Семья Гааза была большая: пять братьев и три сестры. Лучшим счастьем этой семьи была взаимная любовь и поддержка. Отец, несмотря на то что был очень небогат, всем детям дал хорошее образование. Фридрих Гааз окончил курс медицинских наук в Вене, где особенно усердно занимался изучением глазных болезней.
Случайно молодого врача пригласили к заболевшему русскому вельможе Репнину. Гааз вылечил его, и благодарный пациент уговорил его ехать в Москву.
Талантливый, энергичный и отзывчивый на всё доброе молодой врач очень скоро освоился, полюбил русскую столицу и приобрёл в ней огромную практику. Успех его лечения был выдающийся; особенно искусно лечил он глазные болезни. Гааза приглашали на разные трудные операции и консультации, и ему были открыты все московские больницы. Бедных он пользовал не только бесплатно, но часто и сам помогал им и охотно шёл днём и ночью на первый зов.
Вскоре молодой искусный врач был принят по приказу императрицы на русскую службу главным врачом Павловской больницы, но и здесь он не оставлял своих забот о больных глазами и постоянно посещал их в различных заведениях Москвы. Феодор Петрович очень высоко ставил деятельность врача, постоянно высказывал это и доказывал на деле.
«Врач должен относиться к больным чистосердечно, с полным самоотвержением, с дружеской заботой об их нуждах, с тем расположением, какое отец имеет к сыну», – писал он в своей инструкции врачам.
В 1812 году Гааз был зачислен в действующую армию, по окончании войны вышел в отставку и поспешил в Мюнстерэйфель. Туда призывал его умирающий отец. Феодор Петрович застал всю семью в сборе около постели старика. Отец несказанно обрадовался любимому сыну. «Ныне отпущаеши, Господи, раба Твоего с миром», – повторял он, благословляя сына, на руках которого скончался. Похоронив отца и погоревав над его свежей могилой, Гааз снова стал собираться в путь. Его неудержимо тянуло в страну, которую он полюбил и где так успешно работал на общую пользу. Он вернулся в Россию, очень скоро изучил русский язык и слился душою с русским народом, поняв и полюбив его той великою общечеловеческою любовью, которая не делает различия между немцем и русским. С ним уехала и его сестра Вильгельмина. Но она скоро должна была покинуть любимого брата, так как умерла сестра, и она должна была заменить мать сиротам.
III
В двадцатых годах прошлого столетия Феодор Петрович Гааз был одним из самых видных врачей Москвы. Он был совершенно бескорыстен и охотно лечил безвозмездно, но обширная практика давала ему в то время большие средства. Гааз вёл жизнь серьёзного, обеспеченного человека и пользовался всеобщим уважением. В Москве у него был хороший дом, а под Москвою имение и суконная фабрика. Одевался Феодор Петрович в костюм своих молодых лет, напоминавший прошлое столетие. Он носил чёрный фрак, белое жабо и манжеты, короткие до колен панталоны, чёрные шёлковые чулки, башмаки с пряжками довершали костюм. Волосы он пудрил и собирал сзади в широкую косу с чёрным бантом, а затем, когда стал терять волосы, носил небольшой рыжеватый парик. Ездил Гааз по тогдашней моде цугом на четвёрке белых лошадей. Жизнь баловала его и сулила ему полное довольство и радости, но не этот путь избрал отзывчивый, любящий доктор.
Он избрал путь, по которому идут немногие, путь бескорыстного служения людям и полного забвения.
IV
В 1835 году московский генерал-губернатор, князь Голицын пригласил Феодора Петровича в члены комитета вновь учреждённого общества попечения о тюрьмах. Гааз ответил на приглашение горячим письмом, в котором говорил, что с радостью всего себя отдаст новому делу. Действительно, с новым делом началась для него и новая жизнь.
Увидев тюрьмы, столкнувшись с жизнью арестантов, Феодор Петрович, вероятно, испытал сильное душевное потрясение… Но мужественная душа его не убоялась мрачных картин; он не отвернулся от них с трепетом и соболезнованием и не ушёл. Он весь проникся состраданием к несчастным, как зовёт преступников простой народ, и стал трудиться над смягчением их тяжкой жизни, желая направить на путь добра. Феодор Петрович был уверен, что излишняя жестокость не исправит порочного человека, что прежде всего нужно относиться к виновному справедливо, без жестокости, нужно оказывать сострадание несчастному и помощь больному. И тогда, как знать… ведь и закоренелые преступники не безнадежны к исправлению.
Однако не все смотрели на несчастных, как доктор Гааз. Находились многие, которые думали, что за совершённые проступки и злодеяния виновные должны вечно страдать, что не следует им оказывать никакого снисхождения и надо относиться к ним с презрением. Феодор Петрович горячо вступился за несчастных: он прозрел сквозь их мрачные загрубелые лица образ человека. С горячей любовью к людям и к правде он отдал всего себя на служение несчастным, больным, обиженным судьбою и посвятил им всю свою жизнь. Ему пришлось идти по тернистой дороге. Многие не понимали, что за охота богатому, знаменитому доктору вечно возиться с арестантами, просить о смягчении их участи, хлопотать, добиваться для них милостей, жалеть их, даже как будто любить. У Феодора Петровича оказалось много врагов и недоброжелателей. Многие возмущались и негодовали на беспокойного доктора-чудака, как его называли. На него посыпались жалобы, доносы, его выставляли человеком вздорным, неуживчивым, утруждающим начальство всякими пустяками из-за развращённых арестантов, писали, что он даже целуется с арестантами…
Гааз вступил со своими противниками в борьбу и вёл её почти 30 лет. Ни затруднения, ни придирки, ни обиды, ни столкновения с важными сановниками, ни насмешки и недоброжелательство, ни даже разочарование в людях – ничто не удерживало, не охлаждало Феодора Петровича.
О себе думать ему за этими заботами, конечно, не было времени. Быстро исчезли белые лошади и красивая карета, была продана суконная фабрика, обветшал оригинальный костюм: на фраке виднелись заплаты, а чёрные шёлковые чулки пестрели дырочками. Богатый знаменитый доктор скоро сделался каким-то бедным чудаком, который вечно хлопотал, просил, заступался за «несчастных» и отдавал им каждую свою трудовую копейку.
Y
Ужасны и мрачны были картины тюремного быта. В 1818 году англичанин Веннинг, по поручению государя, осмотрел их и составил красноречивое подробное описание… Государя Александра I тронуло это мрачное, но правдивое описание, и он приказал учредить попечительства в тюрьмах. В Московский комитет попечительства и вступил членом беспокойный доктор Гааз.
Тюрьмы в то время были сырые, мрачные комнаты с земляным или гнилым деревянным полом ниже уровня земли. Свежий воздух туда почти не проникал; свет попадал через узкое окно, покрытое плесенью и грязью; если окно бывало выбито, то в него годами врывались дождь, снег, мороз.
В тесном помещении на 50 человек битком набито бывало более 200 арестантов. Здесь были дети, старики, мужчины и женщины вместе. Между ними из-за тесноты вечно были ссоры и пререкания: негде было прилечь и невозможно было спать. Многие заболевали заразными болезнями и оставались среди здоровых.
Питались арестанты очень плохо, большею частью подаяниями сердобольных горожан, а если их не было, то «колодники от голода очень тощали» и даже умирали от «гладной нiжи».
Плохо было прикрыто и тело колодников. Казённого платья не полагалось, а свои лохмотья скоро отказывались служить, и был случай, что около 100 человек арестантов оказались «без всякой одежды и обуви».
Такие мрачные картины наводили ужас. Добрая, человеколюбивая душа Феодора Петровича Гааза содрогнулась… Но более всего его поразила отправка на пруте. Вот как это делалось.
Из Москвы, из пересыльной тюрьмы на Воробьёвых горах, каждую неделю раз, а иногда и два раза отправляли ссыльных в Сибирь. Всех ссылаемых делили на партии от 8 до 10 человек. Каждую такую партию нанизывали на прут. Толстый, железный, аршинный прут был сделан с большим ушком на конце; на этот прут нанизывалось 10 железных наручней, а в наручни вдевались руки арестантов. В ушко вдевался большой замок, ключ от которого хранился у конвойного в сумке на груди. Сумка эта запечатывалась начальником этапа и распечатывать её в пути не дозволялось.
Сотоварищи по несчастью, нанизанные на прут, шли по Владимирке и много горестей и мучений претерпевали они дорогой. Слабые тяготили сильных, крепкие негодовали на немощных; идя, они сбивались с ноги, наступали один на другого, не поспевали друг за другом, натирая от наручней затекавшие руки; железо наручней невыносимо накалялось под лучами степного солнца и леденило зимой, причиняя раны и отмораживания. Во время остановок партия не могла отдохнуть, так как все мешали друг другу. Очень часто кто-нибудь заболевал, и товарищи волокли больного за собою, осыпая бранью и упрёками. Сколько поводов было тут для ссор и даже для драк.
И так двигались на пруте по России и по большому сибирскому тракту многие годы десятки тысяч арестантов.
Этот прут страшно взволновал Феодора Петровича Гааза. Тем более, что он нашёл прикованными к нему не только одних осуждённых, но и просрочивших паспорта, пленных горцев, заложников, крепостных, ссылаемых своими господами, женщин и детей. За что страдали все эти люди более, чем тяжкие преступники? Тяжкие преступники, ссылаемые в каторжные работы, шли в одиночку в кандалах, и хотя эти кандалы были очень тяжёлые, но всё-таки их путь был легче… Много жалоб и слёзных просьб услышал Феодор Петрович: ссыльные всегда умоляли отправлять их, как каторжных, но только не на пруте.
Гааз забил тревогу. В мрачных и ярких красках описал он генералу-губернатору все ужасные стороны отсылки на пруте; в комитет он писал доклад за докладом; хлопотал и молил у разного начальства отменить такое препровождение несчастных.
По счастью, генерал-губернатор Голицын имел сердце, доступное всему доброму. Он отнесся сочувственно к мольбам Гааза и сам стал хлопотать об отмене прута. Началось дознание, завелась длиннейшая переписка; нашлись защитники прута, начальники этапов писали, что от прута «больших» ран у арестантов не замечается…
Много надо было энергии, любви к правде, сострадания к людскому горю, чтобы во время долгой, томительной переписки о пруте на месте Гааза не впасть в уныние, а на месте князя Голицына не махнуть на всё рукой. Не такие это были люди, чтобы сдаться и уступить врагам в деле, которое они считали правым.
Благородного княза Голицына поражал среди общего равнодушия человек, уроженец чужой страны, который стоял одиноко, горячо защищал несчастных и страдал их страданиями. Среди роскоши и обаяния власти князь Голицын находил время серьёзно задумываться над страданиями людей и идти им на помощь.
В то время, когда шла долгая переписка об отмене прута, когда начальство решило заменить его цепью с ошейниками, которая всё-таки связывала бы между собой арестантов, Гааз стал думать, чем бы и как заменить злополучный прут. Он приказал сделать лёгкие кандалы, весом в три фунта и с цепью в аршин. В этих кандалах, прикрепив их за среднее кольцо к поясу, можно были идти довольно долго не особенно уставая. Кандалы в 6 фунтов казались Федору Петровичу слишком тяжёлыми, железные наручни – слишком мучительными, причиняющими раны, особенно зимою.
Когда новые кандалы были готовы, то Гааз обратился к высшему начальству с горячим ходатайством разрешить заковывать в них всех, проходивших через Москву, и хлопотал о дозволении обшивать наручники кожей. В Москве было разрешено отменить прут, и князь Голицын приказал не препятствовать доктору Гаазу перековывать арестантов в кандалы.
С горячей благодарностью встретили ссыльные это облегчение и прозвали новые лёгкие кандалы «га-азовскими».
Феодор Петрович целые дни проводил в пересыльной тюрьме на Воробьёвых горах, хлопотал, волновался, не пропускал ни одной партии, чтобы снять прут и перековать в свои облегчённые кандалы.

Рассказывали в Москве, что однажды генерал-губернатор заехал к Гаазу по делу. Он крайне поразился, застав доктора ходившим по комнате под аккомпанемент какого-то лязга и звона. Старик был крайне утомлён и что-то про себя считал. Оказалось, что он велел себя заковать в свои облегчённые кандалы и прошёл в них по комнате столько вёрст, сколько идут арестанты в один переход.
– Я хочу знать, каково им идти в этих кандалах, – говорил Феодор Петрович.
Когда князь Голицын заболел и стал часто уезжать за границу, Гааз потерял своего великодушного заступника.
Начальники этапов стали резко отказывать ему перековывать ссылаемых, находили это затруднительным и удивлялись, что за охота доктору распинаться и хлопотать за арестантов. Снова встревожился и заволновался Феодор Петрович, снова стал беспокоить начальство, просить и умолять… ему отказывали. Новый начальник грозил совсем «удалить сего доктора от его обязанности».
Тогда Гааз решился на крайнее средство: он написал горячее, убедительное письмо прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV, в котором рисовал мрачную картину препровождения на пруте, умолял короля донести об этом своей сестре, русской государыне, чтобы она рассказала своему царственному супругу…
Мало-помалу, благодаря энергии «смешного чудака», прут был отменён и заменён «гаазовскими» кандалами.
В это время благородный князь Голицын скончался и с горестью был оплакан всеми москвичами.
Его преемник князь Щербатов очень скоро оценил и понял чистую душу «беспокойного доктора». Он стал поддерживать его сторожевую службу на Воробьёвых горах, не давая хода никаким на него жалобам.
Но этим не кончились невзгоды Феодора Петровича, много ещё огорчений и обид ожидало его впереди.
VI
«Торопитесь делать добро, – писал и говаривал Гааз. – Самый верный путь к счастью не в том, чтобы самому быть счастливым, но чтобы других делать счастливыми. Надо любить людей, внимать их нуждам, заботиться, помогать советом и делом».
Такая светлая, бескорыстная любовь к людям прошла через всю жизнь доктора Гааза, но более всего она отразилась на судьбе несчастных. Тут его заботам, попечениям не было границ.
Ежедневно разъезжал Феодор Петрович по тюрьмам Москвы и входил во все нужды арестантов. Уже семидесятилетний старец, он всюду и вечно вступался за «своих несчастных» перед их начальством, и там, где не действовали просьбы, он пускал в ход мольбы, а иногда и слёзы. Почтенный вид старца, его горячие слова, идущие от сердца, нередко трогали суровых людей и просьбы его исполнялись.
Узнав, что бритьё волос на одной половине головы у арестантов вызывает нередко тяжёлые душевные муки (случалось, что брили за просроченные паспорта неправильно взятых солдат и возвращаемых на родину, позорно и тяжело было явиться в родной дом с таким клеймом), Гааз усиленно хлопотал об отмене такого бритья головы, его просьбу уважили: бритьё отменили и оставили только для каторжных.
Все свои заработанные деньги Феодор Петрович отдавал по тюрьмам, и когда вследствие неурожая последовало предписание уменьшить порции арестантов, то он тотчас же внёс в комитет 11 тысяч от неизвестного на улучшение пищи.
Всюду проникал зоркий глаз доктора, когда дело шло о несчастных. Видя, что тюрьмы грязны, холодны, полны мышей, зловония, он хлопочет и испрашивает разрешения их перестроить; сам собирает пожертвования, ездит на постройку, следит за работой, лазит по лесам, спорит с рабочими, и тюрьма принимает опрятный вид. Чистые светлые комнаты с широкими окнами выкрасили масляной краской, на дворе вырыли колодезь, двор обсадили деревьями.
Каждое воскресенье Феодор Петрович рано приезжал в тюрьму на Воробьёвы горы. Здесь он отстаивал обедню, внимательно слушал проповедь, которая, после его обращения к митрополиту Филарету, произносилась в этот день, так как в понедельник партии уходили в Сибирь.
Затем он обходил камеры арестантов, утешал, ободрял, помогал. Он входил всегда один в отделения самых ужасных каторжников, оставался с ними подолгу, кротко беседуя, и не было ни одного случая, чтобы против Феодора Петровича вырвалось у какого-нибудь ожесточённого, пропащего человека хоть одно грубое слово. Самые тяжкие преступники относились к нему с почтением. Гааз выслушивал всех терпеливо, и на его спокойном, добром лице не было и тени неудовольствия. Он знал, что узнику часто хочется высказаться, излить душу… Устремив прекрасные, внимательные глаза, Феодор Петрович разъясняет, что для помощи нет повода, жалеет, что нельзя помочь, два-три ласковых слова и несчастный ободрён, утешен, успокоен.
Арестанты ждали посещения Феодора Петровича, как праздника, обожали его, верили ему и даже сложили про него поговорку: «У Гааза нет отказа».
За Рогожской заставой был учреждён по мысли Гааза полуэтап. Здесь на краю Москвы партия отдыхала и, переночевав, утром окончательно двигалась в свой нерадостный путь.
Сюда каждый понедельник подъезжала дребезжащая пролётка доктора. Из-под кожаного фартука выгружались корзины, ящики, мешки с подаяниями – всё делилось между уходившими. Гааз прощался с ними и напутствовал их.
Уйдут они, а его мысль далеко летит за ними: что-то они, как идут? Не тяжело ли им?
Один молодой чиновник, по фамилии Арцимович, ездил на ревизию в Сибирь… Остановившись на день в Москве, он был очень поражён одним поздним визитом. Вернувшись ночью поздно из гостей, он только-только лёг спать, как к нему вошёл слуга и доложил, что незнакомый старик настойчиво желает его видеть. В отворённую дверь вошёл усталый, едва переводивший дух, старик в чёрном фраке, в жабо, в чулках и башмаках. Это был Гааз.
– Простите, пожалуйста… – заговорил он. – Извините великодушно за поздний визит… Но я разыскивал вас целый день и едва нашёл.
Пришедший сел на край кровати, взял удивлённого Арцимовича за руки, доверчиво устремил на него голубые добрые глаза и закидал его вопросами:
– Вы ведь видели «их» в разных местах? Ну, как «им» там? Не очень ли «им» тяжело? Что «им» особенно нужно? Вы уж извините старика, но мне «их» так, так жаль!!!
И растроганный хозяин целую ночь рассказывал необычному гостю о «них» и ласково отвечал на все его расспросы.
Уходившие арестанты уносили с собой неизгладимую память о Федоре Петровиче. И многих несчастных в далёкой Сибири, в тёмных рудниках поддерживало и ободряло отрадное сознание, что в Москве есть старик, который думает об «их брате», «старается», «жалеет», «умоляет» быть лучше и исправиться… Может быть, светлая искорка правды и добра, закинутая этим стариком в загрубелые души, жила и разгоралась ясным пламенем.

Однажды тот же В.А. Арцимович, бывший в Тобольске губернатором, объезжая губернию, остановился в доме зажиточного, уже давно прощённого и хорошо жившего ссыльного переселенца.
Когда губернатор, уезжая, сел в экипаж, его вышел провожать хозяин дома. Это был степенный старик, с длинной седой бородой, одетый в синий кафтан тонкого сукна. Вдруг старик смешался и упал на колени. Губернатор подумал, что он хочет просить полного помилования, велел ему встать и изложить свою просьбу.
– Никакой у меня просьбы, ваше превосходительство, нет, и я всем доволен, – отвечал старик, не поднимаясь с колен. – А только… – и он заплакал от волнения, – только скажите мне хоть вы… ни от кого я узнать не могу толком… Скажите, жив ли ещё в Москве Феодор Петрович?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































