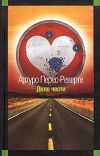Текст книги "Оторванный от жизни"

Автор книги: Клиффорд Уиттинггем Бирс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
«Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею» – я интерпретировал это как приказ к бою. «И в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды», – ответил священник. «И десница Твоя покажет Тебе дивные дела», – отозвалась паства. Я знал, что могу говорить правду. Приписать себе «кротость» я не мог, не считая того, что за два прошедших года вынес много несправедливости, не выказывая негодования. Я твердо верил в то, что перо научит меня дивным делам: например, как бороться за реформу.
«Остры стрелы Твои, [Сильный], – народы падут пред Тобою», – произнес священник. Да, мой язык мог быть острым, как стрела, и я смогу бороться с теми, кто стоит на пути реформ. Чтение продолжилось: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». Первое предложение я не связывал с собой; но, как я тогда полагал, ко мне вернулся рассудок, и было просто представить, что Бог помазал меня елеем более соучастников моих. «Елей» – подходящее слово, чтобы описать эйфорию.
Два последних стиха псалма повторяли сообщения предыдущих: «Сделаю имя Твое памятным в род и род», – прочитал священник. «Посему народы будут славить Тебя во веки и веки», – отозвался я. В этих строках заключалась моя бессмертная слава, но только при условии, что я успешно завершу миссию реформатора – обязательство, возложенное на меня Господом в тот момент, когда Он вернул мне рассудок.
Я укрепился в мысли провести реформу. К этому меня толкали мотивы, отчасти похожие на те, что овладели Дон Кихотом, когда он двинулся в путь, как говорит Сервантес, «с намерением „искоренять все зло и подвергаться смертельной опасности, таким образом он обретет вечное признание и славу“». Сравнивая себя с безумным героем Сервантеса, я не хочу впадать в заколдованный круг рыцарства. Я хочу показать, что человек в состоянии неадекватной эйфории может быть зачарован своими лучшими побуждениями. Во власти этой мании, до некоторой степени идеалистичной, он не только готов, но и желает идти на риск и нести на своих плечах трудности, на которые в нормальной ситуации пошел бы нехотя. Справедливости ради, я могу заметить, что мои планы реформы никогда не достигали донкихотского и непрактичного уровня. Я не собирался бороться с ветряными мельницами. В качестве инструмента нападения и защиты я избрал перо, а не копье; я чувствовал, что острием пера однажды смогу уколоть общество так, что заставлю его сострадать; я приведу на это заброшенное поле битвы мужчин и женщин – искренних, желающих бороться за жизни тысяч больных, неспособных постоять за себя.
XIV
Два года пробыв без родственников и друзей, я не стал терять времени и попытался связаться с ними; однако я последовал просьбе моего опекуна и дал ему два-три дня на то, чтобы ознакомить близких с новым поворотом в моей судьбе.
В конце той первой недели я написал такое количество писем, что скоро израсходовал запас письменных принадлежностей. Последнюю партию мне предоставили по просьбе брата, который распорядился давать мне все, о чем я попрошу. Сам я попросил управляющего предоставить мне большие листы манильской оберточной бумаги. Я разрезал их на полосы в 30 сантиметров шириной. Одна подобная полоса длиной в 120 сантиметров подошла бы для любовного послания; но настоящее письмо требовало нескольких полос, склеенных вместе. Я не раз писал письма длиной в шесть – девять метров; однажды я сидел пару дней и исписал полосу, которая, расстеленная на полу, покрывала весь коридор – 30 метров. В час я исписывал около трех метров с плотностью в сто пятьдесят слов на 30 сантиметров. В маниакальном состоянии человек очень гордится тем, что делает все в рекордные сроки.
Это не делало их лишенными смысла. В них просто скакала мысль, и это было ожидаемо, потому что мания затуманивает «первоначальную цель». Мои письма – жуткие образчики эпистолярного жанра – регулярно отправлялись к получателям, но лишь малая часть из них достигла адресатов, поскольку все мои сочинения проходили через руки брата. Это раздражало, но позднее я понял, что он сослужил мне службу, став мостиком между моим раскаленным разумом и спокойными умами всех остальных. Однако его вмешательство и попрание моих прав стало первым шагом на пути к их полному уничтожению бестактными санитарами и, в частности, одним помощником врача.
Во мне всегда были сильны организаторские наклонности. Именно поэтому было естественным, что в маниакальном состоянии у меня возникла страшная тяга к контролю. Чтобы справиться с давлением, я немедленно взял шефство над тем отделением больницы, в котором лежал. Я раздавал приказы, часто маскируя их под вежливые просьбы. Однако если мои просьбы не выслушивались, а требования не исполнялись сразу, я дополнял их обидными ультиматумами. После этого ультиматумы ставили мне, и я попадал в неприятности каждый раз, когда они исполнялись.
Помощник врача, занимавшийся мной, понял, что не может выполнить все мои просьбы, и решил их просто игнорировать. Это было ошибкой с его стороны. Он мог бы делать то же самое, но тактично, не вызывая во мне враждебности. Но он относился ко мне с презрительным равнодушием, которое наконец переросло в злобу, что обернулось неприятностями как для него, так и для меня. За два месяца до этого управляющий и заведующий санаторием убеждали меня делать что угодно, просто попросив. Если они с легкостью могли контролировать меня в период умственного возбуждения, разумно предположить, что и третий человек, этот помощник врача, мог бы так же выйти на контакт, если бы относился ко мне с уважением. Но именно его плохо скрываемая надменность взрастила во мне презрение. В заметке, написанной на второй неделе маниакального периода, я предположил, что мы поладим. Это, конечно, было до того, как я стал создавать проблемы и испытывать его терпение. Тем не менее мое предположение свидетельствует о том, что он мог бы избежать потери времени и многих тревог, если бы воспринял мое дружелюбие. Дело в том, что больных лечит не только сам врач, но и его доброе отношение.
Меня так сильно затянула тяга писать, что, когда я в первый раз сел сочинять письмо, то просто отказался лечь спать, когда велел санитар. Больше года этот человек наблюдал за мной, немым и кротким, и внезапная, шокирующая перемена насторожила его: все это время я был равнодушно послушен, а теперь – совершенно непокорен. Он угрожал силой утащить меня в палату, но странным образом не делал этого. После получаса бесполезных уговоров, во время которых к его мозгу прилило огромное количество крови, этот ошеломленный человек родил своевременную и мудрую идею. С непривычной изобретательностью он выключил свет и погрузил все отделение во мрак. Втайне я даже восхитился этой хитростью, но мои слова, вероятно, не выражали одобрения, которое было внутри меня.
Я лег в кровать, но не уснул. Экстаз, в котором я пребывал из-за накрывающей мании, делал каждый час бодрствования невероятно счастливым, и моя память не знает дней ярче, чем эти ночи. Бездна мыслей разверзлась. Казалось, что мои мысли бросаются друг на друга и спотыкаются в попытке побыстрее попасть к своему вознесенному эго.
Мне хотелось компании, но было мало пациентов, с которыми я хотел говорить. Я страстно желал завести беседу с помощником врача, поскольку он был образован, а еще знаком с моей историей болезни. Но этот человек, пытавшийся разговорить меня, когда меня одолевал бред, едва слушал меня, когда я был более чем готов общаться. Намеренные и плохо скрываемые попытки избегать меня все сильнее распаляли желание поговорить с ним в любой удобный момент.
Где-то на второй неделе разработки реформы я осознал, что отделение, в котором я находился, было обставлено хорошей мебелью и очень сильно походило на родной дом, хотя, справедливости ради, я едва ли мог бы сравнить его с домом. Мои воспоминания об отделении для «буйных больных» были куда менее приятными. И хотя меня не трогали в первые год и два месяца, я видел, как санитары совершенно необоснованно применяют грубую силу, расправляясь с «буйными пациентами», которых по прибытии разместили в том же отделении, что и меня. До меня также доходили слухи об ужасном обращении с невменяемыми пациентами, и в это охотно верилось.
Я практически сразу решил провести тщательное расследование. Чтобы доказать свои намерения, для начала я сказал паре людей, что нарушу определенные правила, чтобы меня перевели в отделение для буйных. Сначала я думал разбить какое-нибудь окно, но потом достиг цели по-другому – и раньше, чем ожидал. В моем присутствии брат сказал помощнику врача, что доктора должны разрешить мне звонить, когда это покажется им необходимым. Одним утром я попросил сделать звонок. Но я исходил из желания проверить враждебно настроенного помощника врача, а не поговорить с братом. Тем утром я получил от него письмо. Врачу было известно об этом, потому что я показал ему конверт. Именно благодаря письму я обосновал свою просьбу, хотя брат и не выражал желания поговорить. Доктор не мог знать, что я лгу. Тем не менее он отказал мне в просьбе – просто потому, что ему так захотелось, и выразил это в грубой и жесткой форме. Я ответил так же и еще прокомментировал его характер.
– Если ты не перестанешь так разговаривать, – сказал он, – я переведу тебя в Четвертое отделение.
(То самое, для буйных.)
– Да переводи куда хочешь! – ответил я. – Я быстрее закопаю тебя в землю.
После этого врач, естественно, выполнил свою угрозу, и санитар отвел меня в отделение для буйных, но не против моей воли. Я ведь стремился туда попасть!
В отделении, где я теперь лежал (с 13 сентября 1902 года), был минимум мебели. Пол из твердых пород дерева, на стенах ничего не висело. После еды и упражнений на улице пациенты обычно сидели в одном большом помещении на жестких скамейках; в больнице считали, что стулья в руках буйных пациентов могут стать угрозой для других. И хотя в столовой стояли вполне основательные стулья, пациенты редко буйствовали в обеденное время. И тем не менее один из этих стульев вскоре вошел в историю.
Так как меня перевели очень быстро, я не смог обзавестись вещами, в которых теперь страстно нуждался. Сперва я попросил, чтобы мне вернули письменные принадлежности. Санитары, действуя, несомненно, по приказу врача, отказались; они даже не дали мне простого карандаша – к счастью, у меня завалялся свой. Несмотря на запрет, я нашел обрывки бумаги и уже в скором времени стал писать записки начальству. Несколько штук (как я узнал позднее) были доставлены по адресу, но на них не обратили внимания. До вечера врачи ко мне не подходили; а тот, кто меня переселил, объявился во время вечернего обхода. Когда он пришел, продолжилась утренняя беседа – в похожем тоне. Я снова попросил позвонить опекуну. Доктор снова отказался, и, конечно, я вновь высказал все, что о нем думаю.
Заточение радовало меня. Я находился там, где хотел быть, занимал себя тем, что исследовал условия заключения и помечал их в уме. Помощник врача имел право помогать санитарам или увольнять их, поэтому они делали все, что он скажет, и отказывали мне в просьбах. Несмотря на их недружелюбное отношение, мне все-таки удалось убедить управляющего, доброго человека в возрасте, отнести записку заведующему хозяйством. В своем послании я просил заведующего немедленно прийти поговорить. Я считал его другом, но он так и не появился и не написал ответ. «Он тоже намеренно игнорирует меня», – думалось мне. Но, как я выяснил позже, и он, и главный врач вообще отсутствовали. В противном случае мне бы попало от помощника врача, который был тут как тут.
Следующим утром я повторил свою просьбу и снова получил отказ, после чего попросил доктора прислать мне Псалтирь, который я оставил в своей старой палате. На это он согласился, вероятно, думая, что немного религии мне не повредит. Кажется, я прочитал свой любимый, 45-й, но по большей части я писал на пустых страницах свои предложения. И если качество псалма измеряется силой чувства, за ним прячущейся, мои сочинения вполне способны конкурировать с псалмами Давида. Мои псалмы были адресованы высшим чинам в больнице, и чуть позднее в тот же день управляющий, много раз выступавший в роли моего друга, отнес им книгу.
Помощник врача, неправильно решивший, что за острым языком кроется буйный рассудок, отправил меня в изгнание, которое помешало посетить службу в часовне тем воскресным днем. Возможно, я бы лучше провел время там, но вместо этого я придумывал довольно изобретательный план, как снова начать общаться с заведующим санаторием. В тот вечер, когда врач пришел снова, я обратился к нему дружелюбно и вежливо повторил просьбу. Он снова отказался.
– Поскольку кажется бесполезным спорить с вами, – сказал я смиренно, – а на мои записки никто не отвечает, я, с вашего благословения, пробью окно в вашем идиотском санатории и завтра буду у заведующего в офисе.
– Бей, бей, – ухмыльнулся он.
Если в уме или на бумаге вы нарисуете букву L, вертикальная часть которой будет изображать комнату длиной в двадцать метров, а горизонтальная – часть длиной в шесть, и если вы потом представите, что я стою в дверном проходе на пересечении этих двух прямых, ведущем в столовую, а доктор находится в другой двери наверху этого перпендикуляра, вы увидите две противоборствующие армии перед первым нападением. Осада длится семь недель.
В тот момент, когда доктор отправился в отделение, поскольку ему нужно было вернуться в кабинет, я исчез в столовой. Я прошелся по ней и поднял один из тяжелых деревянных стульев. В это время доктор и его спокойные больные ушли в церковь. Используя стул как таран – безо всякой злости: в моем сердце теплилась радость, – я треснул им по окну и выбил его верхнюю и нижнюю часть. Я ошибся только в одном: встал не слишком ровно и не на той дистанции, а то мог бы разбить его целиком. Об этом я жалею, так как всегда любил заканчивать хорошо продуманные дела.
Звон разбитого стекла напугал всех, кроме меня. Особенно сильно это подействовало на одного пациента. Он начал спасаться бегством. Доктор и санитар в соседней комнате не видели меня и не знали, в чем дело, но времени не теряли. Как самый хладнокровный убийца, стоящий над жертвой с орудием преступления в руке и тихо ожидающий ареста, я не двигался с места и достаточно спокойно ждал доктора и санитара. Вскоре они поймали меня и, взяв за руки, отвели в палату. Все это заняло не более чем полминуты, но я успел придумать для врача еще одно обидное прозвище. Сейчас я не могу вспомнить его в точности, но текст от этого смысла не потеряет. А когда доктор удерживал меня, я все-таки кое-что добавил – довольно складное, продуманное замечание.
– Ну, доктор, – сказал я. – Я знаю, что вы человек честный, так что я поймал вас на слове.
Мои слова могут показаться бездумными, но в них был смысл. Заведующий следил за всем зданием и потребовал быстро отремонтировать стекло. Именно его я больше всего хотел увидеть. Я пришел к выводу, что кусок стекла за несколько долларов (за которое, к моему удивлению, мне позже пришлось заплатить) привлечет его профессиональное внимание, раз, как я думал, он перестал дружить лично со мной. Следующим утром, как я и надеялся, появился заведующий. Он подошел ко мне дружелюбно (как и обычно), и я ответил тем же.
– Хорошо, что вы не уничтожили все здание.
– Я с радостью не буду его трогать, если впредь вы будете обращать внимание на мои письма, – бодро отозвался я.
– Я уезжал из города, – ответил он. – Иначе пришел бы к вам как можно скорее.
И я принял это правдивое объяснение.
Я рассказал заведующему, что помощник врача не дает мне позвонить брату. Он согласился рассказать об этом главному врачу, который вернулся тем утром. В качестве благодарности я обещал приостановить враждебные действия до появления главврача. Я честно сказал, что, если заведующий нарушит свое слово, я перейду на вентиляционные решетки отделения буйных пациентов и продырявлю их. Все-таки моя вера в человечество восстановилась еще не полностью.
XV
Несколько часов спустя, не увидев ничего необычного (за исключением отношения к себе), я был переведен в старое отделение. Главврач, приказавший сделать это, скоро пришел ко мне, и мы вполне удовлетворительно побеседовали. Он дал мне понять, что будет заниматься мной сам, потому что его помощник вел себя бестактно и принял неправильное решение в попытке обуздать мой темперамент. Желание позвонить брату у меня тут же исчезло.
Стоит понимать, что ни одному врачу не понравится, если заберут его свободу воли; безо всяких сомнений, гордость помощника была задета, когда его некомпетентность оказалась очевидной. И теперь, когда он проходил по отделению, мы часто набрасывались друг на друга. Я не только не упускал ни одной возможности унизить его в присутствии санитаров и пациентов, я создавал такие возможности; вскоре он старался просто избегать меня, когда мог. Но это получалось редко. Бросать едкие реплики в его сторону было моим главным развлечением. Иногда он вел себя глупо и не уходил, и в таких случаях его ответы только распаляли мой гнев. Если и существуют какие-то эпитеты, которыми я не наградил его в течение следующих недель нашего общения, я просто-напросто еще не придумал их на тот момент. Необыкновенная примесь здравомыслия, проявляемая мной, несмотря на мое безумное состояние, была чем-то, чего доктор не мог понять. Мои замечания, которые следовало бы просто забыть и проигнорировать, вызывали столько раздражения и гнева, сколько вызывают оскорбления со стороны свободного здорового человека. Он по-прежнему отказывался выполнять мои просьбы, и это играло на руку моей мании.
Вернувшись в старое отделение, я оставался там на протяжении трех недель. В то время я сконцентрировался на себе. Обширный список бредовых идей вдохновлял меня, я думал, что все возможно. Мало что убегало от моего разума. Если меня провоцировали, я мог напасть на санитара, – они были проблемой сами по себе, но я ввязывался в подобные драки лишь за свои права или за права других людей. Некоторое время я хорошо ладил с санитарами и неплохо даже с помощником врача, но вскоре стало понятно, что чем лучше они меня узнавали, тем меньше любили. У них не было способностей, нужных для этой работы, поэтому я постоянно их раздражал. Много раз в день я говорил санитарам, что делать, а чего не делать, и рассказывал им, что натворю, если никто не обратит внимания на мои просьбы, предложения и приказы. Больше года они наблюдали меня в пассивном, молчаливом состоянии, потому не могли понять мою необычайную агрессию. Угроза, что я буду наказывать их за любое неподчинение моим приказам, воспринималась ими как большая шутка. Дело так и обстояло, пока в один день я невольно не «пошутил» с головой одного из них.
Началось все так: в начале октября в отделение положили человека, чье безумие заключалось в алкогольной зависимости. Ему было за пятьдесят, хорошо образованный, много путешествовавший: творческая и утонченная личность. В больнице было мало похожих на меня по духу людей, и вскоре мы нашли общий язык. Родственники положили этого человека обманом. Как часто бывает в подобных случаях, им наговорили кучу успокаивающих слов – всем, кроме самого пациента. Представить только: его без предупреждения забрали из собственного дома, положили в больницу благодаря обманной, хотя и оправданной стратегии, и вот он уже лежит тут с пятнадцатью незнакомцами – безумцами разной степени тяжести. Какое несчастье! Как повернулась судьба этого человека! Вчера он был свободен, сегодня – лишен этой привилегии и заклеймен, по собственному мнению, пятном несмываемого позора.
Мистер Бланк (именно так я буду его называть) был ужасно напуган. Он оказался чужаком в этом странном мире, и именно поэтому я взял его под свое крыло. Я хотел защитить его и сделать жизнь бедолаги чуточку лучше. Я делал все возможное, чтобы развеселить его, и пытался вызвать в себе то уважение, без которого, казалось, его существование невозможно. Пациентов в его состоянии никогда не заставляли гулять с другими. За прошедшие год и два месяца я ни разу не видел, чтобы пациента, отказавшего идти на зарядку, вели силой. Такие постояльцы оставались в отделении; иногда об их отказе сообщали врачу, но не делали ничего больше. Ни один здоровый человек не может представить себе, как унизительно было бы для него ходить с толпой «скованных одной цепью». По двое, под охраной, эти заложники несчастья гуляли только так, как им позволяла их несвобода. Раз или два мистер Бланк гулял с ними, и меня посетила довольно разумная мысль: физическая активность не компенсирует стресса, который вызван унижением и позором. Мне было очень просто вступиться за него; когда он пришел ко мне в палату, перед ожиданием очередной пытки, горько плача, я уверил его, что он будет делать упражнения вместе со мной. Сперва я собирался дружелюбно пообщаться с дежурившим санитаром и попросить его разрешить моему новому другу гулять вместе со мной. Он наотрез отказался, собираясь вести его со всеми.
Я сказал:
– Я больше года числюсь в этом отделении и никогда не видел, чтобы человека в состоянии мистера Бланка заставляли идти на улицу силой.
– Какая разница, что вы там видели, – отозвался санитар. – Он пойдет со всеми.
– Вы можете спросить доктора, может ли мистер Бланк гулять со мной и моим санитаром?
– Нет, не могу. И вообще это не ваше дело.
– Если вы прибегнете к физической силе, пытаясь вывести мистера Бланка с другими пациентами, вы об этом пожалеете, – сказал я, уходя прочь.
В ответ на эту угрозу санитар презрительно рассмеялся. Для него моя угроза ничего не значила. Он думал, что я дерзок только на словах. Признаюсь, я и сам сомневался, могу ли я подтвердить свои угрозы.
Возвратившись в палату, где ждал меня мистер Бланк, я поддержал его и заверил в том, что на этот раз его пощадят и ему не придется так мучиться. Я велел ему идти в определенную комнату в другом конце зала и ждать дальнейшего развития событий: в том случае, если будет драка, пусть линия фронта окажется растянутой. Он подчинился. Через пару минут в эту комнату направился санитар. Я шел по пятам и по-прежнему угрожал напасть на него, если он хоть пальцем коснется моего друга. Тогда я не знал, но за мной следовал другой пациент – совершенно безумный мужчина, который в моменты прояснения рассудка выказывал преданность окружающим. Кажется, он понял, что назревает беда и что мне, вероятно, понадобится помощь. Внутри палаты словесная перепалка возобновилась. Мой испуганный друг, принимающий все близко к сердцу, стоял рядом и смотрел на разворачивающиеся события.
– Я предупреждаю тебя еще раз, – сказал я. – Если ты тронешь мистера Бланка, я ударю так сильно, что ты пожалеешь.
Санитар ответил тем, что немедля попытался вытащить мистера Бланка из комнаты. И тогда я среагировал на автомате, не помню того, что совершил. Я помню, что собирался это сделать, и помню очевидные последствия. Я уже решил, что́ сделаю, если санитар поведет себя подобным образом. Так и получилось. Почти до того, как он прикоснулся к мистеру Бланку, я замахнулся с огромной силой и врезал ему в левый глаз. Именно в тот момент я привлек внимание санитара к своей персоне. Он стал душить меня, а неожиданный помощник, ранее плетшийся за мной, в свою очередь начал душить его. В пылу драки я оказался на полу. Санитар держал меня за горло. Другой пациент в ответ сдавливал его шею обеими руками. Таким образом сформировалась цепь со слабым, если не отсутствующим, звеном посредине. Представьте, если сможете, безумца, которого душит вроде бы здоровый человек, а его, в свою очередь, душит временно здоровый безумный друг первого. Немезида в действии, как ее описывали риторы!
Тот факт, что меня душили, доказывает след на моей шее в форме полумесяца от большого пальца нападавшего. Я склонен верить, что мой спаситель, очень сильный человек, тоже оставил след на горле санитара. Не появись в тот момент главный врач, санитар вскоре мог потерять сознание, поскольку я уверен, что мой союзник ни за что не отпустил бы его, не отпусти тот меня. В тот момент, когда санитар встретился взглядом с главврачом, потасовка закончилась. Это было совершенно естественно, потому что согласно кодексу чести, гуляющему среди санитаров, не стоит забываться и применять к пациентам физическую силу на глазах у здорового профессионального свидетеля.
Меня только что душили, и это лишь подготовило мои голосовые связки. Я рассказал врачу и о словесной перепалке, и о том, что драться было необязательно. Главврач окончил Йельский университет за полвека до меня, и благодаря общей альма-матер и наличию идеального чувства такта мы хорошо ладили. Его дружелюбие, однако, не помешало прокомментировать произошедшее.
– Мне горько оттого, что ты, выпускник Йеля, повел себя так недостойно.
– Если борьба за права пожилого человека, неспособного защитить себя, – недостойное поведение, то я готов считать себя хулиганом, – ответил я.
Стоит ли упоминать о том, что тем утром санитар не повел мистера Бланка на прогулку? И, насколько мне известно, его больше ни разу не принуждали заниматься физической активностью.
XVI
Главный врач понял, что я слишком энергично борюсь за права человека и мне больше нельзя находиться в одном отделении с таким количеством пациентов. Мои действия влияли на них пагубным образом, поэтому меня перевели в частную палату, расположенную в маленькой одноэтажной пристройке. Комната была очень хорошо обставлена и походила на холостяцкую квартиру.
Там не было никого, с кем бы я мог вступить в конфликт, и я жил без каких бы то ни было проблем, а личный санитар подходил моему темпераменту. Он хорошо знал человеческую природу и никогда не прибегал к силе, если меня не удавалось уговорить словами. Обыденные споры, которые привели бы к разногласиям, будь он типичным санитаром, он либо игнорировал, либо в частном порядке докладывал о них доктору. За весь период моего излишнего возбуждения люди делились на два типа: тех, кто мог меня контролировать, и тех, чье присутствие заставляло меня гневаться, я впадал в раж, что часто приводило к плачевным последствиям.
К несчастью для меня, добрый санитар вскоре покинул нашу больницу: ему сделали более выгодное предложение. Он даже не попрощался со мной. Для меня было очень важно, чтобы он остался, а не уехал, причем так резко и, очевидно, по приказу доктора, который, наверное, не задумывался, что подобная перемена так меня обеспокоит. Когда была проведена замена, я вел себя адекватно, хотя мне и не нравился человек, который занимался мной теперь: у нас уже имелись разногласия. Ему было приблизительно столько же лет, и мне оказалось трудно действовать по его указаниям, в то время как я легко подчинялся его предшественнику, который был намного старше. Кроме того, я не нравился этому санитару, потому что наговорил ему много неприятного, когда мы были в общем отделении. Он весил порядка девяноста килограммов, а я – около шестидесяти. Вероятно, его взяли потому, что он обладал физической силой. Куда мудрее, конечно, было бы выбирать человека по его умственным качествам, а не физической форме. Главный врач был очень пожилым человеком и отличался слабым здоровьем, поэтому ему опять пришлось передать мое дело в руки помощника, а тот, в свою очередь, уже раздавал определенные указания. Он четко определил, что я могу, а что не могу делать. Эти указания, отчасти безрассудные, строжайше выполнялись. Винить санитара за это я не могу. Доктор лишил его права думать самостоятельно.
В этот период я совсем не нуждался во сне. Обычно я проводил часть ночи за рисованием. В сентябре 1902 года, когда я был полностью сконцентрирован на самом себе, я решил, что обязан стать автором книг – по меньшей мере одной; а теперь я думал, что могу стать художником и иллюстрировать собственные книги. Я не любил рисовать ни в школе, ни в университете. Но проснувшееся во мне желание творить разгоралось. Моим первым самостоятельным творением стала копия иллюстрации с обложки журнала «Лайф». Учитывая мою неподготовленность, первый рисунок я считаю неплохим, но доказать этого не могу: халатные санитары уничтожили его вместе с другими рисунками и рукописями. С того момента, как я закончил свой первый рисунок, я переключался то на рисование, то на письмо; у меня даже возникла идея сочинить письмо губернатору штата и проиллюстрировать свое послание. По несколько часов в день я писал и читал, столько же посвящал рисованию. Но помощник врача, вместо того чтобы помогать мне избавиться от чрезмерной энергии через творчество, подло вставлял палки в колеса, не обращая никакого внимания на мои пробудившиеся амбиции. Врачи должны были делать все возможное, чтобы успокоить мой сумасшедше активный ум; но взамен меня обдавали холодным равнодушием, никто не защищал мои интересы, и я постоянно раздражался.
В какой-то момент случилось так, что мои творческие порывы не просто подавили, а задушили. Доктора решили – и это было глупо с их стороны, как я полагаю, – мой чрезмерно деятельный разум успокоится в только полном отшельничестве. Следовательно, у меня забрали все книги, принадлежности для рисования и письма. С 18 октября по 1 января следующего года, за исключением двух недель, меня запирали то в одной, то в другой маленькой пустой комнате, которая напоминала тюремную камеру и иногда была даже хуже.
Решающую роль в этом кризисе сыграл початок кукурузы. Во мне жил маленький Рафаэль, и у меня была привычка сохранять разные вещи как память об этапах саморазвития. Мне верилось, что эти вещи, озолоченные моим прикосновением (будто бы я царь Мидас [10]10
Царь Мидас – фригийский царь, с которым связано несколько мифов. Особенно известен в древнегреческой мифологии тем, что одним прикосновением превращал все в золото.
[Закрыть]), однажды будут стоить много денег. Если общество терпимо к коллекционерам, то оно вполне может позволить одному безумцу собирать все, что попадется ему под руку. Среди всяких диковин затесались и несколько початков кукурузы. Я собирался позолотить их и как-то прикрепить к маленьким термометрам. Однако утром 18 октября один человек, занимавшийся моим делом, нашел початки и сообщил, что выбросит их. Я тут же предупредил, что его действие приведет к драке. Так и случилось.
Когда драка началась, в палате было два санитара. Я дрался, пока мы не заключили временное перемирие, и сказал им, что буду сражаться до тех пор, пока в отделение не придет помощник врача. Мой личный санитар, поняв серьезность моих слов, схватил и держал меня, пока его коллега не вернулся с подкреплением. А так как он был не с помощником врача, а с третьим санитаром, драка продолжилась. Тот, кто ходил за «помощью», держался в сторонке, потому что был ниже, чем два других. Конечно, ссоры с пациентами шли вразрез с правилами заведения, и, поскольку я был достаточно в себе, чтобы доложить о любых запрещенных ударах, санитары держали меня за руки и пытались придушить, чтобы я перестал сопротивляться. Однако я выворачивался – они не могли сжать мне горло – и почти десять минут я продолжал борьбу, все время повторяя, что не остановлюсь, пока не придет доктор. Наконец, появился помощник врача, но не тот, что занимался моим делом. Он заключил, что меня нужно положить в отделение для буйных рядом с моей палатой, и меня мгновенно заперли там.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.