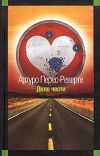Текст книги "Оторванный от жизни"

Автор книги: Клиффорд Уиттинггем Бирс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
XXVI
В начале марта 1902 года (на тот момент я пробыл в отделении для буйных почти четыре месяца) меня перевели в другое отделение – столь хорошо организованное, как и лучшее в больнице, но чуть более плохо обставленное, чем то, куда меня положили в первый раз. Здесь в моем распоряжении была целая палата; в ней, помимо кровати, были стул и гардероб. Я вскоре превратил палату с такой изысканной обстановкой в настоящую квартиру. В отделении для буйных надо было прятать приспособления для письма и рисования, чтобы их не забрали другие пациенты, а вот в своей новой обители я мог вести художественную и литературную деятельность без препятствий, которые случались в предыдущие несколько месяцев.
Вскоре после моего перевода в это отделение мне позволили выходить на улицу и гулять в сторону деловой части города, расположенной в трех километрах от больницы. Однако на этих прогулках меня всегда сопровождали. Того, кому не приходилось лишаться свободы, подобное наблюдение, без всякого сомнения, раздражало бы; однако я был заперт в таких тесных помещениях, что извечный санитар казался мне компаньоном, а не стражем. Эти экскурсии в свободный и здоровый мир не только приносили огромное удовольствие – они еще и тонизировали. Я ходил среди нормальных людей, и это восстанавливало мое душевное равновесие. Обычный прохожий и понятия не имел, что я – пациент психиатрической лечебницы и просто вышел на прогулку; я понемногу набирался уверенности в себе, столь необходимой для того, кто собирался выйти в мир, давно от него отрезанный.
Во время первых походов по городу я покупал себе материалы для рисования и письма. Наслаждение от прогулок давало мне чувство свободы, однако я не раз втайне посылал письма, которые не мог доверить доктору. При обычных обстоятельствах подобный поступок со стороны человека, который пользуется привилегией, бесчестен. Но те обстоятельства нельзя было назвать обычными. Я просто защищал себя: считал, что письма конфискуют незаконно и несправедливо.
Я уже описывал случай, как помощник врача по каким-то своим причинам запретил мне писать поздравительное письмо отцу, таким образом не только злоупотребив властью и проигнорировав всяческие приличия, но – сознательно или бессознательно – задушив здоровый импульс. Наверное, было неудивительно, что такое случится, пока я находился в «Стойле». Однако где-то четыре месяца спустя, когда я жил в одном из лучших отделений, случилось подобное, хотя и менее заметное происшествие. В то время я был уже практически нормален, и меня собирались выпустить в течение нескольких месяцев. Ожидая возвращения в свой старый мир, я решил возобновить некоторые отношения. Соответственно, брат по моей просьбе проинформировал нескольких друзей, что я буду рад получать от них письма, и вскоре они последовали этой просьбе. Тем временем доктору сказали, что все письма должны быть отданы мне. Некоторое время он так и делал, не прибегая к цензуре. Как и ожидалось, после почти трех лет без переписки я находил огромное удовольствие, отвечая моим вышедшим на связь друзьям. Но некоторые из этих писем, написанные с целью снова занять положение в мире здоровых людей, были уничтожены врачом. В то время мне никто об этом и словом не обмолвился. Я вручал ему незапечатанные письма, чтобы он отправил их сам. Он не отправлял их и не пересылал моему опекуну, как следовало, хотя ранее согласился делать так со всеми письмами, содержание которых не мог одобрить. Прошел целый месяц, прежде чем я узнал, что мои друзья не получали ответов. Тогда я обвинил доктора в том, что он их уничтожил, и он с запоздалой честностью признался в этом. В качестве объяснения он сказал, что не одобрял чувства, выраженные в них. Еще одно вопиющее событие произошло с письмом, которое пришло в ответ на то, что я отправил втайне. Человек, которому я писал, с которым мы дружили много лет, позднее сообщил мне, что написал ответ, но я его так и не получил. Не получил его и мой опекун. Я абсолютно уверен, что письмо дошло до больницы и там его уничтожили; в противном случае я не стал бы поднимать этот вопрос. Но, конечно, поднимать его приходится бездоказательно – без признания человека, чей поступок в мире здоровых людей считается гнусным и даже преступным.
Таким образом, мне не надо распространяться о причинах, по которым мне пришлось контрабандой посылать письмо губернатору штата с жалобами и просьбой действовать. Это письмо я сочинил вскоре после моего перевода из отделения для буйных. Насилие все еще было свежо в моей памяти, и ужасающие сцены были подпитаны докладами друзей, по-прежнему там находившихся. С этими моими «частными детективами» я общался вечерами, когда все собирались для развлечений в других местах. От них я узнал, что с тех пор, как я покинул отделение, насилия стало еще больше. Поняв, что мой крестовый поход против насилия над пациентами пока что не принес никаких результатов, я решил перескочить через несколько инстанций и напрямую написать действующему главе больницы – губернатору штата.
Письмо, которое я написал 12 марта 1903 года, так его взволновало, что он немедленно начал официальное расследование по некоторым моим обвинениям. Несмотря на многословность, необычную форму подачи и то, что при других обстоятельствах можно было охарактеризовать как дьявольское бесстыдство и фамильярность, мое письмо, как сказал мне губернатор несколько месяцев спустя, «звучало правдиво». Сочинить его было просто: очень просто – я писал под давлением правды, и само письмо стало детищем спонтанности.
Отправить его было уже сложнее. Я знал, что единственный способ предоставить мои мысли губернатору – отправить письмо самостоятельно. Разумеется, нельзя было доверять ни одному доктору, ведь тот отправлял бы обвинение против себя и коллег единственному человеку в штате, который имел возможность провести расследование, а также заставить всех искать новую работу. Мой разум работал следующим образом: если я хотел отправить письмо, я знал, как осуществить это желание. Письмо на самом деле представляло собой книжечку. Я разумно использовал водостойкие индийские чернила для рисования – наверное, чтобы оно сохранилось для отдаленных потомков. Книжечка состояла из тридцати двух страниц плотной белой бумаги для рисования двадцать на двадцать пять сантиметров. Эти страницы я сшил вместе. Планируя форму моего письма, я забыл принять во внимание средний размер щели в почтовых ящиках, поэтому мне пришлось отправить его необычным способом. И, однако же, я придумал достаточно простой метод. В городе был магазин, где я закупался. По моей просьбе доктор разрешил мне зайти туда за принадлежностями. Конечно, меня сопровождал санитар, который и понятия не имел, что у меня под пиджаком. Спрятать и нести письмо таким образом было просто, но избавиться от него, достигнув цели, было целой задачей. Воспользовавшись возможностью, я засунул свой эпохальный труд между страниц «Сэтэрдей Ивнинг Пост». Так я поступил, полагая, что какой-нибудь покупатель вскоре увидит письмо и отправит его. Потом я вышел из магазина.
На задней стороне оберточной бумаги я написал следующее:
«Господин почтмейстер! Это отправление незапечатано. Тем не менее это отправление первого класса. Все, что я пишу, относится к первому классу. Я прикрепил две марки по два цента. Если этого не хватит, вы сослужите губернатору добрую службу, добавив еще. Или же прикрепите марки, оплачиваемые при получении, и пусть губернатор сам платит по счетам, ему это доступно. Если вы хотите узнать, кто я такой, спросите у его Превосходительства. Я буду вам благодарен.
С уважением
«
Написав это уведомление, я сделал еще несколько сильных заявлений, взятых из статутов. Их я обвел рамочкой:
«Любой нашедший письмо или посылку, подписанную и с верным количеством марок, должен отправить вышеупомянутое письмо или посылку, поскольку оно находится в ведении Государства с момента прикрепления марки».
И еще одно:
«В случае вскрытия письма кем-то, помимо адресата, это действие рассматривается как нарушение федерального статута и может считаться уголовным преступлением, а открывший понесет ответственность в тюрьме штата».
Письмо достигло губернатора. Один из работников магазина, в котором я оставил письмо, нашел его и отправил по адресу. Впоследствии я узнал, что мои особенные инструкции привлекли его внимание, а также заставили поступить так, как я хотел. Учитывая, что читатель тоже может быть любопытен, я процитирую некоторые абзацы из этой эпистолы протеста размером в четыре тысячи слов. Начал я следующим предложением: «На тот случай, если у вас хватило смелости прочесть вышенаписанное (эта фраза относилась к необычному заголовку), я надеюсь, что вы прочтете это письмо до конца, выразив таким образом христианское долготерпение и узнав о некоторых фактах, о которых, как я думаю, вам должно быть рассказано».
После этого я представился, упомянул несколько общих знакомых, чтобы дать понять, что у меня есть влиятельные друзья в политике, и продолжил следующим образом: «С большим удовольствием уведомляю вас, что сейчас тружусь сумасшедшим и выполняю свои обязанности легко и в достаточной степени хорошо. Трудясь сумасшедшим, я знаю некоторые вещи об этой сфере деятельности, о которых вы не в курсе. Вы как губернатор являетесь в настоящем „главным дьяволом“ этого „ада“, хотя я знаю, что бессознательно вы действуете как первый лейтенант Его Величества».
Потом я пустился в обвинения в адрес способов лечения больных. Я заявил, что метод «неверен от начала и до конца. Насилие, существующее здесь, присутствует в любом другом заведении подобного рода. Они все похожи, хотя некоторые из них хуже других. Ад является адом везде, и я могу добавить, что ад – это всего лишь огромный сборник неприятных вещей. Это и есть сумасшедший дом. Если вы мне не верите, просто сойдите с ума и поживите здесь. Сочиняя это письмо, я не нахожусь в состоянии умственного возбуждения. Надо мной более не учиняли насилие, о котором я пишу в этом письме. Я хорошо себя чувствую и счастлив. Я никогда не был более счастлив, чем сейчас. Нахожусь ли я в идеальном рассудке, судить вам. Если я безумен сейчас, я надеюсь никогда не обрести Рассудок».
Сначала я атаковал частное заведение, где на меня надевали смирительную рубашку и писал о Джекиле-Хайде как о «, д. д. (дурак дураком)». Потом я написал о том, как на меня надевали смирительную рубашку, перечислил все насилие, что испытал в больнице штата. Я детально описал самое жестокое нападение, что выпало на мою участь. Суммируя, я написал: «Санитары говорили, что я обзывался. Может быть, и так, хотя мне кажется, что нет. Что с того? У нас не пансион благородных девиц. Неужели человека надо убить за то, что он ругается на санитаров, которые сами ругаются, как пираты? Я видел по меньшей мере пятнадцать человек, многие из которых находились в ужасном физическом или умственном состоянии, на которых напали с той же силой, что и на меня, и обычно для этого не было причины. Я знаю, что жизни людей были оборваны этими нападениями. И это просто вежливая формулировка для „убийства“». Дальше я обратился к теме женского отделения: «Пациент из этого отделения, мужчина абсолютно здоровый, которого выписывают в следующий вторник, поведал мне, что рассказала ему одна женщина: она видела, как беспомощных больных тащат за волосы по полу, а еще – как санитары, используя мокрое полотенце в качестве удавки, душили нескольких. Я сам был в подобном отделении и верю каждому слову. Вы, наверное, будете сомневаться, потому что подобное кажется невозможным. Но имейте в виду, что все плохое и неприятное возможно в сумасшедшем доме».
Надо заметить, что мне хватило ума не распространяться про то, что я не мог доказать.
Когда я дошел до «Стойла», то не тратил слов понапрасну: «„Стойло“, – написал я, – это карманный вариант Нью-Йоркской фондовой биржи во время паники».
Далее я указал на трудности, которые приходится испытать пациенту, чтобы послать письмо: «Никто не может послать письмо через администрацию: его выбросят в корзину для мусора. Исключение составляют особенно безумные письма, которые могут дойти до адресата, потому что по прочтении тот не обратит на них внимания. Но вменяемое письмо, в котором рассказывается правда о насилии, которое здесь творится, никто не отправит. Просто отвратительно, что врачи роются в чужих письмах».
Потом я описал хитрость, к которой прибегнул, чтобы отправить письмо губернатору. Обнаружив, что у меня осталась свободная страница в моей эпистоле, я нарисовал копию «Урока анатомии» Рембрандта и подписал: «Эту страницу я пропустил по ошибке. Чтобы заполучить бумагу для письма, мне пришлось сражаться пятьдесят три дня, и я ненавижу оставлять пустое место, поэтому вот вам шедевр, нарисованный за пять минут. Я не нарисовал ни линии до 26 сентября прошлого года. Я думаю, вы с готовностью поверите этому заявлению». Продолжая в самой легкой манере, я написал: «Я намереваюсь обессмертить всех медиков в больнице штата для безумных, когда я покажу свой Ад, который, будучи записанным, посрамит „Божественную комедию“ Данте, и та будет выглядеть как французский фарс».
Затем я расписал планы на реформу: «Встретят ли мои предложения одобрение или нет, это не повлияет на результат, хотя сопротивление с вашей стороны, вероятно, отложит реформу. Я решил посвятить следующие несколько дней своей жизни искоренению насилия, существующего в каждой больнице для душевнобольных в этой стране. Я знаю, как это можно сделать, и я намереваюсь – позже, когда лучше познакомлюсь с этой темой, – составить Билль о правах душевнобольных. Каждый штат в Союзе примет его, потому что он будет основан на Золотом правиле. Я желаю заполучить помощь губернатора Коннектикута, но, если мои планы не произведут на него впечатления, я буду иметь дело с его вышестоящим начальством – президентом Соединенных Штатов. Когда Теодор Рузвельт услышит мою историю, его кровь вскипит. Я бы написал ему прямо сейчас, но я боюсь, что он сразу примет информацию к сведению и слишком быстро исправит все недочеты. А если сделать все слишком быстро, ничего хорошего не получится».
Поступая, как мне казалось, хитро, но при этом говоря правду, я продолжил: «Мне очень нужны деньги, и, если бы я захотел, я мог бы продать информацию „Нью-Йорк Ворлд“ или „Нью-Йорк Джорнал“ за большое вознаграждение. Но я не хочу представлять Коннектикут как какую-то дыру Несправедливости, Зла и Безумия. Если эти факты появятся в прессе сейчас, Коннектикут будет иметь дурную репутацию в сравнении с братскими штатами. Те воспользуются положением Коннектикута и искоренят насилие до того, как их призовут к ответу. Поскольку подобное происходит по всей стране, Коннектикут не должен быть раскритикован, когда это вскроется; я имею в виду нечеловеческое отношение к тем, кто когда-то были людьми. Если, чтобы заставить вас действовать, необходима огласка (а я надеюсь, что мне не придется сделать подобное), я прибегну к предписанию habeas corpus [14]14
Судебный приказ о доставлении арестованного в суд для выяснения правомерности содержания его под стражей.
[Закрыть] и, убедив суд присяжных, что я здоров, докажу, что вы некомпетентны. Раз уж вы позволили подобному ветреному реформатору протащить позор Коннектикута в суд, вы точно некомпетентны».
Кстати, по некоторым причинам было очевидно, что в то время я не попытался бы убедить суд присяжных в том, что здоров. Если бы я рассказал им про свой амбициозный план реформы, меня бы немедля возвратили в больницу. Однако этот план был довольно здрав и осуществим, как показали последующие события. Просто он завладел мной, когда мое воображение было раскалено добела, и мне хотелось атаковать эту проблему с компрометирующей меня энергией и на протяжении некоторого времени столь неубедительным образом, что все это закрывало разумность моей цели.
Я закончил письмо так: «Нет сомнений в том, что вы сочтете части этого письма достаточно „наглыми“. Я приношу извинения за подобные строки, но у меня есть Удостоверение Безумца, и я не колеблясь говорю, что думаю. Какой в этом смысл, если я и так заперт, как преступник?
P. S. Это конфиденциальное письмо и должно быть возвращено автору по его просьбе».
В конце концов, письмо было перенаправлено моему опекуну, и теперь оно вновь у меня.
В результате моих действий губернатор немедля допросил управляющего заведением, в котором меня мучил Джекил-Хайд. До того как он изложил все мои обвинения против помощника, доктор и не подозревал, что меня пытали. Управляющий гордился своим заведением. Он чувствительно отнесся к критике и естественным образом постарался смягчить обвинения, выдвинутые против его подчиненного. Он сказал, что я был очень сложным пациентом, и это была правда; я всегда умудрялся делать вещи, которые волновали тех, кто был за меня в ответе. Словом, я привнес в ситуацию то, что назвал «таинственным образом разумным поведением».
Губернатор не встречался лично с помощником врача, который плохо ко мне относился. Если тому и сделали выговор, это было на совести управляющего.
В моем письме губернатору я уделил гораздо больше внимания насилию, которому подвергся в частном заведении, чем условиям содержания в больнице штата, где находился в тот момент. Это могло повлиять на то, как он поступил, вернее сказать – на то, что он сделал. Как бы там ни было, в отношении больницы штата не было предпринято никаких действий. Как я узнал позднее, перед тем как покинуть больницу (я лично спросил у них об этом), официальным лицам не было выслано предупреждения.
И хотя мое письмо не повлекло официального расследования, в целом результаты были. Естественно, я с большой долей удовлетворения сообщил докторам, что перехитрил их, и с еще большим удовлетворением наблюдал, как облеченные властью пытаются, пускай даже временно, защитить беспомощных пациентов от жестокости санитаров. В тот момент, когда врачи поверили, что я, минуя их, послал письмо протеста губернатору штата, они начали защищаться с энергией, родившейся из понимания того, что они наделали. Руководство так и не призналось, что стало действовать из-за моей успешной хитрости, но факт остается фактом: нескольких санитаров обвинили в жестокости, и это было доказано, после чего их немедленно уволили, и на некоторое время насилие по отношению к пациентам прекратилось. До этого же я четыре месяца протестовал совершенно напрасно. Пациенты, остававшиеся в отделении для буйных, сообщили мне, что после моего письма у них более-менее воцарилось спокойствие.
XXVII
Мне не удалось заставить губернатора расследовать происходящее в больнице штата, и я убедился в том, что не могу проводить реформы до тех пор, пока не обрету свободу и не верну себе положение в своем старом мире. Поэтому я оставил роль активиста и, за исключением редких вспышек праведного гнева из-за особо вопиющих случаев насилия, которое мне случалось наблюдать, вел себя как человек, который доволен жизнью.
Я и был доволен. Более того, я был счастлив. Я знал, что скоро обрету свободу, и мне казалось легким простить и сложным не забыть любую несправедливость, с которой я сталкивался раньше. Свобода сладка даже для тех, кто не ценит ее так сильно, потому что не терял ее. Приятные эмоции, которые вызывало во мне скорое возвращение в старый мир, смягчали мою речь и делали меня более управляемым. Эту перемену быстро заметил помощник врача, однако он еще довольно долго продолжал не доверять мне, хотя мне казалось, что я того заслуживал. Однако такую позицию можно было понять, и я его простил. Раньше я столько раз морочил ему голову, что он естественным образом приписывал моим самым невинным действиям сложные и непостижимые мотивы. Долгое время он, по-видимому, думал, что я пытаюсь втереться к нему в доверие, заполучить право бессрочного освобождения под честное слово и таким образом сбежать. Вряд ли он забыл несколько планов побега, которые я придумал и которыми хвастался, пока находился в отделении для буйных.
В течение апреля, мая и июня 1903 года мне позволялось многое, но только в июле я получил так называемое бессрочное освобождение, которое позволяло мне гулять по соседним районам без сопровождения. Мне понемногу возвращались права, так что этот запах свободы, хоть и был манящ, не вызывал такого восторга, как читатель может подумать. Я принимал все как само собой разумеющееся, за исключением тех моментов, когда анализировал свои чувства: я едва ли помнил о своих прошлых лишениях.
Эта возможность забыть прошлое – либо же вспоминать его только усилием мысли – сыграла большую роль в моем счастье. Некоторые люди, пройдя через лишения, подобные моим, склонны думать о них постоянно. Я считаю, что мой иммунитет к неприятным воспоминаниям связан с тем, что я рассматривал свою болезнь, как врач рассматривает дело пациента. Мое прошлое стоит особняком. Я могу рассматривать тот или иной его период в ясном и утешающем свете здорового рассудка, и воспоминание делается совсем незначительным. Я успокаиваюсь еще сильнее, потому что верю, что в жизни у меня есть миссия – шанс быть полезным, и этого бы не случилось, будь я здоров и наслаждайся безграничной свободой.
Последние несколько месяцев, проведенные мною в больнице, были очень похожи друг на друга; единственное различие состояло в том, что каждый приносил с собой все больше свободы. Часы теперь текли приятным образом. Время не стояло на месте, поскольку каждую минуту я был занят каким-то делом. Я рисовал, читал, писал или разговаривал. И если во мне преобладало какое-то чувство, это было стремление к рисованию. Я с удовольствием читал книги по технике живописи. Может показаться странным, однако как только я вновь оказался в мире бизнеса, мое желание стать художником умерло столь же внезапно, как и родилось. Амбиции рисовать явно были вызваны болезнью и улеглись, как только я обрел рассудок; однако я склонен думать, что и сейчас изучал бы искусство с живым интересом, если бы не мог свободно выбирать, чем хочу заниматься. Сочинение книги увлекло меня потому, что сильно соответствовало моим целям.
Летом 1903 года меня часто навещали друзья и родственники. Мы разговаривали, и это имело очень полезный и долгий эффект для моей психики. Хотя к тому моменту я отделался от самых экстравагантных и невозможных планов, вызванных бредом величия (летающих машин и тому подобного), я все еще с жаром обсуждал другие схемы, которые на самом деле имели больше отношения к рассудку. Я разговаривал о высоком, но это было подозрительно, потому что Воображение все еще перевешивало Здравый Смысл. Остатки бреда заставляли смотреть на огромные проекты свысока. Мои слушатели признавали, что при некоторых условиях они возможны. Но дело было в том, что я спешил и очень хотел увидеть результаты. Я думал о проекте, который, как я позже понял, можно осуществить лет за пять – десять, если не за целую жизнь, и считал, что на него уйдет год-два, даже если я буду работать один. Если бы я разговаривал только с умственно неполноценными людьми, возможно, я бы продолжил верить в свою искаженную перспективу. Именно единогласие здравых мнений помогло мне скорректировать собственные взгляды; и я уверен в том, что каждый разговор с друзьями и родственниками приближал мое возвращение к нормальности.
Хотя меня выписали из больницы штата только 10 сентября 1903 года, за предыдущий месяц я несколько раз бывал дома и однажды остался там на три дня. Эти поездки были не просто интересными – они помогали встать на ноги. Я с готовностью вернулся в больницу, когда мое право на освобождение истекло. Мои друзья удивились, что я спокойно отправился в заведение, в котором испытал столько сложностей, но возвращение меня не раздражало. Я постиг тайны темной стороны жизни, победил их, и больше они не внушали мне ужаса. Так дело обстоит и по сей день. Я могу рассматривать будущее с большей долей самодовольства, чем те, кому в целом повезло в жизни. В то время я даже сказал, что, если мое состояние того потребует, я снова лягу в психиатрическую больницу с той же готовностью, с которой обычный человек ложится в больницу для лечения несерьезного заболевания.
Будучи довольным и уверенным в себе, не заметив резкого перехода, я снова стал жить в своем старом мире – с друзьями и работой в сфере бизнеса.
XXVIII
Первый месяц обретенной свободы я оставался дома. Это были интересные недели. Практически каждый день я виделся с несколькими друзьями и знакомыми, которые приветствовали меня так, словно я восстал из мертвых. У них было такое право, поскольку мое трехлетнее путешествие между мирами, скорее, даже совершенное по одному миру, полностью оторвало меня от обыденной жизни. В то время я получил одно глубокое впечатление: все мои доброжелатели были очень деликатны. Я не могу вспомнить, чтобы кто-то заговаривал о моей болезни до того, как я замечал, что не против этого. Мои друзья и знакомые явным образом пытались избегать темы, которую, как они полагали, я старался забыть. Зная, что они избегали этой темы потому, что заботились обо мне, а не из отсутствия интереса, я все время переводил на нее разговор, чтобы удовлетворить подавленное, но вполне здоровое любопытство своего визави. Мне кажется, что решение не отказываться от прошлого и смотреть будущему в лицо помогло мне стать счастливым и, кроме того, позволило моим друзьям рассматривать мое прошлое так, как это делал я. Прямо говоря о своей болезни, я делал общение для моих друзей и знакомых проще и одним ударом избавлял их от уз, которые они должны были ощущать, находясь в присутствии человека, которого каждую секунду можно задеть намеком на неприятные воспоминания.
Я уже многое сказал по поводу обязательств здоровых людей: они должны помогать тем, кто лежит в психиатрической лечебнице. Я могу сказать почти то же самое насчет отношения общества к тем, кто пережил подобное изгнание, выздоровел, но теперь заклеймен подозрением, стереть которое в состоянии только время. Хотя к бывшим пациентам относятся с личным вниманием, им трудно найти работу. Ни один из здоровых людей не видит, что это неправильно, потому что врожденный ужас перед безумием заставляет не доверять тем, у кого случался срыв. И тем не менее подобное отношение ошибочно. Возможно, одной из причин этого недоверия является то, что бывший пациент часто не доверяет даже сам себе. Уверенность порождает уверенность, и те мужчины и женщины, что страдали от психиатрического заболевания, должны рассматривать свою проблему следующим образом: их отсутствие в мире могло случиться по одной из многих причин, которые прерывают карьеру человека, чей разум никогда не страдал от заболевания. Я могу подтвердить, что подобный ход мысли эффективен – я сам ему следовал. И я полагаю, что на нынешний день я достиг успеха, которого можно было бы ожидать, если бы моя карьера не прерывалась.
Из больницы меня выписали в сентябре 1903 года, и в конце ноября я поехал в Нью-Йорк. Основной целью я считал изучение искусства. Я даже собрал информацию по поводу нескольких школ; и если бы мои творческие амбиции не улетучились, сейчас я мог бы снискать признания в сфере, в которой многие страдают от его недостатка. Но благодаря заряженной коммерцией атмосфере Нью-Йорка воскрес деловой инстинкт, и в течение трех месяцев я устроился работать в ту же компанию, в которой работал шесть лет назад. Это был один шанс на миллион. Я и сам с трудом могу представить ситуацию, которая позволила бы мне зарабатывать деньги, подарила свободное время, чтобы написать историю своей жизни, и предоставила возможность развивать свой гуманитарный проект.
Люди, выписанные из психиатрических больниц, часто могут без особых сложностей найти работу в сфере неквалифицированного труда или занять должность там, где предполагается небольшая ответственность, однако для них почти невозможно занять место, требующее доверия. Во время переговоров, которые привели к тому, что я был нанят на работу, я не находился в позиции просителя. Совсем наоборот; как я выяснил, я делал настолько тонкие предложения, что, будь в моих словах меньше наглости, переговоры закончились бы на месте. Но человек, с которым я имел дело, был не только широких взглядов – он был мудр. Он немедленно понял, что я могу защищать свои интересы, а поэтому могу защитить интересы его компании. Но только этот факт не заставил бы обычного бизнесмена нанять меня в тех обстоятельствах. Исход был предрешен благодаря здравому смыслу и рациональному отношению моего нанимателя. Эта точка зрения, которая сегодня является исключительной, однажды (я думаю, через несколько поколений) станет слишком распространенной, чтобы о ней упоминать. Мой работодатель выразился лаконично: «Когда работник болен, он болен, и для меня нет разницы, ложится он в обычную больницу или в психиатрическую. Если вам когда-нибудь понадобится лечение или отдых, я хочу, чтобы вы знали, что можете воспользоваться им, когда и где захочется, а потом снова работать на нас, когда вы будете в состоянии».
Имея дело практически исключительно с банкирами (такова была природа моей работы), я располагал свободным временем и пытался научиться писать – точно так же, как если бы у меня был постоянный доход, который позволил бы мне посвятить все время этому занятию. Работа оказалась очень приятной, и я посетил столько достопримечательностей, поэтому меня нужно было назвать «коммитуристом», а не коммивояжером. Я видел почти все природные чудеса и исторические памятники к востоку от Миссисипи и многие – к западу от нее; я знал многих важных людей; я наслаждался почти непрерывным досугом и в то же время зарабатывал деньги. Все это, как мне кажется, пришедшее вместе с моим местом работы, – одна из редких компенсаций, которыми Судьба награждает людей, выживших в сложных обстоятельствах.
XXIX
Снова став свободным человеком, я не забросил несчастных, которых оставил позади. Я с ужасом думал о том, что моему рассудку угрожали, сбивали его с толку на каждом повороте пути. Не тая злобы на тех, кто занимался мною в больнице, я все-таки с ужасом оглядывался на систему, в которой лечился. Но я понял, что не могу успешно проводить реформы в управлении больницами, пока не докажу родственникам и друзьям, что способен зарабатывать на жизнь. И я знал, что, получив работу в бизнес-сфере, я должен для начала удовлетворить своих работодателей, а потом уже пытаться убедить других присоединиться ко мне для проведения реформы, о которой я думал не переставая. Следовательно, в первый год, когда я снова начал работать (это был 1904-й), я приостановил свой гуманитарный проект и отдал все свои административные силы на благо работы. Первую половину этого года я мало читал и писал и вообще не рисовал. Однако же я робко обсуждал свой проект с самыми близкими друзьями, но говорил о его приведении в действие как о чем-то отдаленном. В то время я был уверен в достижении цели, но думал, что мне повезет, если книга будет напечатана до того, как мне исполнится сорок. То, что мне удалось издать ее на восемь лет ранее, произошло из-за стечения обстоятельств, которые иногда вызывают быструю смену планов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.