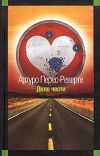Текст книги "Оторванный от жизни"

Автор книги: Клиффорд Уиттинггем Бирс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Позже друзья спрашивали меня:
– А что же делать, если пациент пришел в бешенство?
На что я отвечал одинаково:
– Не доводите его до бешенства.
Психиатры, с которым я общался впоследствии, сказали, что, если бы у меня был умный санитар, способный успокоить меня и оставить в покое бесценные початки кукурузы, та драка и будущие ужасные события просто бы не случились. Ни в тот день, ни когда-либо еще. Если бы со мной просто обращались по-человечески.
Итак, я снова оказался в отделении для буйных пациентов, но на этот раз не из-за желания разведать, что там творится. Искусство и литература теперь занимали меня сильнее потенциальных реформ, и я стал безо всякого энтузиазма жить в отделении, лишенном всякого намека на эстетику. Сама палата была чистой и при других обстоятельствах выглядела бы довольно презентабельной. Высотой три метра, шириной два и длиной три. К потолку были прикреплены лампы накаливания в виде полукруглых шаров. На стенах – ничего: они были просто облицованы деревянными панелями. На улицу вело единственное окно с решеткой, из него и шел свет. С одной стороны двери был проем размером в десять квадратных сантиметров с собственной дверцей. Она открывалась только снаружи, и сквозь нее подавали еду тем пациентам, кто считался «опасным». Ножки кровати были прикручены к полу; другой мебели в палате не имелось.
Прежде чем меня запереть, санитар отыскал и забрал карандаши; но один укрылся от его внимания. Разумеется, переезд из красиво обставленной комнаты в аскетичную довел мой и без того разгоряченный мозг до точки кипения. Потому я и послал врачу, который вел мое дело, записку, попросив его прийти ко мне, как только он приедет, и у меня есть все причины полагать, что записку доставили. Как бы там ни было, доклад об утренней драке и переводе в новое отделение наверняка дошел до врача, ведь было несколько свидетелей. Ожидая ответа, я стал писать. И так как бумаги не было, я стал писать на стенах. Я начинал свои заметки так высоко, как только мог, и писал колонками примерно в метр шириной. Вскоре карандаш затупился. Но тупые карандаши легко заостряются на точильном камне ума. Задавив приобретенные черты, я позволил себе превратиться в примитивного, но эффективного человека. Я обгрыз дерево с карандаша, оставив только графитовый стержень. Немного графита – и рука, ведомая абсолютной дерзостью эйфории, может в творческой форме обругать всех и вся. Я склонен считать, что так и сделал; и я задаюсь вопросом, закладывали ли Рафаэль и Микеланджело (кого я считал лишь предшественниками) столько же чувств в квадратный метр своих шедевральных росписей. Каждые несколько минут, как будто ставя запятую в своем творчестве в намерении заполучить внимание, я изо всех сил пинал дверь. Около восьми утра произошла драка. За три часа до этого я сидел в одиночестве, ходил по комнате и доводил себя до безумия. Затем решил привлечь к себе внимание. Разбитое ранее стекло позволило мне добиться вполне разумной цели. И на этот раз оно сослужило мне хорошую службу. Светящийся полушар на потолке оказался самым уязвимым местом для атаки. Вопросом было лишь как добраться до него так, чтобы разбить. Вскоре я нашел решение. Я снял ботинок и швырнул его в свою стеклянную мишень. Точное попадание!
Санитары тут же стали ломиться в комнату. Они застопорились у входной двери, потому что она была заперта. Я стоял по другую сторону и получил такой удар по лбу, что он, наверное, проломил бы череп, попади дверь немного ниже. Ворвавшись в комнату, санитары бросили меня на кровать, и один из них придушил меня так сильно, что я почувствовал, как глаза вылезают из орбит. После этого санитары привели палату в порядок: убрали стекло – все, кроме одного маленького и по виду безобидного кусочка, который, как оказалось, смог сыграть практически фатальную роль; изъяли ботинки и снова заперли, не забыв как следует обругать меня за то, что я заставил их попотеть.
Когда помощник врача наконец пришел, я встретил его таким потоком ругани, который ввиду последовавших событий наверняка погасил даже искорку доброты по отношению ко мне. Я потребовал, чтобы он разрешил послать письмо моему опекуну, чтобы тот немедля пришел и разобрался, что я устал иметь дело с помощниками врача и санитарами, которые меня игнорируют и обижают. Он не выполнил мою просьбу.
Кусочек стекла, который просмотрели санитары, был размером с ноготь большого пальца. Если я правильно помню, он откололся не от лампы. Вероятно, его спрятал в уголке квадратного окна предыдущий пациент. Что ж, если слово – оружие писателя, то таковым при определенных обстоятельствах может быть и стекло. Мысль, пришедшая мне в голову, казалась великолепной, так что я решил нацарапать ее, а не писать карандашом, который легко смыть. На самой верхней части двери за несколько минут до того, как она ударила мне по голове, я выцарапал свои чувства. Они были искренними, пускай и не стали классикой: «Благослови Господь наш дом, ведь он Ад».
Утренняя драка разбудила во мне аппетит, и я съел обед с удовольствием, хоть и не без труда, потому что удушение ослабило мою глотку. Подав мне еду, санитары снова оставили меня без внимания. Первую часть дня я провел, придумывая, как заманить их обратно и заставить отнести записки главному врачу и его помощнику. Они продолжали игнорировать меня. К закату мой утренний гнев уступил возбуждению, которое оказалось эффективным. Всего лишь несколько дней тому назад я обсуждал свой случай с помощником врача и рассказал ему о суицидальном порыве, который был столь силен в период депрессии. Теперь я думал, что фальшивая попытка самоубийства испугает санитаров, и они позовут доктора, с которым я очень хотел поговорить: особенно из-за его тщательно выверенного равнодушия. Никто в мире не любил жизнь сильнее, чем я в тот момент, и ложная трагедия, которую я подстроил в конце дня, была отличным фарсом. Если у меня и были амбиции, то я хотел прожить достаточно долго, чтобы обрести свободу и отправить за решетку этого доктора и его мужланов-приспешников. Моей целью было завладеть их вниманием.
В то время года солнце садилось в половину шестого, и ужин подавали приблизительно в это время. В моей комнате было так темно, что различить предметы можно было с трудом. Я начал приготовления где-то за четверть часа до того, как санитар должен был явиться с ужином. Сцена действия должна была соответствовать сюжету, поэтому я порвал бумаги, которые у меня были, и уничтожил другие предметы в комнате, как мог сделать безумный человек; чтобы завершить образ безумия, я специально сломал свои часы. Потом я снял подтяжки, привязал одну к изголовью, сделал петлю из другой. Ее я аккуратно пристроил себе на шею. В нужный момент я положил подушку на пол рядом с изголовьем и сел на нее – я изображал легкую смерть. Затем я слегка потянул за петлю, чтобы все выглядело правдоподобно. И последним в своей жизни (или, скорее, постановочной смерти) я добавил клокотание: я булькал, совсем как в раннем счастливом детстве.
Ни один школьник в мире не получал столько удовольствия от розыгрыша, сколько я получил от своего. Вскоре я услышал шаги санитара, несущего мой ужин. Когда он открывал дверь, то и понятия не имел, что внутри его ждет нечто необычное. Он зашел из освещенной комнаты в мрачную, и несколько секунд ушло у него на то, чтобы понять ситуацию. Он понял ее не до конца: он решил, что я нахожусь без сознания от удушения. В состоянии огромного волнения этот мужлан (с которым мы дрались утром) позвал второго, и вскоре меня освободили из комической петли, пусть и думая, что я в агонии или даже умер. Теперь они не кричали и не оскорбляли меня. Они говорили добрые слова и сожалели о том, что мне пришлось прибегнуть к таким мерам. Их доброжелательность и правда была искренней, но для меня ее оказалось мало, потому что ее, безо всяких сомнений, вызвала мысль о последствиях, которые могла повлечь их невнимательность. Пока они находились в водовороте эмоций, я продолжал играть свою роль, притворяясь, что прихожу в чувство.
Вскоре после моего спасения из лап «жизненной» смерти санитары подняли и понесли мое слабое тело и хохочущую душу в комнату рядом, где меня аккуратно положили на кровать. Я делал вид, что постепенно прихожу в себя.
– Зачем ты это сделал? – спросил один из них.
– Какой смысл жить в таком месте, когда на тебя нападают, как вы сегодня? – спросил я. – Вы с доктором игнорируете меня и мои просьбы… Вы даже стакан воды между приемами пищи мне не приносите, отказываете в других просьбах, не имея на то право. Убей я себя, вас бы обоих уволили. И если бы мои родственники и друзья выяснили, что вы напали на меня и игнорировали мои просьбы, вероятно, вас обоих бы арестовали и засудили.
Отчет о произошедшем уже был отправлен доктору. Он поспешил в отделение и появился, едва дыша. Скорее всего, мой фарс был воспринят как настоящая трагедия. В момент, когда он вошел в палату, я прекратил притворяться.
– Теперь вы, трое мужланов, находитесь передо мной. Я расскажу вам кое-что, о чем вы не знаете, – сказал я. – Вы, наверное, думаете, что я пытался покончить с собой. Это была простая уловка, чтобы привлечь ваше внимание. Когда я угрожаю вам и говорю, что моя единственная цель в жизни – протянуть столько, сколько понадобится, чтобы выйти на свободу и рассказать всем, какое насилие творится в местах, подобных этому, вы смеетесь надо мной, верно? Но на самом деле это и есть моя цель, и если бы вы хоть что-то понимали, вы бы знали, что физическая расправа не доведет меня до суицида. Вы можете и дальше применять ко мне силу и лишать меня прав, держа в заключении и не давая видеться с родственниками и друзьями, но придет время, когда я заставлю вас ответить. Я засажу вас в тюрьму, где вам самое место. Или, если не получится, по меньшей мере я добьюсь вашего увольнения из этого заведения. Запомните мои слова.
Доктор и санитары восприняли мои заявление с характерной прохладой. Подобные угрозы достаточно часто звучат в таких местах и не оставляют впечатления: люди не держат своих обещаний. Во время своей речи я и правда хотел посадить этих людей за решетку. Сегодня у меня нет подобного желания, потому что они тоже были жертвами порочной системы, которой подвергся я. В каждом заведении, где придерживаются дискредитировавших себя принципов «сдерживания», царит очень жесткая атмосфера. Дайте любому человеку дубинку, объясните, как ею пользоваться, и мягкие и гуманные методы воздействия будут естественным образом забыты или проигнорированы.
Во время периода эйфории, особенно первые несколько месяцев, когда я делал работу за несколько нормальных человек, мне требовалось больше топлива для создания огромного количества энергии, которой требовали мои действия. Я был ненасытен и настоял на том, чтобы санитар подал мне ужин, который был забыт во время моей симуляции самоубийства. Сначала он отказался, но потом принес чашку чая и хлеб с маслом. Из-за того, что этим днем меня сильно душили, глотал я с трудом. Мне приходилось есть медленно. Санитар велел мне поторапливаться и пригрозил забрать скромный ужин. Я сказал ему, что он не сможет, потому что я имел право есть в комфортном для меня ритме. Это его разозлило, и он забрал у меня все, кроме корочки хлеба. Хотя и ее он попытался забрать. Я сопротивлялся, и началась третья драка за день – и все это менее чем через пять минут после того, как доктор покинул отделение. Я сидел на кровати. Санитар, повинуясь своим темным инстинктам, схватил меня за горло и стал душить меня со всей силой человека, привыкшего к столь недостойному занятию. Его коллега обезвредил меня, прижав спиной к кровати, пока нападающий душил меня до того момента, пока у меня не кончился воздух. Первая драка случилась из-за кукурузы; вторая – из-за кусочка хлеба.
Если бы на этом я перестал описывать тот октябрьский день, мало кто предположил бы, что я рассказал не обо всем насилии, которое применили ко мне тогда. Дело в том, что это даже не половина. Если то, как со мной обращались на протяжении этих двадцати четырех часов, демонстрирует самые ужасные, но тем не менее обычные методы, применяемые при лечении пациентов в подобной ситуации, то я с трудом поминутно воспроизведу пытку, которая пришлась на мою долю ночью.
На сегодняшний день в подобных заведениях существует несколько методов сдерживания, главными среди которых являются «механическое» и так называемое химическое сдерживание. Первое заключается в использовании средств для ограничения передвижения: это смирительные рубашки, муфты, завязки, варежки, специальные прочные простыни, камзолы – все это, за исключением редких случаев, настоящие пыточные механизмы. Химические средства (иногда называемые медицинским сдерживанием) заключаются в использовании средств, на время парализующих пациента: гиосцин – самая популярная мера среди них. Используя такие лекарства, можно ввести человека в бессознательное состояние и продержать его в нем несколько часов. Очень беспокойных пациентов (особенно если санитаров в распоряжении врача мало) достаточно часто держат в подобном «оглушенном» состоянии целыми днями или даже неделями, но только в заведениях, где благо пациента не стоит на первом месте.
После драки за ужином меня оставили в палате где-то на час. Потом пришел помощник доктора с тремя санитарами, двое из которых принимали ранее участие в моем фарсе. Один из них нес приспособление из ткани, известное как камзол. Это очень удобная вещь для тех, кто прибегает к подобным методам, потому что позволяет обойтись без обычной смирительной рубашки. Смирительная рубашка не равна камзолу, как смерть от разряда электрическим током не равняется повешению.
Камзол или, как я предпочитаю презрительно называть его, смирительная рубашка, – это узкое пальто из тяжелой ткани, идущее от шеи до талии и сшитое не по обычным лекалам. На нем нет пуговиц. Рукава на концах сшиты, и камзол не раскрывается впереди: его туго затягивают и завязывают сзади. К концу каждого рукава пришит прочный шнур. На правом шнур тянут на левую сторону тела, а на левом – на правую. Оба туго завязывают сзади, и руки жертвы оказываются скрещенными на груди.
Когда я планировал свою уловку днем, то прекрасно знал, что скоро окажусь в смирительной рубашке. Мне даже стало любопытно, поскольку я хотел знать, что творится в отделении для буйных.
Кусок стекла, которым я написал девиз, я взял для определенной цели. Зная, что меня скоро поместят в неудобные, но не совсем уж невыносимые объятия смирительной рубашки, я решил, что ночью так или иначе воспользуюсь куском стекла: возможно, разрежу путы и окажусь на свободе – хотя бы относительно. Чтобы убедиться в том, что стекло останется у меня, я поместил его в рот и хитрым образом прижал к щеке с внутренней стороны. Оно не мешало мне говорить и осталось незамеченным. Но если бы я знал о смирительных рубашках и о том, как они завязываются, как узнал позднее, я бы даже не подумал прибегнуть к такому безнадежному методу.
После нескольких ночей, проведенных в муках, эту рубашку по моей просьбе наконец завязали так, что я не испытывал бы никаких страданий, будь она закреплена подобным образом с самого начала. Это я узнал, поскольку много говорил с пациентом, которого несколько раз удерживали при помощи этой самой рубашки.
По такому случаю помощник врача начал испытывать ко мне личную злобу. Судя по всему, природа этого человека была дуальна. Чаще всего на свет выходил Джекил, но именно Хайд контролировал его действия в случае кризиса. По ночам к моей комнате, окруженный санитарами, приближался доктор Джекил, но входил уже его двойник Хайд. На самом деле, он больше походил на доктора. Сначала он брал смирительную рубашку в руки и приказывал мне встать. Зная, что главный врач и правда думал, что я пытался себя убить, я не винил их за то, что они пытались ограничить мои движения; но я не хотел, чтобы это делал Джекил-Хайд. Смирительную рубашку всегда надевает дежурный врач, но я знал, что это неприятное занятие часто передают санитарам. Следовательно, желание Джекила-Хайда сделать то, чего он обычно избегал, давало мне понять, насколько он зол. По этой причине я предпочитал сдаться на милость обычного санитара; я сказал об этом, но напрасно.
– Если ты будешь молчать, я сделаю все куда быстрее, – ответил Джекил-Хайд.
– Я закрою рот, только когда ты уйдешь отсюда, и ни секундой раньше, – заметил я.
Так и получилось. Мои ругательства, конечно, были пронизаны неизбежными эпитетами. Чем больше я говорил, тем мстительнее он становился. Он молчал, но, к несчастью для меня, выражал свои чувства эффективнее слов. Закрепив рубашку, он затянул мои руки на груди так крепко, что я не мог сдвинуться ни на сантиметр. Я попросил его ослабить путы, чтобы я мог сделать вдох полной грудью. Еще я попросил его о возможности поправить пальцы: рубашка зафиксировала их в неестественном и неудобном положении.
– Если ты минуточку постоишь смирно, я все сделаю, – сказал Джекил-Хайд.
Я с готовностью повиновался, потому что не хотел страдать больше, чем было необходимо. Вместо того чтобы распустить рубашку, как мы договаривались, этот доктор, который уже был вне себя от ярости, затянул шнуры так, что я оказался зафиксирован еще сильнее и жестче. Эта ложь ввела меня в безумное состояние. И хотя я был рад, что он наконец ушел, надо заметить, что он покинул меня, только удовлетворив не приставшее человеку желание, на которое, видимо, его толкнула ненависть. Санитары тоже вышли наружу и заперли меня на ночь.
Ни одно из происшествий моей жизни не отпечаталось в памяти столько же ярко, как первая ночь в смирительной рубашке. Через час после того, как меня связали, я начал страдать от сильнейшей боли, что испытывал когда-либо, и к концу ночи она стала почти невыносимой. Правая рука находилась в таком положении, что ногти левой чуть ли не отрезали кончики пальцев, и вскоре боль, схожая с ножевыми ударами, начала простреливать в правую руку и плечо. Четыре-пять часов беспрестанной боли частично притупили чувства. Но я находился в этом пыточном приспособлении пятнадцать часов, и только на двенадцатый час, на время завтрака, санитар распустил один из шнуров.
Первые семь-восемь часов ужасная боль скручивала не только руки, но и тело. Хотя я кричал и стонал настолько громко, что санитары должны были меня услышать, никто не обратил внимания: возможно, потому, что мистер Хайд дал определенные указания, приняв на себя роль доктора Джекила. Я даже умолял санитаров слегка распустить рубашку, чтобы мне стало полегче. Они отказались, и создавалось впечатление, что они даже радуются тому, что вносят свою лепту в мои мучения.
Еще не минула полночь, а я уже поверил, что не смогу выдержать пытку и не сойти с ума. Причудливое колющее ощущение снова истязало мой мозг, оно было в точности таким же, как в июне 1900 года. И это заставило меня думать, что я снова не смогу воспринимать мир по-прежнему, а ведь я только что научился делать это снова. Осознавая весь ужас подобной участи, я все-таки привлек внимание ночного дежурного. Зайдя в комнату, он обнаружил, что я лежу на полу. Я свалился с кровати и оставался на месте, совершенно беспомощный. Я не мог даже поднять голову – не из-за смирительной рубашки, а потому, что я не мог контролировать мышцы шеи из-за событий дня. Я едва смог проглотить глоток воды, которую по доброте душевной дал мне дежурный. Он был неплохим человеком, но все-таки отказался развязать меня. Казалось, он мне сочувствует, и я считаю, что он поступил так из-за строгих указаний врача.
Как вы помните, перед тем как на меня надели смирительную рубашку, я положил в рот кусочек стекла. В полночь стекло было на месте. После отказа развязать меня я сказал дежурному:
– Тогда я хочу, чтобы ты пошел к доктору Джекилу (я, конечно, назвал его по имени, но сделать так в тексте книги означает быть столь жестоким, как сам Хайд). Скажи ему прийти сюда немедленно и ослабить эту смирительную рубашку. Я два года боролся за свой рассудок и теперь думаю, что снова его потеряю. Ты всегда хорошо ко мне относился. Ради бога, позови доктора!
– Я не могу покинуть основное здание сейчас, – отозвался дежурный.
(Джекил-Хайд жил где-то в двухстах метрах, но на территории больницы.)
– Тогда передай сообщение помощнику врача, который живет здесь.
(У коллеги Джекила-Хайда была квартира в основном здании.)
– Хорошо, – ответил он.
– Передай ему, что я страдаю. Попроси его прийти сюда немедленно и ослабить смирительную рубашку. Если он не сделает этого, к утру я стану безумцем. Скажи ему, что я убью себя, если он не придет. В комнате спрятан кусок стекла, и я знаю, что с ним делать.
Дежурный и правда относился ко мне по-доброму и сдержал слово. Позднее он сказал мне, что передал сообщение. Доктор его проигнорировал. Он не пришел ни этой ночью, ни на следующий день; Джекил-Хайд явился только во время обхода около одиннадцати часов следующего утра.
– Я так понимаю, что у тебя есть кусок стекла, который ты угрожал использовать, чтобы покончить жизнь самоубийством прошлой ночью, – сказал он.
– Да, и я жив не благодаря тебе и другому доктору. Сойди я с ума, в безумстве я мог проглотить этот осколок.
– Где он? – недоверчиво спросил доктор.
Поскольку мои руки были связаны смирительной рубашкой, я явил стекло Джекилу-Хайду на кончике языка: он часто слышал слова, сыпавшиеся с него, но не видел его самого.
XVII
По истечении невыносимых пятнадцати часов смирительную рубашку сняли. До этой меры я был полон сил и готов оказывать зримое сопротивление, когда на меня нападали. Теперь я оказался беспомощен. Когда мои руки развязали, они очень болели. Каждый сустав был вывернут. Я не чувствовал пальцев рук и не смог бы одеться, даже если бы за это мне пообещали свободу.
Как я уже писал, я мучился больше недели, хотя, конечно, интенсивность боли сходила на нет, потому что мое изломанное тело привыкало к неестественному положению, в которое его заковывали. Первый раз случился ночью 18 октября 1902 года. Меня подвергали этой несправедливой, ненужной и антинаучной пытке двадцать одну ночь подряд и иногда в дневное время. Санитары надевали на меня смирительную рубашку за то, что я отказывался выполнять какой-нибудь обыденный приказ. Это происходило без прямых указаний лечащего врача, хотя, наверное, санитар действовал так, как было заведено.
Бóльшую часть этого времени меня держали в изгнании в камере с мягкими стенами. Подобное помещение – настоящее зло. Стены обиты мягкой тканью до высоты, куда не может дотянуться человек, обита и внутренняя часть двери. Одна из худших примет подобных комнат – отсутствие вентиляции, что, конечно, делает невыносимыми их в целом антисанитарные условия. В камере, куда меня загнали, практически не было отопления; наступала зима, и я очень страдал от холода. Часто температура была столь низкой, что у меня изо рта шел пар. И хотя смирительная рубашка должна была защищать от холода (при этом выворачивая все мои суставы), мне редко было тепло. Как только я вылезал из-под одеяла (а мои руки были скручены), не мог снова укрыться. Я мало спал и пытался делать это на жестком матрасе, лежащем на голом полу. Состояние матраса, который я нашел в комнате, было таковым, что я отказался им пользоваться, и тот факт, что в камеру привезли другой в то время, как на большинство просьб я получал отказ, доказывает, что он был ужасен.
Этот период в три недели – с 18 октября до 8 ноября 1902 года, когда я покинул данное заведение и был переведен в больницу штата, – я постоянно находился под замком (в этой камере или другой палате) или под наблюдением санитара. Больше половины времени я провел в крепких, но жестоких объятиях смирительной рубашки – в целом около трехсот часов.
Я страдал от этого, но еще страдал оттого, что находился в изгнании. Я был отрезан от всех прямых и честных способов общаться с моим опекуном, назначенным государством (собственным братом), другими родственниками и друзьями. Со мной больше не разговаривал даже добрый главный врач. Я видел его дважды, но наши встречи были столь коротки, что я не мог убедить его, что нахожусь в смертельно опасном положении. Эти разговоры случились в два воскресенья во время моего изгнания, потому что именно по воскресеньям главный врач обычно делал обход.
Да и как же я мог оспорить свое дело, если моей кафедрой была камера с мягкими стенами, а паствой – за исключением главного врача – те люди, кто применял ко мне физическую силу? В то время загнанное внутрь возмущение выливалось на слушателей бессвязно, и замечания казались лживыми. Речь путалась. В состоянии эйфории я говорил быстро и скакал от мысли к мысли. То, что я умудрялся писать на клочках бумаги, конфисковывалось Джекилом-Хайдом. Как бы то ни было, главный врач узнал о моем лечении только через несколько месяцев (хотя я уже был в другом месте), когда губернатор штата обсудил с ним эту тему. Как я добился того, чтобы эта беседа произошла, несмотря на то, что был пленником в другом месте, я расскажу в свое время. И прошло несколько дней после того, как я покинул это заведение и оказался в другом, прежде чем я увидел своего опекуна впервые за полтора месяца. Только тогда и он узнал о том, как со мной обращались. Из своего офиса в Нью-Хейвене брат несколько раз звонил помощнику врача и спрашивал о моем состоянии. Джекил-Хайд говорил ему, что я нахожусь в состоянии возбуждения и меня трудно контролировать, но даже не намекнул, что меня каким-то образом удерживают. Доктор Джекил обманул всех и – как выяснилось – обманул сам себя: если бы он понял, что в один прекрасный день я буду способен его выдать, его жестокость точно уступила бы место скромному поведению.
Насколько беспомощен может быть пациент и в какой степени он находится во власти врачей, хорошо показывает поведение данного человека. Однажды, на третьей неделе моих мучений в смирительной рубашке, я отказался принимать лекарство, которое протянул мне санитар. Некоторое время я пил это безобидное зелье, не выражая протеста, но сейчас решил, что, раз санитар отвечает отказом на большую часть моих просьб, я не буду соглашаться на его. Он со мной не спорил, просто доложил об отказе доктору Джекилу. Несколько минут спустя доктор Джекил, вернее, Хайд, вошел в камеру с мягкими стенами в сопровождении трех санитаров. Меня уже нарядили на ночь – в смирительную рубашку. Хайд держал в руке резиновую трубку. Санитар с лекарством стоял неподалеку. Два года мне угрожали тем, что прибегнут к «трубке», если я буду отказываться принимать лекарства или есть. Я начал рассматривать эту угрозу как миф, но вид трубки в руках моего мучителя убедил меня в том, что она настоящая. Я понял, что доктор и его подопечные подошли к делу серьезно, поскольку я пережил уже много мучений. На этот раз я решил уступить и избежать того, что они готовили.
– Что вы собираетесь с этим делать? – спросил я, глядя на трубку.
– Санитар сказал, что ты отказываешься пить лекарство. Но мы тебя заставим.
– Да приму я ваше лекарство, – ответил я.
– Уже поздно.
– Хорошо, – сказал я. – Засовывайте лекарство в меня так, как вам кажется нужным. Но придет время, и вы пожалеете об этом. Когда наступит час, будет непросто доказать, что у вас было право принуждать пациента принять лекарство, которое он согласился выпить. Мне кое-что известно о вашей профессиональной этике. Вы не имеете права ни на что, вы должны помогать пациенту. Вы знаете это. Все, что вы пытаетесь сделать, – это наказать меня, и я предупреждаю вас, что буду идти за вами по пятам до тех пор, пока вас не уволят из этого заведения и не исключат из Государственного медицинского общества. Вы – позор своей профессии, и это общество рассмотрит ваше дело очень быстро, когда его члены, мои друзья, об этом услышат. Более того, я доложу о вашем поведении губернатору штата. Он может предпринять некоторые шаги, пускай это и не государственное учреждение. Будьте вы прокляты и делайте что хотите!
Несмотря на мое состояние, я говорил достаточно связно. Доктор явно заволновался. Если бы он не боялся потерять уважение в глазах санитаров, которые стояли рядом, я думаю, он дал бы мне еще один шанс. Но он был слишком горделив и труслив, чтобы отступить. Я не ожидал, что операция будет приятной, но хотел посмотреть, на что он способен. Они с санитарами знали, что у меня есть козырь-другой даже в рукаве смирительной рубашки, поэтому предпринял меры предосторожности. Я лежал на спине, от пола меня отделял только матрас. Один санитар держал меня. Другой стоял рядом с лекарством и воронкой, через которую он должен был налить дозу лекарства, как только мистер Хайд вставил трубку мне в ноздрю. Несмотря на то, что умело введенная трубка не причиняет боли, мистер Хайд сделал саму операцию болезненной. Он пытался по-всякому, однако не мог вставить трубку правильно, хотя я ему и не мешал. Смущение лишило его всякой ловкости. Казалось, что прошло десять минут, хотя на самом деле, наверное, вдвое меньше этого, и он сдался, но не до того, как у меня пошла носом кровь. Он был очень огорчен, когда им пришлось удалиться. Я предчувствовал, что скоро они вернутся. Так и вышло. Пришли они с новым пыточным инструментом. На этот раз доктор вставил мне между зубов большой деревянный штифт – чтобы я не закрыл рот, хотя обычно он предпочитал, чтобы я молчал в его присутствии. Потом он поместил мне в горло резиновую трубку, санитар поправил воронку, и лекарство, вернее, жидкость – на меня она не оказывала никакого лечебного эффекта, – полилось внутрь.
Как было написано в немногословных отчетах для моего брата, за эти три недели я не выказал признаков улучшения. Он надеялся на обратное и специально поехал в больницу, чтобы выяснить все лично. Его встретил не кто иной, как доктор Джекил, рассказавший ему, что я нахожусь в возбужденном состоянии, которое может быть усилено (сообщил он по секрету) личным визитом. Увидеть родного брата в таком состоянии было бы настоящей пыткой. И, пусть он находился в пятидесяти метрах от моей комнаты, могу предположить, он отказался от идеи подойти ближе. Доктор Джекил сказал ему, что меня нужно было «сдерживать» и держать «в одиночестве» (профессиональные эвфемизмы для «смирительной рубашки» и «камеры с мягкими стенами»), но даже словом не обмолвился о том, как грубо со мной обращаются. Вежливые слова доктора Джекила, вне всяких сомнений, основывались на том факте, что, если бы мой опекун выслушал меня, ничто не помешало бы мне дать подробный отчет о моих страданиях, и это только подтвердилось бы синяком под глазом, который был у меня в то время. В самом деле, общаясь с моим опекуном, помощник врача выказал такт, и если бы тот был направлен в мою сторону, его бы хватило, чтобы я вел себя прилично.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.