Текст книги "Литературоведческий журнал №36 / 2015"
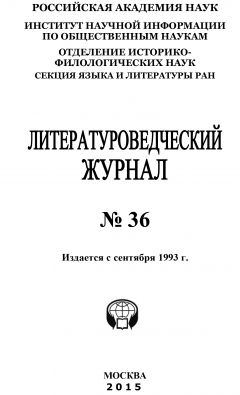
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Шекспир и А.Н. Островский
И.А. Едошина
Аннотация
Шекспир занимает в творчестве Островского важное место, что проявляется в нескольких аспектах: переводах; прямом и непрямом цитировании; заимствовании драматических коллизий; размышлениях о сущности театрального искусства. Островский всегда высоко оценивал драматургию Шекспира, видя в ней образец сценического искусства, обращенного к сущностным вопросам бытия человека.
Ключевые слова: сценическое искусство, перевод, цитирование, фабула, герои / персонажи, мировоззрение.
Yedoshina I.A . W. Shakespeare and A.N. Ostrovsky
Summary. Shakespeare holds a prominent place in the works of Ostrovsky, which is manifested in such aspects as translations; direct or indirect quoting; borrowing dramatic collisions; reflection about the essence of the theater. Ostrovsky always appreciated the drama of Shakespeare, seeing it as a sample of theatric art oriented towards the fundamental issues of human existence.
Уже современники обнаруживали в пьесах Островского влияние Шекспира. Так, А.А. Фет назвал Островского «Яузским Шекспиром драмы». В этом определении поэтом содержится высокая оценка исторических хроник А.Н. Островского, в отличие от его пьес, где дан образ самодура (в частности, упоминается «Гроза»). Фет пишет: Островский, «создав самодура, сумел только глумиться над ним, не догадавшись, что всякий за 40 лет перевалившийся непустоцвет непременно самодур»198198
Черновик письма А.А. Фета И.С. Тургеневу от 19 апреля <1867 г.> // Литературное наследство. А.А. Фет и его литературное окружение. Книга первая / отв. ред. Т.Г. Динесман. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – С. 548.
[Закрыть]. К счастью, Островский не столь однозначен даже в описании самодура (Большов не то же, что Кит Китыч), как это представляется Фету, и в этом неоднозначном понимании сущности героев и персонажей заключается одна из характеристик творимого драматургом художественного мира. Но если оставить иронию Фета относительно самодуров, то самая характеристика Островского через Шекспира угадана поэтом верно.
Островский, конечно, драматург глубоко национальный, но талант его развивался на основе постижения мировой драматургии, и Шекспир занимает в этом процессе первое место. Не случайно Островский начнет свою творческую деятельность с перевода комедии Шекспира «The Taming of the Shrew», прозаическому варианту которой даст название «Укрощение злой жены» (1850, напечатана в 1865), а завершится жизнь драматурга над переводом «Антония и Клеопатры» летом 1886 г. Надо сказать, что переводы никогда не были для Островского самоцелью, скорее через переводы он постигал сценическую специфику драмы, потому Шекспир как практик театра был прекрасной школой. Отсюда – прозаический перевод пьесы «The Taming of the Shrew»: Островского интересовало не собственно слово, а действие, его выстраивание по событийному ряду. Об этом свидетельствует и первоначальное полное название перевода – «“Укрощение злой жены” (The Taming of the Shrew). Комедия Шекспира (в пяти действиях), переведенная и приноровленная для сцены Александром Островским в трех действиях»199199
Островский А.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. ред. Г.И. Владыкина, И.В. Ильинского, В.Я. Лакшина и др. – М.: Искусство, 1973–1980. – Т. 9. – С. 614. Далее все ссылки на тексты Островского даются по этому изданию, в скобках указываются том и страницы.
[Закрыть]. Позднее он вернется вновь к переводу этой комедии и сделает, как заметит М.М. Морозов, «эквилинеарный» перевод200200
Морозов М.М. А.Н. Островский – переводчик Шекспира // Морозов М.М. Избранное / Редкол.: Е.М. Буромская-Морозова и др.; Вступ. статья М.В. Урнова. – М.: Искусство, 1979. – С. 367.
[Закрыть] пьесы Шекспира, которая получает теперь название «Усмирение своенравной» (1886). По мысли М.М. Морозова, Островский был первым русским переводчиком Шекспира, который следовал за оригиналом не слепо, а стремился приспособить английский текст к реалиям русской жизни. Этому принципу Островский останется верным во всех своих дальнейших переводах и переделках пьес, написанных на разных языках201201
Об Островском как переводчике Шекспира также см.: Фомин А.А. Связь творчества Островского с предшестовавшей драматической литературой // Творчество А.Н. Островского. – М.; Пг., 1923. – С. 1–25; Яковлев Н.В. Островский – переводчик «Антония и Клеопатры» // Островский. Новые материалы / Под ред. М.Д. Беляева. – Л., 1924. – С. 178–198; Левин Ю.Д. Переводы шестидесятых годов // Шекспир и русская культура / Под ред. академика М.П. Алексеева. – М.; Л.: Наука, 1965. – С. 499–503; Маликов В., Томашевский Н. Островский-переводчик [9, с. 604–607]; А.Н. Островский о «Юлии Цезаре» в постановке мейнингенцев // Альтшуллер А.Я., Данилова Л.С. История русской театральной критики. Вып. 4. – Л.: ЛГИТМИК, 1977. – С. 22–23; Ильина Н.К. Островский-переводчик // А.Н. Островский. Материалы и исследования. Вып. 2. – Шуя, 2008. – С. 166–172.
[Закрыть].
Нередко фабулы из пьес Шекспира Островский примерял к русской жизни, выстраивая своеобразное «мерцающее» действие, где высокая планка бытийствования героя, заданная английским драматургом, откровенно снижается, чтобы в итоге достичь трагического звучания, как в пьесе «Свои люди – сочтемся!» (1850). В ее основе комедийно переосмысленный конфликт «Короля Лира» Шекспира. Разница заключается в том, что Лир отдает дочерям все, что имел, будучи уверен в их любви. Великий эксперимент Лира благороден и глубоко трагичен: тяжкий путь познания приведет его к смерти. Иное – купец Большов. Он отдает все, что имеет, дочери и ее мужу, по договору, прикидываясь банкротом, чтобы в дальнейшем поживиться. Большов никак не ожидает подлости со стороны близких, хотя сам-то изначально явно подличает.
Большов. Змеи вы подколодные!..
Аграфена Кондратьевна. Варвар ты, варвар!.. Нет тебе моего благословения! Иссохнешь ведь и с деньгами-то, иссохнешь, не доживя веку…
Подхалюзин. Полноте, маменька, Бога-то гневить!..
Олимпиада Самсоновна. …А то вы рады проклинать в преисподнюю… За то вам, должно быть, и других детей-то Бог не дал.
Аграфена Кондратьевна. …И одну-то тебя Бог в наказание послал.
Олимпиада Самсоновна. …На себя-то посмотрели бы: только что понедельничаете, а то дня не пройдет, чтоб не облаять кого-нибудь.
Аграфена Кондратьевна. …Да я прокляну тебя на всех соборах!
Олимпиада Самсоновна. Проклинайте, пожалуй!
Аграфена Кондратьевна. Да! Вот как! Умрешь, не сгинешь! Да!..
Олимпиада Самсоновна. Очень нужно!
Большов (встает). Ну, прощайте, дети.
<…>
Прощай, дочка! Прощайте, Алимпияда Самсоновна! Ну, вот вы теперь будете богаты, заживете по-барски. По гуляньям это, по балам – дьявола тешить! А не забудьте вы, Алимпияда Самсоновна, что есть клетки с железными решетками, сидят там бедные-заключенные. Не забудьте нас, бедных-заключенных. (Уходит с Аграфеной Кондратьевной.)
Подхалюзин. Эх, Алимпияда Самсоновна-с! Неловко-с! Жаль тятеньку, ей-Богу, жаль-с! [1, с. 148–149].
Поначалу Самсон Силыч Большов слушает ругань близких как бы со стороны, как зритель в зале, и неожиданно (именно, что называется, вдруг) узнает в них самого себя и всякого, кто деньгами владеет. Так, Большову открывается его духовное сиротство, его богооставленность отражается в близких людях. Потому он должен быть наказан, потому он принимает назначенное наказание, потому напоминает о нем дочери. В этой сцене на глазах читателей / зрителей явственным становится то, что в обычной жизни редко замечается: торжествует Истина, идущая от слова Божьего. Большов появляется в приведенном эпизоде со словами «ругательными» («змеи подколодные»), а уходит, прощаясь со всеми, словно всех прощая. Подобно библейскому Самсону, Большов Самсон Силыч проходит через искушение страстью (в данном случае – деньгами), которое приводит его к искреннему раскаянию и сокрушению. Но если библейский Самсон гибнет под развалинами филистимлянского капища, то Большову драматургом дается шанс к спасению. Островский разрушает только неправедные основания бытия Большова, чтобы персонаж мог обрести подлинное лицо, ибо «сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил» (Бытие, 1; 27).
В основе пьес обоих драматургов лежит семейный конфликт, который постепенно наполняется социальным звучанием. Перевод Островским трагедии Шекспира в комедию Н.И. Ищук-Фадеева связывает со спецификой русского национального театра, которому чужда трагедия рока и которому близко стремление «наказать порок там, где юридический суд бессилен»202202
Ищук-Фадеева Н.И. «Король Лир» Шекспира и «Банкрут» Островского – два лика одной драмы // Щелыковские чтения – 2007. А.Н. Островский в контексте мировой культуры: Сб. статей / Науч. ред., сост. И.А. Едошина. – Кострома: Авантитул, 2008. – С. 202.
[Закрыть].
Уже в XIX в. было замечено сходство «Снегурочки» (1873) с комедией Шекспира «Сон в летнюю ночь» (см. рецензию в журнале «Сын отечества», 1873, № 212), что со временем превратилось фактически в общее место – мотив любви в сказочном лесу. Иное предлагает современная исследовательница Н.И. Ищук-Фадеева, чье внимание сосредоточено на концептуальном различии пьес английского и русского драматургов. Весеннюю сказку Островского отличают национальный колорит, пейзаж, резко индивидуализированные мужские характеры, иное содержание волшебства: в сказке Островского любовь понимается как чудо природы, но не волшебства, а в комедии Шекспира сок анютиных глазок, «минуя окружающий мир, фокусирует взгляд просыпающегося на человеке, и чудо любви… – происходит»203203
Ищук-Фадеева Н.И. «Рассказ любви в прекраснейшей из книг» («Сон в летнюю ночь» Шекспира и «Снегурочка» Островского) // Щелыковские чтения – 2005. А.Н. Островский: Личность, мыслитель, драматург, мастер слова: Сб. статей / Науч. ред., сост. И.А. Едошина. – Кострома, 2006. – С. 157.
[Закрыть].
Мотив «усмирения своенравной» обнаруживается в «Бешеных деньгах» (1870) Островского и совместной с Н.Я. Соловьёвым «Женитьбой Белугина» (1878). Свою пьесу «Кто ожидал!» Соловьёв переписывал в мае–сентябре 1876 г. в Щелыкове под приглядом Островского, а позднее Островский значительно исправил рукопись. Итоговый вариант сравнивали с «Укрощением строптивой» Шекспира («Новое Время», 1878, 13 января). Однако логичнее было бы сравнение «Женитьбы Белугина» с «Бешеными деньгами». В обеих пьесах главное действующее лицо – богатый, внешне простоватый человек (Васильков из комедии «Бешеные деньги», Белугин из комедии «Женитьба Белугина»), который влюбляется в девушку образованную, но небогатую (Лидия Чебоксарова в «Бешеных деньгах», Елена Кармина в «Женитьбе Белугина»). Девушки в пьесах приблизительно одного возраста, хороши собой, не питают никаких чувств к влюбленным соответственно Василькову и Белугину, но выходят замуж из расчета, что смогут управлять своими мужьями. Строптивость Лидии и Елены связана с их бедностью, которая не соответствует ни их красоте, ни их образованию, потому приобретаемое с замужеством богатство понимается ими как справедливое возмездие мужьям. Они не любят своих мужей и не скрывают своих чувств в отношении к тем мужчинам, что им нравятся. Однако за внешней простотой мужей таятся натуры глубокие, умные, умеющие постоять за свои чувства и свое человеческое достоинство. И как результат – обретение если не семейного счастья, то явного пути к нему.
Комедии «Усмирение своенравной» Шекспира и «Бешеные деньги» Островского роднятся в драматической коллизии и обрисовке главных персонажей. Муж должен усмирить жену – такова сверхзадача в развитии действия, которой полностью определяется характер Петручио в комедии Шекспира. В отличие от Петручио Васильков искренне увлечен Лидией, которая к нему явно равнодушна. Однако чувства девушки не мешают Василькову почти сразу поспорить (цена спора три тысячи), что он женится на Лидии. Мотив бюджета, за пределы которого Васильков не выйдет ни при каких обстоятельствах, объединяет его с Петручио, сначала узнавшего, сколько дают за невестой, и только потом приступившего к исполнению задуманного плана. Иными словами, в обеих пьесах чувства густо замешаны на деньгах. Но женские характеры все же разнятся.
Катарина строптива оттого, что ее окружают неумные люди, достойные только ее презрения. В Петручио она находит достойного соперника, в котором угадывает друга, потому Катарина не выказывает никакого сопротивления, когда отец отдает ее в жены фактически незнакомому человеку. Комедия Шекспира выстраивается как подчеркнуто театральное действо: перед медником Сляем, нарочно переодетым в порядочного человека – лорда, актеры разыгрывают спектакль-укрощение. Удвоенная театральность (театр в театре) позволяет органично существовать нескрываемой буффонаде побоев, словесных поединков, переодеваний, что рождает игровую стихию в комедии Шекспира, где все подвижно, изменчиво, правда легко подменяет ложь и наоборот.
Лидия Чебоксарова в комедии Островского полностью исчерпывается своим внешним видом, все ее усилия материальны по своему существу, как и ее условная строптивость. Лидия там, где есть деньги, чем скрепляется ее союз с Васильковым, покупающим ее как дорогую и красивую вещь. Пройдет менее десяти лет, и этот мотив «женщина-вещь» приведет Ларису Огудалову к смерти. В «Бешеных деньгах» сделка совершается как нечто само собой разумеющееся.
Лидия. …Но ко всем поклонникам я равнодушна одинаково: вы знаете, скольким женихам я уж отказала; а выйти замуж надо, пора уж, потому я и предоставляю себя в полное ваше распоряжение.
Васильков. Значит, вы меня не любите?
Лидия. Нет, не люблю. Зачем я буду вас обманывать!
<…>
Васильков. …Можно жениться без любви, любовь придет со временем… Но я желаю, чтоб вы меня уважали, без этого уж брак невозможен.
Лидия. Все это разумеется само собой…
Васильков. …Я полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслуживали. Вы должны тоже заслужить мою любовь…
<…>
Лидия. Будем играть комедию, заслуживать любовь друг друга [3, с. 197, 198].
Если в кратком жениховстве Петручио между ним и Катариной возникает некое понимание, то у Островского предложение руки и сердца больше напоминает договор, притом весьма сомнительного свойства – брак как игра в комедию. Этот мотив, явно взятый Островским у Шекспира, пронизывает весь мир «Бешеных денег». Глумов пускает слух о золотых приисках Василькова, знакомит его с Чебоксаровой старшей и радостно замечает: «Ну, комедия начинается» [3, с. 176]. Далее мотив комедии появится в приведенном объяснении Лидии и Василькова, чтобы достичь своего апогея в сцене ухода Лидии от мужа. Она признается: «Вы играли комедию, и мы играли комедию» [3, с. 230]. Но для Василькова ее уход оборачивается мелодрамой, он плачет по убитой душе своей и уж совсем в духе самой разнузданной мелодрамы заявляет Телятеву: «Вези мой труп, куда хочешь, пока он не ляжет где-нибудь под кустом за заставой» [3, с. 230]. Откровенно театральный мелодраматизм, которого вовсе нет в комедии Шекспира, объясняется главным лейтмотивом любви Василькова – бюджетом, из которого он не выйдет при любых обстоятельствах.
Подобно Петручио, Васильков лишит жену жизненных удобств, которые отныне ей будут даваться только по заслугам, вместо светской жизни – деревня, ведение хозяйства. И завершается пьеса «Бешеные деньги» прямой цитатой из «Укрощения своенравной»: «И в рубище почтенна добродетель».
В размышлениях Островского о театре, драматургии имя Шекспира, героев и персонажей из его пьес встречаются постоянно. Шекспир для Островского безоговорочно «великий» [10, с. 25, потому что владеет искусством творить в пьесе «живую правду» [10, с. 148].
Шекспиром меряет Островский как талант актеров, так и в целом уровень развития театра как явления искусства [10, с. 458–459]. По его мнению, «у Шекспира высок строй всех лиц, все роли требуют осмысленного и постоянно оживленного чтения» [10, с. 24]. Без хорошего трагика, без общего понимания природы шекспировских конфликтов его драмы в постановке на русской сцене превращаются, по образному определению Островского, «в срам».
Столь же строг Островский к иностранным труппам, приезжающим в Россию играть Шекспира. Так, мейнингейцев он укоряет: «Я отправился смотреть “Юлия Цезаря” Шекспира, но ни Цезаря, ни Шекспира не видел, а видел отлично дисциплинированную труппу, состоящую из посредственных актеров и отвратительно поющих и ломающихся актрис» [10, с. 427]. Этого впечатления не изменили все технические достижения мейнингенцев, хотя сами по себе эти достижения высоко оцениваются драматургом [10, с. 297–301].
Не принимает Островский и такие постановки шекспировских пьес, где физиономия режиссера кричит о себе каждую минуту [10, с. 297–298]. По его мысли, главное в искусстве «“не выдумывать” небывалую интригу, а… даже небывалую интригу объяснять законами жизни» [10, с. 459]. Здесь Островский следует еще и Аполлону Григорьеву, с которым их связывали самые задушевные личные и творческие отношения, а также интерес к Шекспиру204204
Левин Ю.Д. Переводы шестидесятых годов. С. 490–499.
[Закрыть].
Английский драматург всегда оставался для Островского мерой качества в сценичности пьесы, помогая ему быть в переводах его пьес, как в собственной стихии, по меткому определению М.М. Морозова. Незадолго до смерти Островский взялся переводить «Антония и Клеопатру» Шекспира. Вот он сообщает из Щелыкова в письме к А.Ф. Дамичу (редактору готовящегося собрания сочинений Шекспира в русских переводах) от 28 июля 1885 г.: «“Антония и Клеопатру” я прошу оставить за мной. …Я английский язык знаю порядочно и перевесть всякую пьесу могу легко; но с Шекспиром очень осторожен: для каждой английской фразы можно найти десяток русских фраз, но я стараюсь выбрать из этого десятка самую подходящую» [12, с. 371]. К ноябрю перевод еще не был окончен, а уже в следующем году Островский займется для этого же издания уточнением своего перевода «Усмирения своенравной», что задержит работу над «Антонием и Клеопатрой», а скорая смерть в июне 1886 г. и вовсе ее прервет. Что привлекло Островского в этой пьесе?
В «Антонии и Клеопатре» Шекспир прослеживает коллизию отношений между мужчиной и женщиной в ситуации, когда они равны друг другу как личности, когда они соразмерны. В трагедиях Шекспира героини, как правило, даются достаточно абрисно, если они воплощают положительные характеры, и более полно – в противоположном качестве, выступая как разрушительное для мужчины начало. В «Антонии и Клеопатре» Шекспир дает иную коллизию. Как ни увлечен Антоний Клеопатрой, долг оказывается выше чувств, потому она принимает его решение, хотя и страдает при этом безмерно. Гибель Антония решает ее судьбу. Связь египетской царицы с Антонием была основана на искренних чувствах, потому несвобода страны казалась почти призрачной. Но теперь, после смерти Антония, она может выбрать только смерть. В противном случае ее ожидает участь римской наложницы. Смерть главных героев в равной степени овеяна героическим настроением.
Подобный взгляд на женщину и ее роль в жизни мужчины не представляется типичным для Шекспира, зато оказался важным для Островского 1885–1886 гг. «Антоний и Клеопатра» Шекспира может прочитываться как своеобразный комментарий к творчеству Островского этих лет, времени написания последней оригинальной пьесы «Не от мира сего»: когда жизнь теряет смысл, когда ценности бытия оказываются поверженными, жить незачем. Язычница Клеопатра убивает себя, прибегая к укусу змеи, христианка Ксения умирает безропотно тихо, подобно святой деве. Живя по законам древнего благочестия, она оказывается не от мира сего.
Семейные сцены под названием «Не от мира сего» могут быть определены как драма идей. События происходят нигде конкретно и везде. Дом Кочуева не имеет подробных описаний, герои и персонажи перемещаются в некоем пространстве из кабинета в гостиную и наоборот. В этой пьесе быт отсутствует, никто не ест, не пьет, играют только в шахматы. Своеобразны действующие лица: кажется, все они уже когда-то были созданы Островским и явились в «очищенном» виде, хотя и сохраняя приметы харáктерности.
В пьесе дается сшибка двух мировоззрений, отражающая отчаянную борьбу Муругова с его антропоцентризмом и Ксении с ее онтологизмом миропонимания. В Муругове воплотился мир, в котором ему подобные могли торжествовать, не вызывая в авторе никаких симпатий, потому что утверждение человека мерой всему миру неизбежно влечет выстраивание этого мира по себе с помощью денег. Онтологизм мировоззрения Ксении основан на любви к миру, любви, преображающей человека и устремляющей к Богу. Эта любовь включает бытие в симфоническое устроение мира. Вот здесь-то и оказался важным Шекспир, постижение творчества которого помогло Островскому прийти к убеждению, что жизнь следует объяснять ее же законами. Потому Островский не подвергает жизнь субъективной рефлексии, а возвращает бытию его смысл.
Если вернуться к мысли Фета о сопоставимости хроник Шекспира с историческими пьесами Островского, то на поверхности лежащее общее – это, конечно, масштабность в изображении событий, народные массы, вовлеченные в конфликт. Но Шекспир в хрониках более действен, с хорошо закрученной интригой. Островский скорее выступает как национально ориентированный мыслитель поэтического склада.
Таким образом, на протяжении всей творческой жизни Островского английский драматург был для него образцом не только в постижении сценического искусства, но и в умении наполнять это искусство мировоззренческим содержанием.
М.М. Бахтин о Шекспире
В.Л. Махлин
Аннотация
В статье собраны и систематизированы основные высказывания М.М. Бахтина о Шекспире. Особое внимание уделено аспектам времени и «топографии» шекспировских трагедий в отличие от подходов с точки зрения так называемого «историцизма».
Ключевые слова: серьезно-смеховое, топография, символика, гротескный реализм, историцизм.
Makhlin V.L. M.M. Bakhtin of Shakespeare
Summary. The article is a systematic attempt to collect and analyze Mikhail Bakhtin’ views of Shakespeare and his theatre, particularly his tragedy. Characteristically, Bakhtin is more interested in Shakespeare’s temporality, specifically in his «topography», as opposed to more conventional forms of the so-called «historicism».
Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) не оставил какой-либо специальной и законченной работы о Шекспире – только отдельные высказывания, из которых лишь два – относительно развернутые. Тем не менее за любым суждением или хотя бы упоминанием Шекспира в текстах Бахтина просматривается научно-исследовательская программа, которая в заметках «К вопросам теории романа» (1941) определяется как «проблема изображения непрерывного и прерывистого речевого потока от Горация до Джеймса Джойса»205205
Все цитаты из М.М. Бахтина приводятся по изд.: Бахтин М.М. Собрание сочинений. – М., 1996–2012, с указанием в скобках тома и страницы.
[Закрыть] (3: 557). Речь идет о проекте исторической поэтики, продолжающей почин А.Н. Веселовского, но опирающейся на существенно иные мировоззренческие и теоретические основания, чем классическая (аристотелевская) поэтика и теория литературы Нового времени. В этом по-бахтински большом контексте «большого времени» и «большого опыта» (5: 78) Шекспиру, бесспорно, принадлежит одно из первых мест (почти наряду с Рабле и Достоевским). Целесообразно (1) уточнить это место Шекспира в контексте исторической поэтики Бахтина, затем (2) прокомментировать его интерпретацию трагического у Шекспира и, наконец, (3) соотнести высказывания Бахтина о Шекспире с научно-гуманитарными и философски-мировоззренческими проблемами, возникавшими в дискуссиях Бахтина с его современниками и его современностью.
1. Шекспир, по мысли Бахтина, – одна из ключевых фигур в истории «гротескного реализма» – традиции художественной символизации исторического опыта («духовно-содержательной сущности жизни») в мифе и фольклоре, в литературе и искусстве. Особенности «гротескного реализма» в театре Шекспира – «всемирность (в смысле исторического охвата действием всего мира)» и, «так сказать, всевременность (в смысле охвата всего времени истории человеческого рода)» (6: 447) – отражают «прямое наследие средневекового театра и народно-зрелищных форм» (там же). Поэтому в драматургии Шекспира царит особенная «жанровая атмосфера», глубоко отличная от театра и литературы последующих веков (особенно XIX в.), – атмосфера, которую Бахтин называет «карнавальной», связывая ее с жанровой традицией также и Достоевского, «подключившегося» к ней под влиянием литературы Возрождения (преимущественно Сервантеса и Шекспира) (6: 177).
«Ко времени Шекспира, – говорится в рецензии (1970) на книгу Л.Е. Пинского о Шекспире (1971), – трагедия достигла своей жанровой зрелости» (6: 448): она освободилась от официальной религиозной скованности и догматизма, решительно встав на путь секуляризации (а значит, свободы художественного вымысла); но, с другой стороны, как раз это освобождение имело «художественно-жанровое значение» (там же), поскольку Шекспир унаследовал мистерийно-религиозную подоснову как античной трагедии, так и средневекового карнавала, преобразовав эти традиции в эпоху Ренессанса и в конкретно-исторических условиях елизаветинской Англии.
«Сцена шекспировского театра – весь мир. (Theatrum Mundi). Это придает особую значительность, часто величественность, каждому образу, каждому действию, каждому слову в трагедиях Шекспира, которая никогда уже более не возвращалась в европейскую драму последующих веков (после Шекспира все измельчало в драме)» (6: 447). Отсюда – «особая космичность (и микрокосмичность) образов Шекспира. Космические тела и силы – солнце, звезды, воды, ветры, огонь и др. – или прямо участвуют в действии, или постоянно фигурируют, притом именно в своем космическом значении в речах действующих лиц» (там же). Если сцена театра Нового времени, начиная с XVII в., – это «коробка без одной стенки» (6: 448), то сцена шекспировского театра определяется абсолютными категориями и координатами человеческого мироощущения и бытия в мире – «хвалы» и «брани», «верха» и «низа», «увенчания» и «развенчания» – вплоть до внешнего устройства сцены, где даже балкон на задней части – это «бывшее “небо”» (6: 447).
«Процесс перерождения» в драме, по Бахтину, начинается уже у самого Шекспира: в «Кориолане» то, что прежде было всечеловеческим, становится узкогражданственным «почти в духе раннего Корнеля», а в «Тимоне Афинском» то, что прежде выражало величие, становится скорее предметом сатирической типизации «почти в духе Мольера» (6: 448). В драме Нового времени еще больше, чем в романе, соединение «всемирности» и «всевременности» с космическим, на взгляд Бахтина, уступает место натурализму, поверхностной «актуальности» и психологизирующей приватизации образа человека.
2. Бахтинская интерпретация трагического у Шекспира восполняет его концепцию «карнавальной культуры» и философию «смехового». Во-первых, для Шекспира, как и для всей традиции «карнавализованной» литературы, характерен «амбивалентный» смех, отличающийся от «сатиризующего» («бичующего») смеха; в этом отношении Рабле – «сатирик не в большей степени, чем Шекспир, и в меньшей степени, чем Сервантес» (4/2: 230). Во-вторых, дело не только в специфике «смехового», но, и это главное, в традиции «серьезно-смехового» (spudogeloyon) в европейской литературе в целом.
«В мировой литературе, – говорится в книге Бахтина о Рабле (1965), – существуют произведения, внутри которых оба аспекта мира – серьезный и смеховой – сосуществуют и взаимно отражают друг друга (именно целостные аспекты, а не отдельные серьезные и комические образы, как в обыкновенной драме нового времени»; в этом отношении трагедии Шекспира – «самые значительные произведения этого рода» (4/2: 135). В книге о Рабле подчеркивается «карнавальный момент» у Шекспира как, с одной стороны, жанрообразующий, с другой – конкретно-символический, причем этот «момент» пронизывает не только «второй шутовской план его драм», но и «серьезный план» (4/2: 295), т.е. все то, что традиционно понимается и осмысливается в трагическом аспекте. Подобно тому как карнавальная логика «смен и обновлений» в значительной степени определила более или менее «смеховой» миросозерцательный характер литературы Возрождения и особенно романа Рабле, та же самая логика является «основой шекспировского мироощущения» с его «абсолютным адогматизмом», далеким, однако, – что для Бахтина принципиально – от цинизма и нигилизма (там же). В этом отношении после Возрождения, особенно в XIX и ХХ вв., происходит «спуск»: «гротескный реализм», с его сочетанием «серьезного» и «смехового», с одной стороны, возрождается, но с другой – вырождается – сначала в романтическом, а позднее в «модернистском» мироощущении и гротеске.
Однако в книге о Рабле (в ее канонической редакции) основным мотивом была возможность «смехового» одоления и преодоления омертвелых общественных форм жизни и сознания, а основным тоном – оптимизм карнавала с его образно-символической «народной» верой в другую, лучшую жизнь на земле; связь «карнавальной культуры» с трагедией и, шире, с «серьезным» как таковым была там приглушена, тогда как трактовка «фантастического реализма» Достоевского в свете жанровых традиций «гротеского реализма» в книге о русском романисте XIX в. (1963), наоборот, показалась неубедительной в силу устойчивого представления о «трагизме» и Достоевского, и Шекспира. В результате из обеих подсоветских монографий выпало систематическое посредствующее звено, вне которого перенесение Бахтиным принципа «серьезно-смехового» и традиции «гротескного реализма» на шекспировскую драму и на литературу Нового времени выглядит недостаточно обоснованным и, как следствие, породило множество аберраций в эпоху так называемого постмодернизма (как западного, так и советского, и постсоветского).
Это недостающее звено фрагментарно, почти a propos представлено в заметках Бахтина, писавшихся в конце войны с фашизмом в атмосфере общественного подъема, идеологических послаблений и надежд на публикацию книги о Рабле, что объясняет единственный в своем роде дискурс этих заметок, известных теперь как «Дополнения и изменения к “Рабле”» (1944; опубл. 1992). В центре этих заметок – Шекспир и его главные трагедии, точнее – взаимосвязь амбивалентной логики времени в символах карнавала – с одной стороны, и с другой – потенциально «преступного» индивидуального сознания (в принципе – всякого), не принимающего своих естественных границ и ограниченности и пытающегося увековечить себя путем кровавой узурпации власти. Основные утверждения и акценты бахтинской интерпретации основных трагедий Шекспира («Макбет», «Гамлет», «Лир») таковы:
2.1. В истории рецепции и многочисленных интерпретаций Шекспира вплоть до ХХ в. Бахтин подчеркивает разрыв между зрительски-читательским восприятием трагедий и реальным осмыслением их: «Нас захватывают и поражают именно основные тона Шекспира, но осознаем, осмысливаем и обсуждаем мы пока только обертоны» (5: 85).
2.2. Основные тона великих трагедий Шекспира, по мысли Бахтина, связаны с попыткой героя как бы остановить время, с его неприятием амбивалентной логики «увенчания / развенчания», «хвалы / брани» и т.п. Логика Макбета, например, – «необходимая железная логика самоувенчания (и шире – логика всякого увенчания, венца и власти, и еще шире – логика всякой самоутверждающейся и потому враждебной смене и обновлению жизни)» (там же). Всякий человек, даже более или менее «усмиренный законом», – это, по Бахтину, потенциальный преступник в своем стремлении к самоутверждению и, в пределе, к бессмертию; трагизм, собственно, в том, что эти притязания индивида, с одной стороны, совершенно оправданны, но с другой – являются источником «глубинного преступления (потенциальной преступности) всякой самоутверждающейся индивидуальности, всякой рождающей и умирающей жизни (другой жизни, жизни вечной, мы не знаем и только постулируем и должны постулировать ее)» (5: 86).
2.3. Соответственно, в образной структуре «Макбета», «Лира», «Гамлета» и других трагедий Шекспира Бахтин выделяет три плана. Первый (глубинный) план образов – «надъюридический» и «топографический»: в нем раскрываются «внутриатомные противоречия жизни», в нем «из глубин бессознательного» (ломая «цензуру сознания»), выходит на сцену театра и истории «глубинная трагедия самой индивидуальной жизни, обреченной на рождение и смерть» (5: 86) и, соответственно, «надъюридическое преступление всякой самоутверждающейся жизни (implicit включающей в себя как свой конститутивный момент убийство отца и убийство сына» (5: 85–86). Второй план – собственно литературный (но, конечно, не в формалистическом смысле); здесь существенна «формообразующая роль преступления в литературе (особенно наглядно у Достоевского)», когда предмет изображения – «трагедия (и преступление) всякой власти (т.е. и самой законнейшей)»; у Шекспира эта трагедия «раскрывается на образе узурпатора (преступного властителя)» (5: 87). Наконец, третий план, опосредующий оба первых в разрезе исторической современности Шекспира («этот план полон намеков и аллюзий») и относящийся к первому и второму планам так же, как в архитектуре орнамент или барельеф относятся к «действительному движению архитектурных масс» (5: 87).









































