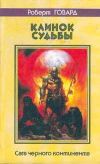Текст книги "Клинок Тишалла"
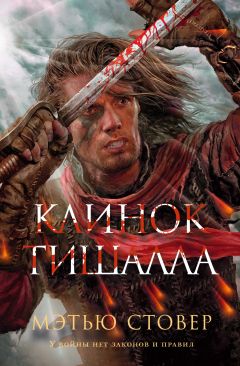
Автор книги: Мэтью Стовер
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 53 страниц)
– Кейн, брось меч, – приказывает Райте и, верно, пытается подкрепить слова иными силами: невидимые пальцы направляют мою волю. – Опусти его. – И рука моя слабеет. В глазах монаха искрятся звезды. Он делает шаг. – Вот так. Брось меч.
– Еще шаг… – хриплю я, вскидывая Косаль. По клинку бегут незнакомые узоры начертанных серебром рун, – и я брошу его в твою лживую глотку!
Руны на клинке выпивают серебро из его глаз, и Райте отступает.
Ну и какого хера мне теперь делать?
Прежде чем я успеваю дать ответ…
Словно червь, выползающий из губ мертвеца, из-за края чаши поднимается чучело Берна.
7
Труп встает, медленно распрямляется, как подсолнух, тянущийся к солнцу. По обнаженной коже змеятся кельтские узоры, сверкая золотом в лунном свете. Швы, что стянули вспоротый моим ножом живот, кажутся стальной застежкой-молнией; без парика, венчавшего чучело, когда он был выставлен на всеобщее обозрение, его череп представляет собой обнаженную кость, остатки кожи прикреплены к нему алюминиевыми скобами. На самой макушке зияет иззубренными краями дыра, пробитая моим маленьким ножом, – кто бы стал ее заклеивать мертвецу? – и сквозь нее проглядывает что-то черное и блестящее, будто газ-антисептик превратил остатки Берновых мозгов в обсидиан. Тварь поднимает голову и бессмысленно оглядывает нас мертвыми глазами, не в силах сосредоточить взгляд, с неясной тупой угрозой кусачей черепахи, поводящей раззявленным клювом в непроглядно мутной воде.
Зрелище это парализует нас всех, даже охранников. Внизу на платформе недвижно валяется Проховци – без сознания или мертвый, отсюда не разобрать. Мертвый Берн расправляет плечи. Пальцы его шевелятся, словно щупальца актиний, нашаривая мнимую добычу.
Умирающий Гаррет отшатывается от твари. Кровь из рассекшей плечо раны брызжет во все стороны, заливая лицо чучела, и темный мясистый язык мертвеца выхлестывает наружу, чтобы слизнуть капли. От знакомого вкуса глаза демона вспыхивают.
Я не успеваю заметить, как движется его рука, – как-то разом она мертвой хваткой вцепляется в здоровое плечо Администратора. Когда тварь стискивает его в любовных объятиях, хрип Гаррета переходит в долгое хрусткое «ккккккк…», – должно быть, он пытается кричать. Одержимый демоном труп впивается, распахнув челюсти, в губы вице-короля: реанимация в исполнении насильника.
Демоны питаются чистой Силой, но по душе им лишь одна ее разновидность – Сила, настроенная Оболочкой живого существа на вибрации боли, ужаса и отчаяния. Обычно эти твари таятся развоплощенными рядом с нами, словно стервятники, ожидая, пока кому-нибудь не станет плохо, способные лишь подтолкнуть в нужном направлении чью-то темнеющую Оболочку. Шанс лично причинить смертельную боль – доступный им только в телесной оболочке – они, должно быть, ценят весьма высоко.
Вселившийся в Берна демон, судя по всему, оттягивается по полной программе: вставший хер этого чучела похож на сырую сардельку в полруки.
Гаррет исходит визгом в распахнутую пасть трупа.
Свободная рука твари разрывает одежду еще живого Гаррета и продолжает рвать – выдирая клочья мяса, впиваясь пальцами в живот, выдергивая полными горстями кровавое месиво. Кишки Администратора не выдерживают, заливая дерьмом сплетенные ноги обоих, но мертвец даже не замечает этого. Он запускает руку в продранное брюхо вице-короля, кровь стекает до самого локтя, по мере того как внутрь входят сначала пальцы, потом предплечье, словно исполинский член, дотягиваясь до самого сердца.
И я откуда-то знаю, что́ эта рука делает. Точно знаю.
Прямой массаж.
Тварь заставляет сердце Гаррета качать кровь, чтобы продолжал жить мозг, чтобы исходил сладостными вибрациями муки, и страха, и отчаяния. Представить не могу, что чувствует Гаррет при этой чудовищной, зверской пытке, – и не дай бог мне это узнать!
В конце концов Гаррет перестает отбиваться и только подергивается спазматически, и тогда демон одной рукой отшвыривает тело в кратер, точно ребенок палочку от леденца. Потом чучело сонно потягивается по-кошачьи, и безадресно-злобный взгляд его упирается в меня.
Из разверстой пасти раздается костяной перестук, словно сыплется галька, потом глохнет на секунду, пока тварь набирает воздух в мертвую грудь, – она не дышит и забыла вдохнуть, прежде чем заговорить. Потом перестук раздается снова, все скорей и скорей, покуда щелканье не рассыпается на звуки сухого, нечеловечески бесстрастного голоса:
– У тттебббя-а мой меччшш.
Это не Берн. Это не его душа вернулась в тело – сколько угодно могу повторять себе, но выражение его глаз, звук голоса вытягивают из меня силы сильней, чем все чары Райте. Я даже не могу удержать Косаль, и, когда Райте делает шаг ко мне, выдергивая у меня эфес одной рукой, а другой ловко расклинивая мои запястья очень эффективным приемом айкидо, я не пытаюсь сопротивляться.
Демон оборачивается к Райте:
– Онно умирррало. – Должно быть, это он про Гаррета. – Я ггголодддаю. Нне пппроступоккк?
Райте пожимает плечами и бормочет себе под нос что-то вроде местной версии «не подмажешь – не поедешь». Без страха подойдя к демону, он протягивает чучелу рукоять Косаля:
– Задача тебе ясна?
Идиот, долбаный дебил, кретин сраный!..
Я же мог себя зарезать клятым мечом. Мог себе башку снести!..
Но не сообразил.
Чучело хватает эфес Косаля – и клинок молчит, потому что чары его пробуждает к жизни лишь прикосновение человеческой руки. Демон поднимает оружие, изучая блестящее под луной лезвие, жидкий блеск усеявших клинок от острия до самой гарды рун.
– Палллассс Риллл, – стрекочет демон, и бледный отсвет отгоревшей похоти в его глазах заставляет меня подумать, что в нем осталось все же нечто от прежнего Берна.
А потом каким-то образом тварь оказывается прямо передо мной. Зенки ее блестят, как стеклянные, – наверное, так и есть, из глотки рвется долгий, басовитый стон, словно у старого усталого любовника на грани оргазма, переходящего в инфаркт.
– Ппприветттт, Кейнннн, – скрипит она.
Дежавю скребет глотку и крутит кишки, выжимая блевотину.
Этого не может быть. Это все дурной сон.
– Ппочемму ты не бежишшшшь? Тттты всссегдддда хххорошшшо ббббегал, – говорит тварь, воздев клинок Косаля под тем же углом, что напряженный член. Она наклоняется ко мне так близко, что я ощущаю запах крови Гаррета и газа-антисептика. – В чччем дддело? Нннноги ппподводятттт?
Я пытаюсь вжаться поглубже в кресло, слабо булькая горлом.
Райте берет тварь за плечо.
– Паллас Рил, – твердо напоминает он.
– Голодддд. Онна должнна… умереттть быссстттро?
– Да, – твердо отвечает Райте. – Быстро. Мгновенно. И точно так, как тебе наказано; иначе она без труда уничтожит тебя.
– Нннннн… Голодддд…
Голос твари переходит в механический рык, словно при работе турбины на холостом ходу.
– Да, пожалуй, – задумчиво замечает Райте, а потом бесцветные его глаза останавливаются на мне, и губы растягиваются в гримасе, которую он, должно быть, считает улыбкой. – И у меня найдется для тебя самая подходящая закуска.
8
Не знаю, как долго демон затаскивал меня на гору. Должно быть, несколько часов – бесконечный кошмар. Я болтаюсь лицом вниз на каменно-твердом плече, то приходя в себя, то вновь выключаясь от боли, изнеможения, невообразимой мигрени: из-за того, что приходится висеть вниз головой, в черепе словно шершни роятся. Все, что было в желудке, я выблевал давным-давно; теперь стоит мне очнуться, как меня начинают терзать сухие позывы, покуда в глазах не поплывет. Кашляю кровью.
И чертов меч все пытается выбить мне глаз. Где-то нашлись другие ножны для Косаля, и меч вместе с ними пристроили на спине демона. Я выкручиваю запястья под тонкой прочной лентой наручников, стянувших мне руки за спиной, но та режет плоть, и кровь стекает по локтям, по спине и шее и каплями падает с подбородка.
Если мне только удастся высвободить руку и дотянуться до рукояти Косаля…
Демон мерным шагом движется вверх. Его мертвые мышцы, питаемые вовсе не химическими реакциями, не знают усталости. Тварь не ищет легких путей – она обходит перевал стороной, взбираясь по крутому склону горы Резец, нечеловечески ловко, даже босиком и с одной лишь свободной рукой, пробираясь среди утесов.
Болтаясь на плече чучела, я вижу под собой почти всю Крилову седловину. Гребень перевала превратился в крысиное гнездо железнодорожных веток, заплетающих голые костяки полуотстроенного депо; таможня отмечает номинальную границу между Трансдеей и Империей Анханан. Всюду шатры – от маленьких двухместных палаток до огромных: столовая, ангар из листового железа, настолько огромный, что в нем можно было бы разобрать пару локомотивов, не перепутав деталей, отхожие места, лавка компании и один бог ведает что еще.
Базовый лагерь компании «Надземный мир»: они прокладывают железнодорожную ветку по западному склону седловины. В Империю. Чертова железная дорога похожа на язык, пробующий Анханан на вкус.
Из-за холмов на востоке показывается краешек солнца, золотом обливая ресницы. Пожалуй, надеяться, что демон от первых лучей дневного света вспыхнет огнем или еще что-нибудь в этом духе, слишком оптимистично.
Высоко на западном склоне горы Резец, чуть ниже нас, должен быть виден родник, но я вижу только низкую кирпичную башенку, откуда выползает длинная извилистая водопроводная труба, такая новая, что подтекающие стыки еще не начали ржаветь. Труба утыкается в просмоленную бочку на сваях, а уже из нее в сторону растущего скелета вагонного депо ползут другие трубы, поменьше.
Внизу, среди перепутанных рельсов, строятся в длинную неровную очередь Рабочие – слишком усталые и не выспавшиеся после ночи на такой высоте, чтобы поднять голову и увидеть нас. Сейчас, на рассвете, строители выползают, спотыкаясь и почесываясь, из палаток и бредут за водой к проточному желобу, и вскоре там, где он подтекает, земля превращается в грязное месиво.
Из этой грязной лужи теперь вытекает Большой Чамбайджен.
Райте остался по другую сторону перевала вместе со своими охранниками – фальшивыми охранниками, как я теперь понимаю. Это явно социальные полицейские в штатском, потому что ни один охранник на свете – тем более четверо разом – не остался бы спокойным во время сцены в кратере. А у соцполов нервы железные; покажи соцполу сраный апокалипсис, тот глазом не моргнет.
Им пришлось остаться по ту сторону гребня, потому что Шанна ощутит их недобрые намерения, стоит им вступить в пределы ее водосбора. Но далеко они не уйдут. Не знаю, что такого я сделал этому Райте и почему он меня так ненавидит, но настоящую сердечную ненависть я знаю. Он будет подглядывать.
Демон тащит меня на северо-запад параллельно сточной канаве, содержимое которой вытекает из лотка и смешивается с сочащейся из бочки водой. Несколько минут – и мы оказываемся в четверти мили от лагеря, там, где грязная вода возвращается в первоначальное русло – неглубокую промоину над крошечным водопадом, льющимся футов с пятнадцати в пруд с каменистым дном. Демон осторожно несет меня через валуны, подальше от лагеря, через промоину над прудом. Вода в пруду стоячая, покрыта радужной пленкой и пахнет мочой и серой.
Демон карабкается вниз, затем бросает меня на острые камни, словно мешок с дохлыми кошками. Со скованными руками и парализованными ногами я никак не могу смягчить падение – лишь нагибаю голову и молюсь, чтобы не раскроить череп. В висок мне утыкается булыжник, перед глазами вспыхивает фейерверк, и даже мигрень отступает, но секунд через пять возвращается с такой силой, что и бык свалился бы.
Чучело зачерпывает из ручья пригоршню воды и обрызгивает мои губы. Потом набирает еще и плещет на лоб – слизь сочится сквозь волосы, окрещая меня скверной, в которую компания превратила истоки Большого Чамбайджена.
Через несколько секунд по нервам моим прокатывается теплая волна присутствия, странное, смутное чувство – словно что-то обнимает, и тискает, и утешает меня изнутри. С ожогов сползают корки, и тотчас же, прямо на глазах, нарастает новая плоть.
Так она подсказывает, что ждать недолго.
Господи, если бы я мог умереть прежде, чем она явится…
Если бы…
Жгучие слезы струятся по моим щекам, и демон склоняется надо мною, собираясь приступить к кормежке.
9
За краем мира мама пела вместе с рекой. Когда Фейт становилось очень страшно, она всегда могла спрятать голову под чудесными шелковыми простынями, и укутаться ими, и закрыть глаза, и отдаться Песне безраздельно. Поначалу, когда тот человек унес ее, а папа разозлился, она ужасно напугалась, но когда река поет у тебя в голове, бояться долго просто нет сил.
Потому что река остается рекой и бояться нечего.
Кроме того, это был чудесный дом, даже больше родного, и стоял он в центре Бостона, в котором Фейт прежде не бывала и которого почти не видела, разве только через окно лимузина гран-маман, но была совершенно уверена, что и Бостон – чудесный город. Она была даже не прочь пожить тут немного. Потому что здесь жило столько народу и все были с ней очень милы и не заставляли убирать за собой одежду или застилать постель. Одна старушка, по имени чернорабочая Добсон, вообще занималась только тем, что ходила за Фейт по пятам и подбирала всякие вещи. Очень милая старушка, только молчаливая очень, зато все время улыбалась и уже один раз подсунула Фейт изумительно вкусную конфету – «шоколадный трюфель» называется.
Мама в Надземном мире трудилась не покладая рук, чтобы вылечить всех больных, и все время пела какую-то особенную новую Песню, которой Фейт еще не слыхала, но которую все равно полюбила. Мама была довольна и счастлива, поэтому и Фейт была счастлива, даже когда чернорабочая Добсон пришла ее будить и одевать к воскресному завтраку. Все произносили это слово с таким почтением, что Фейт поняла – это важное событие, и надевать к нему полагалось роскошное такое платье, белое, все в кружевах до самого пола, с пышными рукавами и чудной сатиновой юбочкой.
Пара Рабочих, с которыми она еще не познакомилась, убрали комнату, пока чернорабочая Добсон причесывала Фейт, так что очень скоро все было готово к воскресному завтраку. Чернорабочая Добсон за руку отвела девочку с третьего этажа на первый по большущей лестнице и через огромный зал – в столовую.
И столовая была здоровенная. Стены покрыты деревянными панелями выше макушки Фейт, а дальше – шелковые обои. Стол тоже большущий, весь свечками уставлен. Ее дядьки – кого как зовут, Фейт уже забыла – и гран-маман уже сидели, и у каждого за спиной стоял Рабочий в роскошной ливрее, с ужасно серьезным видом. Чернорабочая Добсон показала Фейт ее место – специальное кресло, забравшись в которое девочка могла сидеть за столом вровень со взрослыми. Девочка устроилась в кресле и вдруг рассмеялась тихонько.
– Фейт, – нехорошим голосом проговорила гран-маман. – Немедленно прекрати хихикать.
– Прошу прощения, гран-маман, – ответила девочка, закрыв рот ладошками, чтобы восторженный хохот не прорвался наружу.
– Что, во имя всего святого, тебя так развеселило, дитя? Поделись шуткой. Я уверена, твои дяди ее оценят.
– Это не шутка, гран-маман. Я просто счастлива.
– Счастлива? Разумеется. Должно быть, это огромное удовольствие – попасть в приличный дом…
– Нет, не из-за этого. – Фейт не удержалась и хихикнула. – Я счастлива, потому что папа здесь.
– Что?!
– Не здесь-здесь, – объяснила Фейт. – А здесь-там. Он сейчас с мамой. – Золотые бровки тревожно нахмурились. – Вот только мама почему-то не рада…
10
Прикосновение губ Хари вернуло богиню в ее личную мелодию великой Песни Чамбарайи.
С той секунды как она оставила Анхану, Паллас Рил не покидала вышних гармоний Чамбарайи, открывая в них бесконечные математические итерации заданной ею темы: баховские каноны на тему полужизни созданного ею противовируса. Единственный раз ее отвлекло горе Фейт – вернее, материнская слабость, когда она вновь обратилась просто в Шанну Майклсон и, забыв о цели, со всей возможной скоростью ринулась к ближайшей точке переноса. Но Хари устами Фейт поклялся, что справится на своей стороне, напомнив богине, что у той есть другие дела. Она доверилась ему.
У нее не было выбора.
Поэтому она сдалась под напором Песни, глядя, как миллиарды поколений ее создания проплывают перед мысленным взором, точно колеса галактик, где каждая звездочка – это искра жизни. В теле Криса Хансена она нашла свой образец ВРИЧ и взрастила его в своей крови; там же она творила культуру противовируса. По завершении миллиарда генераций Песня исцеления звучала все так же ясно и чисто, без единой диссонирующей мутации.
Но сейчас Хари коснулся ее, и Шанна ощутила его боль и ярость – словно игла пронзила вздутый нарыв, в который превратились ее истоки. За много миль она коснулась его своей силой, заживляя раны и облегчая страдания. И вот тогда ее сердце кольнул ужас – чувство, столь чуждое ее натуре, что она поначалу не сумела ни распознать его, ни определить источник.
Ее дочь звенела в отдалении контрапунктом ее Песне, счастливая даже в чужом доме, где держала ее бабка. Фейт не испытывала страха; отец обещал ей, что придет за ней, обещал, что все будет в порядке, – и все же оказался здесь, одинокий, раненый, измученный, оставив Фейт в руках врагов.
Вот что отравило ужасом ее спокойствие.
Сладостная нота в Песне Чамбарайи, что была физическим телом Паллас Рил, прозвучала над любимым местом ее медитации – залитой солнцем лужайкой над заросшим ивами ручьем, в окружении дубов и грецкого ореха, что в трех днях пути на юго-запад от Анханы, – чтобы найти в Песне отзвуки знакомого аккорда, еле слышной темы шумных каменистых порогов в семи лигах выше по течению. Она поймала этот отзвук и спела его вместе с рекой; сочетая эти аккорды с томным ритмом солнечной лужайки, она соединяла их в пространстве и времени.
Один шаг перенес ее с лужайки к порогам.
Еще за семь лиг она услыхала тихий шорох болот, где смеются камыши и бормочут под землей узловатые корни деревьев; несхожие мелодии слились в ее Песне, чтобы богиня могла шагнуть от порогов в болото.
Так и шла она вдоль реки.
По мере приближения все ясней она ощущала в теле Хари боль превыше той, что может испытывать плоть: ужас и холодную ярость. Страх. Отчаяние.
И в то же время рядом с ним не было никакой угрозы, никакой опасности. Она ощущала лагерь на перевале так ясно, словно его отбросы стекали прямиком ей на язык. Смутно чувствовала какофонию тысячи жизней на самом краю своего водосбора. И ничто в округе не желало Хари Майклсону зла – лишь простые людские души слышала она, слепо, как это водится среди людей, ведомые призраками голода, похоти, сластолюбия.
Чего ему бояться?
Тринадцать шагов привели ее на озаренный рассветом склон пониже перевала, который люди зовут Криловой седловиной, – груда земли между иззубренными пиками, закопченными до стального цвета. Отыскав в Песне мерный перезвон стекающего в каменную чашу маленького водопада, слившийся ныне с торопливым стуком сердца Хари, Паллас Рил сделала последний, проминающий реальность шаг и очутилась рядом с мужем в каменистой теснине, куда рушился водопад.
Хари валялся на спине на краю пруда, наполовину вбитый между камнями. Лицо его было забрызгано, руки стянуты за спиной, в рот воткнут кляп. Он простонал что-то сквозь тряпку, в глазах стоял безумный ужас.
Шанна опустилась на колени, погладила его по щеке, и холодные брызги нежно оросили ее шею. Даже вонь людских испражнений не казалась ей неприятной, потому что ниже по течению их поглощали водоросли и травы, разрастаясь необычайно.
– Все в порядке, Хари, – проговорила она. – Я здесь.
Она могла бы сложить в слова птичьи песни и журчание воды, стрекот сурков и треск камней, расколотых корнями травы, но вместо этого она заговорила губами Паллас Рил, по той же самой причине, по которой собственными пальцами стала вытаскивать тряпку изо рта Хари, вместо того чтобы призвать на помощь свою власть. Иногда даже богиня должна оставаться человеком.
Теперь она понимала его отчаяние: кто-то бросил его здесь умирать, и он боялся, что она не успеет явиться вовремя. Богиня впустила в свою Песню печальные обертоны меланхолии. За столько проведенных вместе лет она так и не сумела его убедить, что жизнь людская – всего лишь струйка в потоке жизни; когда эта струйка, прекрасная и недолговечная, сливается с основным течением реки, ничто не потеряно. Теряться нечему.
Река вечна.
Слезы льются по его лицу, смешиваясь с грязными брызгами водопада. Шанна распутала тугой узел на грязной тряпке, Хари дернулся от ее прикосновения и судорожно выплюнул кляп в воду.
– Беги, Шанна! – прохрипел он. – Это ловушка! Беги!
Она улыбнулась. Он что, ничего не понимает?
– Здесь нет опасности, Хари…
Хари забился в своих путах и завыл – безраздельное отчаяние звучало в его вопле.
От этого крика она вздрогнула, как от оплеухи. Неясная тревога, беспокоившая ее в последние минуты, вдруг невероятным образом пошатнула землю под ногами, и та подалась с неслышным рокотом. Планета, частью которой являлась богиня, потеряла целостность. Словно рассвет над горами, в душу ее входило осознание страха.
Каждое слово Хари выплевывал с кровью, словно его тошнило колючей проволокой:
– Шанна, твою мать, раз в жизни, блин, сделай как я говорю, ТЛЯ, БЕГИ!!!
Вскочив, она хотела обернуться, но не успела: что-то легонько ударило ее сзади по плечу, выше ключицы, больно, но не очень – так мог ударить прутиком ребенок, словно понарошку. По телу стремительно прокатилась холодная волна – будто ледяная проволока прорезала туловище от плеча наискось через ребра до печени. Она попыталась увидеть, что ее ударило, но почему-то начала падать, соскальзывать вбок, не чувствуя ног под собой; не ощущая руки, потянулась к земле другой и больно ударилась о камни, рухнула на спину…
А над ней стояла женщина в ее одежде, но не вся, а половинка – только торс и левая рука, вместо головы и правого плеча зияла рана в целый мир величиной; и когда ноги ее подогнулись и безголовый однорукий уродец грянулся оземь, алая кровь из перебитой аорты хлынула, как каберне из разбитой бутылки, сверкая в лучах рассвета душераздирающе прекрасной радугой.
«Это я, – подумала она. – Это моя кровь».
Она попыталась выговорить: «Хари… Хари, мне больно, помоги мне…» – но легкие остались в разрубленном теле, и Шанна могла только отчаянно шевелить губами и безмолвно ворочать отнимающимся языком.
«Хари, – все еще старалась выдавить она. – Хари, пожалуйста…»
И вдруг над нею воздвиглась человеческая тень. Могучего сложения нагой великан черным силуэтом нарисовался на фоне кружевных белых облачков на голубом утреннем небе. Тень вознесла ввысь длинный меч и, перехватив рукоять поудобнее, с размаху опустила его, словно вбивая столб в слежавшуюся глину.
Острие вошло богине меж глаз, и больше она не видела ничего.
11
За окнами, выходящими в сад, ярко сияло утреннее солнце, в руках ливрейных слуг еще дымились тарелки с едой, когда посреди традиционного воскресного завтрака в семействе Шанкс Фейт Майклсон взвилась в кресле и заколотила крошечными кулачками по глянцевой столешнице красного дерева, раздирая пожелтевшие от старости льняные скатерти и визжа так, словно за ноги ее кусали крысы.
Никто из пораженных родичей не успел даже спросить, что случилось, когда девочка рухнула. В наступившей потрясенной тишине Эвери Шанкс отчетливо услыхала жалобный детский шепот:
– Хари… Хари, мне больно, помоги мне… Хари, Хари, пожалуйста…
Слуги кинулись на помощь, но окрик Эвери хлестнул их, точно кнутом:
– Назад! Не трогайте ее. Добсон, Профессионала Либермана немедля сюда!
Фейт не билась в судорогах и вроде бы не задыхалась. Пока все ждали, когда прибежит доктор из пристройки для слуг, Эвери молча стискивала зубы, и вскоре в ушах у нее начало звенеть.
Его имя…
Горько, горше желчи, что в собственном доме Эвери Шанкс ее собственная внучка молила о помощи – его.
12
До самого конца – горького и кровавого – я пытаюсь убедить себя, что есть способ выкрутиться. Мы столько раз попадали в переделки – в ловушки без выхода, без единого шанса – и все же выкручивались против всякой вероятности, против здравого смысла, без всякой надежды. Всегда могли уцелеть.
Лежа на камнях под водопадом сточных вод, вдыхая вонючие брызги, пока вселившийся в Берна демон упивается моим мучительным ужасом, я выкручиваю отчаянию руки, перебирая в памяти все случаи, когда нам удавалось выпутаться. До самого конца я заставляю себя верить, что Шанна заметит капкан, спасет меня, что вместе мы вытащим нашу дочку, что отец еще жив, что мы вместе вернемся домой.
Что я еще выгрызу зубами свой хеппи-энд.
Когда она появляется, а демон медлит с ударом, я пытаюсь взглядом объяснить ей, заговорить с ней на языке моего страха, пытаюсь перегрызть грязную тряпку, от которой у меня во рту стоит привкус пыли и людского дерьма.
Она взмахом руки могла бы разъять проклятую тряпку на составляющие атомы, но вместо этого возится с узлом такими человечьими, такими неловкими пальцами; и когда мне удается избавиться от кляпа и заговорить с ней, она не верит, пытается успокоить меня, и отчаянный ужас выплескивается из меня воплем, тогда она все-таки умолкает, и я по глазам ее вижу – начинает понимать, но для нее это дело не быстрое; она никогда не умела враз поменять свой взгляд на мир, заметить неожиданное, а времени ей не купят все мои богатства. Я беснуюсь у ее ног, завывая и матерясь, подгоняя ее жестокими оскорблениями, чтобы только она поднялась, сдвинулась с места, убралась отсюда; наконец она встает, оборачивается…
И умирает, провожаемая моими проклятьями.
Мертвая рука сжимает рукоять Косаля, и клинок не звенит тревожно. С неуловимой быстротой чучело появляется за спиной Шанны, и меч опускается так стремительно, что глазу не уследить: я замечаю только взмах и последствия удара – клинок вспыхивает серебряным пламенем, вмиг рассекая ее от плеча до ребер, поперек груди…
Половинка тела отлетает в сторону, а я не могу даже закричать.
Куски моей жены падают на камень, кишки шлепаются с влажным чавканьем, словно комья грязи на мостовую. Демон-Берн переступает через безголовое однорукое туловище, вздымаясь над ним, – в карих глазах Шанны отражается голубое утреннее небо, прекрасные губы беззвучно шевелятся, волосы горят каштановым блеском – и, господи боже мой, как мне жить дальше?
Правда, жить мне осталось недолго.
Чучело вздымает над головой меч острием вниз и с силой опускает, будто вгоняя кол в сердце упыря, вот только сердце Шанны валяется в стороне, а исчерченный серебряными рунами клинок пробивает ей переносицу, череп насквозь и втыкается в камень.
На долю секунды лезвие начинает звенеть, будто в память об утекающей сквозь него жизни. Оно на ладонь уходит в камень под расколотым черепом и застревает. Демон отпускает рукоять, и меч легонько покачивается на ветру под водопадом.
– Дддда, – бормочет демон хрустким голосом. – Ддда, вотттт ттакккк.
Я опять не успеваю заметить, как он движется, а чучело уже тут как тут и смотрит на меня, и стеклянные глаза широко распахнуты, словно хотят проглотить меня целиком.
– Дддда, Кейннн. Эттто все пправддда.
Я знаю, о чем он говорит. Знаю, что правда.
Другой на моем месте спросил бы: «Ну почему?!»
А я знаю.
Все это: потеря работы, Эбби, Фейт, отца – и теперь… теперь этот несказуемый ужас – все это случилось не без причины. Причина одна – простая, бесспорная, непростительно эгоистичная. Все потому, что я не мог заткнуться. Потому что я был слишком туп, чтобы прикрыть свою задницу. Потому что мне надо было выпендриться и почувствовать себя мужчиной.
Все сводится, иными словами, к одному…
Я сотворил такое со всеми, кого любил, только ради того, чтобы в последний раз почувствовать себя Кейном.
13
Демон-Берн бережно держит в ладони огромный вздутый член. Взгромоздившись мне на грудь, будто кошмарный всадник, свободной рукой он поглаживает меня по щеке.
– Я тебббя люббблюууу, Кейннн.
Он наклоняется ко мне, словно чтобы укусить. Или поцеловать.
– Я тебббя люббблюуую.
И знаете что? Кажется, он говорит правду.
Меня охватывает странное, неуместное спокойствие, опустошающий пофигизм. Самое жуткое, что мне каким-то неожиданным, рассеянным образом плевать на происходящее. Догадываюсь почему. Я десятки раз видел такое со стороны у получивших тяжелые – обычно смертельные – раны.
Синдром «у меня все в порядке».
Что бы с тобой ни происходило, стоит схлынуть первому шоку, недоверчивому недоумению, как в голову приходит одна и та же мысль: «Могло быть хуже». Всегда кажется, что ты неплохо переносишь случившееся, будь то удар ножом в живот или смерть ребенка. Не удивлюсь, если Шанна умирала с мыслью: «Могло быть и хуже…»
Демон-Берн гладит меня по лицу холодной жесткой ладонью…
Может, отсюда и берется синдром «у меня все в порядке»: это стаи демонов высасывают твое отчаяние, твой ужас, твою скорбь. Может, это имеют в виду люди, когда грустно качают головами и бормочут про себя: «До него еще не дошло…»
Они говорят: «Демоны еще жрут».
Утоляя свой маниакальный голод, бесы оказывают нам большую услугу.
А вот когда они нажрутся – тогда берегись.
Вот поэтому я могу лежать на острых камнях, весь замаранный кровью Шанны, пока брызги водопада оседают на ее кишки, не чувствуя ни бесполезных ног, ни бесполезного сердца, и надеяться только, что чучело прикончит меня, еще не нажравшись.
Ибо я догадываюсь, что будет потом, и эта перспектива нравится мне еще меньше.
Демон-Берн облизывается – и вдруг в щеке его с влажным шлепком появляется круглая дырочка. С другой стороны лица фонтаном брызжут осколки зубов. Вторая пуля пробивает висок, лопается стеклянный глаз. Чучело мотает головой, будто укушенный шершнем жеребец, и над горами разносится дробный звук пороховых автоматических винтовок.
Звучит – как в кино.
И стреляют до отвращения метко: я все надеюсь, что шальная пуля на ладонь разминется с целью и раскроит мне череп, но куда там! Должно быть, палят соцполы – всем известно, что они не мажут.
Пули бьют почти ритмично, с влажными хлопками, будто клакеры на разогреве. Чучело подымается и пятится, дергаясь, как в дикарской пляске. Дойдя до обрыва, тварь размахивает руками и, широко расставив ноги, пытается удержаться на краю, но гремят новые выстрелы, и очередь сметает чучело с обрыва на хрен.
Труп падает, глухо хлопнувшись раз-другой о камни, и исчезает внизу.
А потом я ощущаю, что демон исчез, потому что в груди моей происходит термоядерный взрыв, испепелив сердце и обжигая глотку, и боже, и боже боже господи боже боже…
…боже…
14
Вечность спустя: я плыву в океане желчи, меня качает безнадежно мертвая зыбь. Перед глазами пляшут тени, и слышатся голоса – слабо, просачиваясь из неизведанной, ненужной вселенной за гранью моего мирка боли.