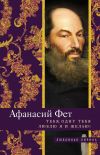Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
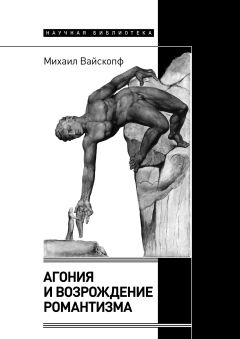
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
«Цветочные спирали»
Недовоплощенность как конструктивный принцип
Сама смерть у него заимствует от жизни характер некой незавершенности, процессуальности, в которой она смешивается с нею[262]262
О «мерцающей ирреальности различия между живым и неживым как в ранних, так и в поздних фетовских ст-ях» см.: Klenin E. Op. cit. Р. 74, n. 36.
[Закрыть] и несет в себе ее остаточные знамения. Так обстоит дело в стихотворении «Грезы» (подсказанном, впрочем, сновидением Толстого[263]263
См. в примеч. Б. Я. Бухштаба: Фет А. А. Стихотворения и поэмы. Изд. 3-е / [Вступ. ст., с. 5–62, сост. и примеч. Б. Я. Бухштаба.] Л.: Сов. писатель, 1986. С. 670.
[Закрыть]): «Мне снился сон, что сплю я непробудно, / Что умер я и в грезы погружен; / И на меня ласкательно и чудно / Надежды тень навеял этот сон. / Я счастья жду, какого – сам не знаю. / Вдруг колокол – и все уяснено; / И, просияв душой, я понимаю, / Что счастье в этих звуках. – Вот оно!» В прочих текстах надгробные звуки может заменять отсвет и отголосок былой жизни: «Может быть, нет вас под теми огнями: / Давняя вас погасила эпоха, – / Так и по смерти лететь к вам стихами, / К призракам звезд, буду призраком вздоха!» («Угасшим звездам»); «Стыдно и больно, что так непонятно / Светятся эти туманные пятна, словно неясно дошедшая весть… / Все бы, ах, все бы с собою унесть!» («С солнцем, склоняясь за темную землю…»).
Однако этой динамике неизменно отвечает встречная готовность к кристаллизации или прояснению образов, к тому мигу, «Как пена легкая начнет приподыматься / И в формы стройные Киприды округляться». Но и само выявление, высветление искомого предмета либо мотива, выступающего из темной сферы бессознательного, в свою очередь, может пробуждать у него зловещие ассоциации, сулящие гибель: «Сердце – Икар неразумный – из мрака, как бабочка к свету, / К мысли заветной стремится».
Для процесса этого становления (Werden у Шопенгауэра) симптоматичны мотивы зацветающего сердца или же цветка, который пробивается из акватических глубин. В мемуарной книге «Ранние годы», написанной вслед за двухтомником воспоминаний (1890) и хронологически их упреждающей, но изданной уже посмертно, Фет рассказывает, как тщетно пытался сочинять стихи еще в школьные годы:
В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность; но в конце концов оказывалось, что стремились наружу одни стебли спиралей, на которых никаких цветов не было. Я чертил на своей аспидной доске какие-то стихи и снова стирал их, находя их бессодержательными (РГ: 115).
Я не знаю, конечно, насколько достоверны эти воспоминания, но, скорее всего, Фету задним числом подсказал их незадолго до того переведенный им Шопенгауэр. Как и в случае с «Грезами», это, так сказать, чужой сон. Вот как соответствующее место выглядит в «Мире как воле и представлении». Речь идет о бессознательно целесообразном стремлении к продолжению жизни в природе:
Когда во время цвета <т. е. цветения> (diöcistiche Valisneria) спиральной Вальсинерии женский цветок развивает спираль своего стебля, который до поры удерживал ее на дне воды, и таким же образом подымается на поверхность в то же самое время мужской цветок, растущий на дне воды на коротком стебле, отрывается от него и достигает, жертвуя собственной жизнью, до поверхности воды, и, плавая по ней, он отыскивает женский цветок, который тотчас, по оплодотворении, посредством сокращения своей спирали, уходит ко дну, где созревает плод (МВП: 166)[264]264
Полужирным курсивом здесь и далее передан курсив оригинала.
[Закрыть].
В 1887-м, то есть опять-таки где-то в период работы над мемуарами или незадолго до нее, Фет уже в стихах изображает свои давние и пугающие его попытки извлечь законченный, проясненный текст-Киприду из непроницаемых стихийных глубин:
В степной глуши, над влагой молчаливой,
Где круглые раскинулись листы,
Любуюсь я давно, пловец пугливый,
На яркие плавучие цветы.
Они манят и свежестью пугают.
Когда к звездам их взорами прильну,
Кто скажет мне: какую измеряют
Подводные их корни глубину?
Знаменательно, конечно, это обращение к непостижимым корням подводного царства, равно чреватого поэзией и смертью. Из той же тревоги в других его произведениях возникают и мотив гибели самого героя в воде, и характерные для Фета образы утопленницы, Офелии, роковой «сирены под водою». Но столь же впечатляет его страх перед соитием, плодоношением, прорезавшийся сквозь вегетативные реминисценции из Шопенгауэра.
Поэтическая индивидуация текучего бытия (или «представление», в терминах Шопенгауэра) для Фета оставалась тревожной проблемой, далеко не всегда поддающейся решению: «И неразгаданные лица / Из пепла серого глядят». Эти лики еще не отделились от родного небытия и всегда готовы в него вернуться. Жизнь фетовских героев может проходить в томительной недосказанности: «Сгорает их жизнь молодая… / Да кто это знает, да кто это выскажет им?». В одном из его стихотворений девушка на лодке уплывает вдаль во мраке бури, однако для лирического субъекта это ее простое исчезновение из поля зрения хуже ее предстоящей гибели: «Как жаль тебя! / Но об одном / Подумать так обидно, / Что вот за мглою и дождем / Тебя не станет видно». Герой стихотворения «Хижина в лесу» блуждает по лесу в морозную ночь, умирая от холода, – пока наконец не находит привычный приют; но знакомый голос и свет, льющийся изнутри, так не собираются в спасительный целостный образ. Никто не явится погибающему путнику:
«О, выйди! Это я!..» Напрасно!..
Я слышу голос, вижу свет, —
Все так безжизненно, бесстрастно:
Ответа нет, привета нет!
Даже в момент витального подъема его лирический субъект и сам нерешительно застывает на пороге собственной индивидуации:
Не меня гнетет волна,
Мысль свежа, душа вольна;
Каждый миг сказать хочу:
«Это я!» Но я молчу.
Эта недовоплощенность или недопроявленность примыкает к более широкому и вообще постоянному его приему, связанному с проблемой модальности. Движение, переданное преимущественно глаголами настоящего времени, обрывается к моменту кульминации, в чем, как известно, и состоит фетовская поэтика мигов или канунов. Дается захватывающее накопление потенциала – но вовсе не его реализация, цепенеющая в преддверии вожделенного апофеоза: «Что за раздумие у цели?» Фетовские стихи перенасыщены знаками такого приближения («Каждый час и каждый миг приближается жених…»), междометиями «вот-вот», «уже», «а уж», «еще не» и пр. Об этом немало писалось, в том числе еще при жизни великого лирика, но лучше всех тему подытожил Фаустов:
Фет нередко как бы «задерживает» событие, не дает ему совершиться, останавливает его в тот момент, когда бытие обладает наибольшей «плотностью», когда оно, по слову П. А. Флоренского, «сдерживает себя и лишь дрожит полнотою» <…> В фетовских стихах чаще изображается не сам экстатический «полет», а его ожидание-заклинание или – воспоминание о нем <…> то есть не само событие, а его «вот-вот»[265]265
Фаустов А. А. «Я» и «Ты» в лирике Фета // 175 лет со дня рождения Фета: Сб. научных трудов. Курск, 1996. С. 209–210.
[Закрыть].
Отсюда же, добавим, и высокая концентрация ключевых слов «рубеж», «порог» уже в совсем ранних, почти дебютных стихах Фета, включая все то же «Когда мои мечты за гранью прошлых дней / Найдут тебя опять за дымкою туманной, / Я плачу сладостно, как первый иудей / На рубеже земли обетованной». Напомним, что иудейский вождь Моисей достиг этой заветной страны, однако так и не сподобился войти в нее, а умер на ее рубеже; впрочем, поначалу не вошел туда и сам народ, наказанный за страхи и неверие многолетними скитаниями по пустыне.
Собственно говоря, это то же самое понятие предела, которого он так стремился достичь в социальной сфере, но полагал недостижимым в сфере лирики.
Темпоральным аналогом пространственной границы предстает у Фета заря, утренняя («На заре ты ее не буди…») или, реже, вечерняя. Показателен и частый мотив невстречи, рокового опоздания, релевантный даже для его обычной жизни: он ведь так и не успел дослужиться до того офицерского чина, которой должен был принести ему чаемое дворянство; и есть какая-то странная символика даже в том, что он умер буквально накануне собственного самоубийства, в ту самую минуту, когда попытался его осуществить.
Правомерно, однако, было бы перенести эти мотивы невстречи в сферу его нерешительной эротики, связав последнюю и с общей проблемой модальности у Фета. Действительно, ведь его сексуальная, а вернее все же асексуальная тематика уже в довольно ранний период живописует сладостные, но совершенно бесплодные обмирания, которые в решающий момент одолевают героя: «Знакомыми напевами томимый, / Стою. В глазах движенье и цветы – / И кажется, летя под звук любимый, / Ты прошептала кротко: „Что же ты?“ («Вчера я шел по зале освещенной…», 1857); а в его поздней лирике доминирует игра взамен обладания, тактика откладывания, оттягивания: «Ступенями к томительному счастью / Не меньше я, чем счастьем дорожу <…> / Мой поцелуй, и пламенный и чистый, / Не вдруг спешит к устам или щеке; / Жужжанье пчел над яблоней душистой / Отрадней мне замолкнувших в цветке». Прибегая к более грубому или более точному определению, нам придется сказать, что по большей части любовь у Фета не доводится до соития или же соитие не доходит до оргазма.
Дело тут не только в возрасте: его уклончивая асексуальность вообще вторит доминирующей тенденции русской культуры, как бы критически Фет к ней ни относился. Эпатажно восхваляя половую жизнь природы в полемических письмах, он всячески осмеивал асексуально-аскетическую дидактику Толстого, нагнетавшуюся тем в «Крейцеровой сонате» и других вещах, – но, похоже, в разительном отличие от самого прозаика, Фет оставался скорее вдохновенным теоретиком, нежели практиком секса.
Не зря в его лирике изображение эротического блаженства нередко сводится к сновидению или сонной грезе: «И во сне только любит и любит, / И от счастия плачет и спит! <…> / Роза! Песни не знают преграды: / Без конца твои сны, без конца!» Впору припомнить лермонтовскую картину чаемого живого сна-забытья, навевающего вечную любовь под землей.
Так или иначе, вся эта разлитая в фетовской лирике неприязнь к законченной определенности сюжетных решений пересекается с эстетическими установками автора, чисто романтическими по своей сути. «Поэзия, – пишет он, – это не сами вещи, а только возможность вещей». Правда, вслед за Шопенгауэром он при случае воспевает и недвижную в ее ахронной и внепространственной всеобщности платоновскую идею артефакта, запечатленную в совершенном художественном – например, пластическом – образе; но применительно к поэтической работе самого Фета этот желанный предел, как правило, достижим с его точки зрения лишь в безукоризненной отделке стихотворения и в достовернейшем показе самих его реалий. Вне этого круга воплощение, бытийность отведены у него для житейской прозы – для карьеры, труда и долга; зато в лирике навсегда сохранен упоительный и страшный простор именно для возможностей – без какого-либо их профанного разрешения. Цветочная спираль так и не прорастает из толщи вод.
Подлинную и завершенную реализацию личности приоткрывает только смерть: «Как лик усопшего светить / Душою лучшей начинает! / Не то, чем был он, проступает, А только то, чем мог он быть». Это была его автоэпитафия, стихи о самом себе – «На пятидесятилетие музы». Так же, кстати сказать, оценивал он и христианство – в тех редких случаях, когда отзывался о нем положительно: оно слишком прекрасно для нашей убогой юдоли, а потому навеки должно остаться нетленным идеалом, пребывающим за ее пределами.
Если бы Фету поручили управлять библейским раем, грехопадения никогда бы не состоялось, ибо его Ева вечно цепенела бы в умиленном предвкушении соблазна. Скорее всего, впрочем, не было бы и самой Евы – поскольку Адам так и пребывал бы во власти сонной грезы о грядущей супруге.
Взаимообратимость лирического субъекта и объекта, снятие дихотомий
Знакомство с философией Шопенгауэра, по словам Фета, «было для него радостным узнаванием и углублением лично добытого и лично пережитого»[266]266
См. Курляндская Г. Б. Философские мотивы в поздней лирике Фета // Контекст 1988. М., 1989. С. 104.
[Закрыть]. Конечно, личность поэта в ее глубинных пластах сложилась задолго до обращения к Шопенгауэру и, скорее всего, даже задолго до Верро. О несокрушимой стабильности его характера в известном письме вспоминал прекрасно знавший его Полонский, и у нас нет оснований не верить самому Фету, когда он признавался великому князю Константину Константиновичу за год до смерти: «…я с первых лет ясного самосознания нисколько не менялся, и позднейшие размышления и чтение только укрепили меня в первоначальных чувствах…» (ЛН 2: 922). Но стабильность могла заключаться и в постоянной духовной раздвоенности, если не раздробленности, для которой внешняя цельность служила прочным экзоскелетом.
В конечном счете метафизика Фета – это переменчивая мешанина неуверенного атеизма и агностицизма с зачаточным буддизмом, брахманизмом и призраками других недооформленных конфессий[267]267
Э. Кленин в своей капитальной книге говорит как о его атеизме, так, с другой стороны, и об основательном усвоении им протестантской теологии и библейских цитат, вынесенном из немецкой школы в Лифляндии: Klenin E. Op. cit. Р. 72–73, n. 29.
[Закрыть]. Среди последних доминирует довольно иудаизированная версия лютеранства, но к ней противоречиво примыкает антииудейски-маркионитская ересь, которая, в свою очередь, сплетается, как и у Шопенгауэра, с ведантой. Мысль о всеединстве природы, о постоянном сочетании и динамической борьбе противоположностей у обоих несет отпечаток немецких натурфилософских воззрений (Беме, Шеллинг, Гегель), прослеживаемых, в свою очередь, к Гераклиту, неоплатонизму, стоицизму – и, разумеется, все к той же вездесущей индийской мистике: Индия вообще входила в сакрально-экзотический континуум немецкой преромантической и романтической культуры.
Его этические дефиниции, вообще говоря, вязнут в противоречивой софистике. Подробно рассуждать о них, пожалуй, не стоит, но напомним все же, что его сбивчивость в этом вопросе вторит довольно путаной позиции Шопенгауэра-моралиста. У обоих основания этики состоят в прикровенном родстве с иудеохристианской традицией – и одновременно пренебрежительно ее оспаривают.
В 1884-м, еще до публикации ницшевского «По ту сторону добра и зла», Фет написал стихотворение «Добро и зло», которое готовил в ходе интенсивной полемики с Н. Н. Страховым и которое он включит в «Вечерние огни». В последних его строфах он отверг библейскую дихотомию из Быт. 3: 19, 22–23:
Но если на крылах гордыни
Познать желаешь ты как бог,
Не заноси же в мир святыни
Своих невольничьих тревог.
Пари всезрящий и всесильный,
И с незапятнанных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадет.
Воспаряя над ветхозаветной моралью в экстазе люциферианской гордыни, парадоксально роднящей его с божеством[268]268
Для эпохи символизма весьма показателен будет комментарий Никольского, педалирующий гностическую подоплеку фетовских стихов, где критик сумел распознать специфическое «изобличение древнего искусителя» – библейского змея (все же напрямую не упомянутого у Фета). Согласно этой колоритной экзегезе – наглядно контрастирующей с Быт. 3: 22, – змей «солгал: божественное познание не включает в себя добра и зла: добро и зло знает только наша земная воля, которая была изгнана в мир из блаженства умозрения». Красоте же неведомы моральные антитезы (Никольский Б. В. Основные элементы лирики Фета // Фет А. А. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. СПб.: Изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1912. Т. 1. С. 42–44.
[Закрыть], лирический герой текста вместе с тем разительно напоминает тут Брахмана из упанишад, отрясающего с себя
добрые дела и злые дела <…> И подобно тому, как мчащийся на колеснице смотрит сверху на два колеса колесницы, так и он смотрит на день и ночь, на добрые дела и злые дела, и на все пары [противоположностей][269]269
Сыркин А. Я. Упанишады / Пер. с санскрита, коммент. и прил. А. Я. Сыркина. 3-е изд., испр. М.: Вост. лит., 2003. С. 506–507.
[Закрыть].
Надо ли говорить, что жестокие максимы такого свойства на практике всегда корректировались у Фета социальной совестливостью и заботливой, тщательно продуманной филантропией?
Как всякий приверженец гносеологии Канта[270]270
В конце 1877 года Фет даже вознамерился было перевести «Критику чистого разума», но вместо нее вскоре занялся переводом Шопенгауэра.
[Закрыть], в своей философской критике он выглядит значительно сильнее, чем в положительных построениях, где его мысль к тому же продвигается экзотическими рывками: каждое ее звено вроде бы рационально выверено – но не сковано с последующим, а наспех к нему приклеено. Именно опущенные или как-то скороговоркой забормотанные звенья, собственно, и подрывают убедительность этой философской аргументации. Порой кажется, будто вдохновляющим ориентиром для его размашистых силлогизмов служит сама же шопенгауэровская Воля, неисследимая причина и самоцель всего сущего, которая как «вещь сама по себе» неподвластна нашим логическим земным дефинициям. Тем не менее почитаемый им Шопенгауэр, при всех его противоречиях, выглядит несравненно последовательнее и понятнее своего русского адепта.
За эту хаотичность упрекал друга и Страхов[271]271
ЛН 2. С. 261. Отвечая 27 сентября 1887 года на одно из его писем, Страхов тоже ставит корреспонденту на вид «сивиллинскую загадочность многих мест» (Там же. С. 422). Впрочем, крайне сбивчивым был и синтаксис поэта, а подчас и его фонетика, которая наглядно удерживала черты «южного говора», «позволявшего ему рифмовать пух и друг», как отмечает Никольский в предисловии к Полному собранию сочинений Фета, изданному в Санкт-Петербурге в 1901 году (С. XXXIII). Неудобочитаемостью страдал даже его почерк, на что однажды попенял в ответном письме к нему Толстой (а сам Фет сетовал на свою «какографию»).
[Закрыть] – весьма заурядный, но все же профессиональный философ. Так, в конце 1878 года, откликаясь (вместе с Толстым) на присланную ему статью Фета «Наша интеллигенция», он сетовал:
С одной стороны, Вы впадаете в отвлеченность, в философские выводы и прибегаете к самым трудным научным терминам; с другой – Вы ничего не доказываете, не соблюдаете никакого порядка (кроме внутренней связи мыслей) <…> Я отметил сбоку чертою карандаша некоторые места, особенно страдающие непонятностию и неточностию; но, признаюсь, готов был часто тянуть эту черту по целым страницам.
Действительно, отрывочные максимы перемежаются у Фета голой эмоцией или запальчивой метафорикой, компенсирующей отсутствие связности. Аргументы он по вдохновению черпает то из житейских, то из умозрительных, то из биологических, то из религиозно-этических сфер – и всюду перескакивает с пятого на десятое[272]272
Разбухший образчик такой мешанины мы найдем, например, в его письме Н. Н. Страхову от 5 февраля 1880 года (ЛН 2. С. 301–302) и, что более удивительно, в послесловии к переводу Шопенгауэра (Русское обозрение. Вып. 1. М., 1901. С. 274–280).
[Закрыть], так что острова здравого смысла накрывает прибой громокипучей невнятицы. Все это тем более странно, что сам он, вслед за Шопенгауэром, сторонником ясности, проповедовал неукоснительную логичность[273]273
Ср.: «…Я чувствовал природное отвращение к предметам, не имеющим логической связи» (РГ. С. 171). Там же, на с. 115, он почтительно цитирует напутственную речь Крюммера о том, что «умственной зрелости можно достигнуть только постепенным упражнением в логическом понимании природы вещей, понимании, в котором небрежный пропуск одного связующего звена делает всю дальнейшую работу несостоятельной».
[Закрыть] и четкую классификацию принципов – а в статье «Наши корни» (1882) взывал к европейской рационалистической традиции: «Западный ум, приученный долгим трудом к сознательному мышлению, не поддается смешению разнородных понятий»[274]274
Фет А. А. Наши корни: Публицистика. СПб.; М.: Содружество «Посев», 2013. С. 195. Далее в самом тексте – НК.
[Закрыть]. Страхова он любил и уважал настолько, что в письме от 14 мая 1879 года свой лирический панегирик Т. А. Кузминской: «И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, Тебя любить, обнять и плакать над тобой» (из стихотворения «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…») – по существу, перенес на него: «Не писать, а видеть Вас, обнять и говорить с Вами хочется, дорогой Николай Николаевич» (ЛН 2: 277). Фет внимательно прислушивался к его суждениям, когда они касались поэзии, но на его мировоззренческую позицию, как и на ее изложение, они почти не влияли.
Смысловые лакуны и метания присущи также его мемуарной прозе, где они камуфлируются, однако, блеклой монотонностью стиля, почти лишенного, как часто подчеркивают, внутренней иерархии и избегающего эмоциональных акцентов в хронике событий, а вернее, молчаливо подсказывающего их суть. Страхов сетовал и на присущий этим воспоминаниям такой же «недостаток ясности – недостаток, мешающий самым высоким достоинствам» (ЛН 2: 465). То же касается его писем, которые, по замечанию А. Е. Тархова,
от молодых лет и до старости отличались одной характерной и часто неожиданной и устойчивой особенностью: это была «многотематичность» – свободный и часто неожиданный переход от одной темы к другой, «каскад» самых разнообразных событий, чувств, мыслей, забот (ЛН 1: 545).
Оставаясь в повседневной жизни черствым прагматиком, он в своей лирике, особенно поздней, всегда готов рассеяться в чужой эмоции, восторженно утратить себя, стать чьим-то отблеском, «шаткой тенью за крылом». Можно было бы в придачу указать у него на чуть различимую ноту реинкарнации[275]275
Ср. в последней строфе стихотворения «Бал» (1857): «Чего хочу? / Иль может статься, / Бывалой жизнию дыша, / В чужой восторг переселяться / Заране учится душа?»
[Закрыть] или на контурную тему скользящего «я», которое легко меняет свою субстанциальное ядро либо вообще отрекается от себя.
Если прихотливая ассоциативность и недосказанность его философских экскурсов разъедали их логическую стройность, то в поэзии именно эти пороки обернулись бесстрашным новаторством, раздражавшим современных ему читателей и предвещавшим достижения русских символистов. Его стихам присущ был точнейший показ реалий при завораживающей неопределенности их сопряжения, что давно отметил такой классик фетоведения, как Б. Я. Бухштаб[276]276
См. в его вступительном очерке к сборнику Фета «Стихотворения и поэмы», вышедшему в серии «Библиотека поэта» (Л., 1986. С. 44).
[Закрыть]. Фрагментарность логики возмещалась зато эллиптичностью лирики – хотя та во многом санкционировалась влиянием обожаемого им Гейне, которое сам Фет признавал очень охотно и о котором свидетельствует, в частности, нередко цитируемая фраза:
Никто в свою очередь не овладевал мною так сильно, как Гейне, своей манерой говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения в общей картине, например, плачущей дочери покойного лесничего и свернувшейся у ног ее собаки (РГ: 209).
Одно дело – «чувствовать» невысказанные соотношения в напоре псевдорациональной полемической аргументации и совсем другое – в суггестивной поэзии Фета.
Полярные или разнопланные мотивы создают у него ошеломляющее сочетание трудноуловимых нюансов, ведущих между собой прикровенную интригу, суть и смысл которой проецируются куда-то вовне, в иное измерение, по большей части ускользающее от отчетливой фиксации либо называния: «И не нужно речей, ни огней, ни очей – Мне дыхание скажет, где ты»; «Я тебе ничего не скажу, И тебя не встревожу ничем…»[277]277
См.: Фаустов А. А. Указ. соч. С. 209–211. В этой краткой и ценной работе убедительно прослеживается то неизбывное сопряжение двух планов поэзии Фета, которое в терминах Шопенгауэра следовало бы истолковать как соотношение мира явлений, каузальных и ограниченных в своей преходящей индивидуальной данности, и трансцендентной бездонной воли, не знающей никаких разделений.
[Закрыть] А если заветное слово и произносится, то где-то уже за гранью самого текста, как бы беззвучно для читателя:
Все, что хранит и будит силу
Во всем живом,
Все, что уносится в могилу
От всех тайком,
Что чище звезд, пугливей ночи,
Страшнее тьмы,
Тогда, взглянув друг другу в очи,
Сказали мы.
Любое воодушевление может отдавать собственным негативом: «И чем-то горьким отзывался избыток счастия и сил…» И внешняя, и внутренняя данность нередко изображается лишь маревом, струением полутонов, шопенгауэровски-буддистским покрывалом Майи. Мир – томительный поток переменчивых иллюзий, «только сон мимолетный», как сказано в одном из самых знаменитых его стихотворений «Измучен жизнью, коварством надежды…»[278]278
О датировке стихотворения см. Генералова Н. П. Заметки текстолога // А. А. Фет: Материалы и исследования. Вып. I. С. 93–96.
[Закрыть], снабженном эпиграфом из Шопенгауэра – из его «Paregra und Paralipomena», где говорится о жизни как общем для всех сновидении (у стихов есть, однако, значительно более внушительный шопенгауэровский аналог[279]279
Шопенгауэр А. МВП. С. 335. Ср. также с. 409.
[Закрыть]). Но в фетовских строфах воспеты и «звезд золотые ресницы» – «вечная дума» небес, – и вечно пламенеющее средоточие вселенной, «солнце мира»:
И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный,
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный.
И этих грез в мировом дуновеньи
Как дым несусь я и таю невольно,
И в этом прозреньи, и в этом забвеньи
Легко мне жить и дышать мне не больно.
Что здесь важнее: блаженное саморастворение лирического субъекта («таю невольно») или, напротив, обретаемая им способность «жить и дышать», «прозренье» или «забвенье», сон или явь? Иллюзорно ли для него само это «солнце мира», сам этот космос – «живой алтарь мирозданья», само это мирозданье, наконец? Мы этого не знаем, как не знал, вероятно, и автор.
Текст, имеющий довольно сложную предысторию, предположительно датируется 1864 годом. Насколько известно, Фет еще не читал тогда главного труда Шопенгауэра, однако здесь он ближе к тому двусмысленному месту трактата, которое я анахронистически передаю в его последующем переводе. Если мир лишь представление,
он должен бы проходить перед нами как несущественный сон или как воздушный призрак, не заслуживающий нашего внимания; или же он, напротив, не есть ли он еще нечто другое, нечто сверх того (МВП: 101)[280]280
Ср.: Шопенгауэр А. МВП. С. 285: индивидуумы «возникают и исчезают, как мимолетные <…> проявления того, что само по себе не знает времени».
[Закрыть].
Под этим «другим» философ подразумевает непостижимую волю, ее потустороннюю реальность, уловляемую художниками и поэтами сквозь пелену иллюзий.
В более позднем стихотворении «Когда Божественный бежал людских речей…» («Искушение»; втор. пол. 1876) Фет полемически актуализирует то место Нового Завета, где дьявол в пустыне тщетно испытует Иисуса, предлагая ему «все царства мира и славу их», если тот, «пав, поклонится» ему (Мф. 4: 1–11). Между тем у Фета, в отличие от Евангелия, сатана действует на манер материалистов или плоских позитивистов базаровского пошиба:
Признай лишь явное, пади к моим ногам,
Сдержи на миг порыв духовный —
И эту всю красу, всю власть тебе отдам
И покорюсь в борьбе неровной!
Но «Божественный» отвергает его посулы, которые здесь, впрочем, вконец обессмысливаются: если Иисусу предложено, пусть даже «на миг», пасть к ногам искусителя, как же тот, собственно, собирается Ему «покориться»? В любом случае спор, как и в Писании, завершается посрамлением сатаны, вынужденного покинуть Иисуса (названного, в отличие от оригинала, лишь «Божественным», но не «Сыном Божьим»; об этом принципиальном различии см. ниже).
Однако в этом своем центральном пункте коллизия подсказана была именно книгой Шопенгауэра «О воле в природе»[281]281
Шопенгауэр А. О воле в природе. Исследование подтверждений со стороны эмпирических наук, полученных философиею автора со времени своего появления / Пер. А. А. Фета. М.: Тип. А. И. Молоствова, 1892. (Далее: ОВП.)
[Закрыть] (переведенной Фетом еще позднее, чем «Мир как воля и представление»), вернее одним из ее иллюстративных пассажей. Философ приводит описание религиозной – но при этом атеистической – комедии, которую «при больших торжествах» исполняют «в Тибете, столице буддистской религии» и в которой представлен спор далай-ламы с верховным дьяволом:
первый защищает идеализм, второй реализм, причем, между прочим, он говорит: «Что воспринимается пятью источниками всякого познания (чувствами), не обман, и то, чему вы учите, неправда».
Дьявол-реалист проигрывает этот спор – и, посрамленный, изгоняется (ОВП: 121–122). Остается уточнить, что его поражение несет тем не менее радикально иной смысл, чем в Новом Завете: оно доказывает, что наш мир всего-навсего иллюзия, сонное марево. Характерно, что и в индуистской традиции демоны-асуры выступают в роли материалистов[282]282
См.: Сыркин А. Я. Упанишады / Пер. с санскрита, коммент. и прил. А. Я. Сыркина. 3-е изд., испр. М.: Вост. лит., 2003. С. 46–47.
[Закрыть].
Всегда отмечалось, что поэзию Фета, при всей точности ее образного ряда, заполняет вместе с тем аура колеблющихся и взаимозависимых реалий, почти галлюцинаторной зыбкости или взаимопроникновения лирического субъекта и объекта[283]283
Кленин в этой связи указывает на байронические аналоги в «Чайлд-Гарольде»: Op. cit. S. 74, n. 43. О взаимотождественности или взаимопереходе метафизического верха и низа («тайной бездны»), субъекта и объекта у Фета, а равно о его влечении к хтонике см.: Фаустов А. А. «Я» и «Ты» в лирике Фета // 175 лет со дня рождения Фета: Сб. научных трудов. Курск, 1996. Ср. содержательную работу: Козубовская Г. П. Поэзия А. Фета и мифология: Учеб. пособие к спецкурсу. Барнаул; М.: БГПИ, 1991. С. 92–93.
[Закрыть]. В ряде сочинений они просто рокируются – ср. такую инверсию и симметрическую смену точек зрения, например, в стихотворении «Свеча нагорела. Портреты в тени…». А в «Романсе» («Угадал – и я взволнован…) «я» вообще утрачивает субстанциальность: «Ты ли, я ли, или сон?» – и влюбленный мальчик восторженно глядит на себя чужими глазами: «Боже, Боже, как, однако, / Мне завиден жребий мой!»
В плане философского генезиса наиболее загадочный пример подобного взаимоперетекания лирического субъекта и объекта предлагает лишь посмертно напечатанный «Неотразимый образ»; но там же дан и запечатленный, застывший объект, отторгнутый от самого себя. Комментаторы датируют эти стихи приблизительно 1856 годом – по месту в тетради. Перед тем как их процитировать, следует вновь затронуть эстетические разделы шопенгауэровского МВП (подхватывающие, правда, общеромантическую традицию). Там говорится, что поэт, художник или ваятель, приступая к творческому деянию, уже априорно созерцает в самом себе идею природы – неизменную и совершенную, – именно ту идею красоты, которую таит в себе избранный им предмет: ибо, замечает Шопенгауэр со ссылкой на Эмпедокла, «только природа может понимать самое себя; только природа проникает в самое себя; но также и только духом может восприниматься дух» (МВП: 229). Эмпирическая же реальность изменчива – она разъедает и деформирует то, что постигается гением a priori.
Принято считать, что с МВП Фет ознакомился гораздо позже, в 1869 году (то есть лет за десять до того, как приступил к ее переложению). «Неотразимый образ» заставляет, мне думается, усомниться либо в первой, либо во второй из этих датировок.
Стихотворение дает как бы систему наведенных друг на друга магических зеркал. Тождество субъекта и объекта созерцания проецируется на былую любовь, нетленную в памяти лирической героини, от лица которой говорит автор. Предполагается, что под ней подразумевается его возлюбленная Мария Лазич, трагически погибшая в 1850 году, – хотя для умершей она наделена все же слишком ощутимыми чертами непреходящей жизненности и духовного напряжения (не исключен, впрочем, и запоздалый отзвук балладной практики Фета). В итоге здесь запечатлена горестная ностальгия героини по самой себе в юности[284]284
См. соответствующее примеч. Бухштаба: Фет А. А. Стихотворения и поэмы. Изд. 3-е. М., 1986. С. 695. В своей книге он говорит об этом подробнее: «Стихи написаны от лица женщины, но по своей тональности они близки стихам, вдохновленным памятью о Лазич, – и можно подумать, что и эти стихи внушены поэту теми же переживаниями». Возможно, «Фет представляет себе Марию оставшейся в живых, представляет себе те чувства, которые она испытывала бы, мысленно обращаясь к нему» (Бухштаб Б. Я. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л.: Наука, 1990. С. 86–87).
[Закрыть]:
В уединении забудусь ли порою,
Ресницы ли мечта смежает мне, как сон, —
Ты, ты опять стоишь передо мною,
Моих весенних дней сияньем окружен.
Все, что разрушено, но в бедном сердце живо,
Что бездной между нас зияющей легло,
Не в силах удержать души моей порыва,
И снова я с тобой – и у тебя светло.
Не для тебя кумир изменчивый и бренный
В сердечной слепоте из праха создаю;
Мне эта даль мила: в ней – призрак неизменный —
Опять чиста, светла я пред тобой стою.
Ни детских слез моих, ни мук души безгрешной,
Ни женской слабости винить я не могу.
К святыне их стремлюсь с тоскою неутешной
И в ужасе стыда твой образ берегу.
У Шопенгауэра говорится о превосходстве творца над историком, – мысль, очень близкая и самому Фету, видевшему в истории лишь невнятное чередование эпизодов. То или иное явление либо действующее лицо, утверждает философ, в исторических хрониках вплетается в общую вереницу событий и, подпадая в зависимость от их произвольного и переменчивого контекста, облюбованного историком, теряет свою неповторимую сущность. Тем самым «оригинал картины» исчезает, а «идея человечества» нивелируется. Иное дело поэт, который, схватывая в подвижной эмпирике априорную «идею» предмета, вдохновенно воплощает в ней и собственную умопостигаемую личность:
<…> то, что перед ним объективируется, есть сущность его собственного я: как изъяснено выше по поводу скульптуры, его сознание наполовину априорно: его образец стоит перед его духом, незыблем, ясен, ярко освещен, не может его покинуть: поэтому в зеркале своего духа он показывает нам идею в чистоте и ясности, и ее изображение до мельчайших подробностей истинно, как сама жизнь (МВП: 254).
В «Неотразимом образе» изменчивость приписана созданному одинокой женщиной «бренному кумиру» (удержан шопенгауэровский мотив ваяния), который в странной оптике текста становится, однако, лишь каким-то вспомогательным зеркалом для ретроспективного и сияющего самоотражения героини, вернее ее незыблемой сущности. Фетовский перевод Шопенгауэра очень точен[285]285
Ср. в оригинале: …das Wesen seines eigenen Selbst ist es, was sich in ihr ihm objektivirt: seine Erkenntniß ist, wie oben bei Gelegenheit der Skulptur auseinandergesetzt, halb a priori: sein Musterbild steht vor seinem Geiste, fest, deutlich, hell beleuchtet, kann ihn nicht verlassen: daher zeigt er uns im Spiegel seines Geistes die Idee rein und deutlich, und seine Schilderung ist, bis auf das Einzelne herab, wahr wie das Leben selbst.
[Закрыть] – и тем знаменательней почти буквальное его совпадение с процитированными стихами: «Призрак неизменный – Опять чиста, светла я пред тобой стою».
Тем не менее «Неотразимый образ» в целом окутан аурой томительной неопределенности, препятствующей его полной расшифровке – даже если бы нам удалось датировать его с оптимальной точностью. Но эта неопределенность странно гармонирует с основными апориями фетовской мысли.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.