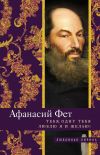Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
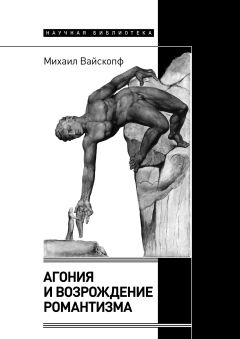
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Эстетика утилитаризма и утилитаризм эстетики
Расхожая истина гласит, что внутренняя контроверсальность – органическое свойство настоящих писателей. Фет, однако, доводит ее до гротескного совершенства.
Среди прочего, ему в высшей степени присуща была именно та раздвоенность, которую Андре Моруа в книге о Дизраэли называл главным свойством «восточного человека»: стремление к достатку и земному благоденствию – но одновременно обостренное ощущение их бренности пред лицом смерти. В принципе, здесь возможен был разве что тот компромисс, к которому Фет в октябре 1879 года звал Толстого, уже расположенного к аскетическому опрощению:
Восток и Шопенгауэр хоть на высоте самоотрицания воли и видят тщету земного, но из этого никак не выводят, что, живя на земле, надо на нее махнуть рукой. Они очень твердо знают, что нельзя быть дворянином, когда нет двора, домохозяином без дома, садовником без сада и т. д.
В его жизнестроительный ряд входит и беспримерное трудолюбие, и «лирическое хозяйство», и любовь к природе, соперничающая с любовью к искусству. С другой стороны сюда же примыкают его публицистика, судейская деятельность, а также, особенно в поздние годы, назойливое влечение ко двору и вельможным сферам: ведь это была, так сказать, сама жизнь в ее высочайше утвержденном проявлении.
В одном из поздних писем к Толстому, которое датируют началом сентября 1879 года, Фет, апеллируя к Шопенгауэру, объяснил суть своего «созерцательного познания»:
Дерево – не на дрова или поделку, а дерево само для себя – искусство для искусства <…> Поэтому жизнь только та гармонична и достойна, где человек что-нибудь любит для самой вещи, а не для себя. Низкие бабки, хорошую хлесткую цезуру, «один предмет», детей за их округло пухлые ручонки, землю за хорошее удобрение и разделку, а не потому, что дадут больше денег на глупости.
Вместе с тем его дерево само для себя напоминает и знаменитое кантовское понятие вещь сама по себе – Ding an sich selbst (традиционный перевод – «вещь в себе»). В этой его любви к предмету как самоцели заметно и типологическое схождение с эстетикой Канта, изложенной в «Критике способности суждения», где постулировались критерии прекрасного, унаследованные вскоре немецким романтизмом и тем же Шопенгауэром: красота есть внутренняя целесообразность предмета, вызывающая незаинтересованное (то есть лишенное внешней, прикладной цели) удовольствие. Но у Фета есть здесь и своего рода онтологический импульс – та любовь к совершенству и эйдосу либо идее в шопенгауэровском ее понимании, о которой он тоже пишет Толстому: «Мне приятно видеть хорошего мужика или министра, потому что в них сказывается идея в ее полноте, а не в возмутительной пародии» (Пер. 2: 81–82).
Гораздо раньше, в статье 1867 года «Два письма о значении древних языков», обращенной против его эстетических и политических оппонентов, он переносил тот же принцип на природу: «Для культуры в форме науки и искусства дорог только дуб для дуба, а не дуб – носитель желудей». Там же Фет привел впечатляющий (по крайней мере, для неспециалиста) пример:
Вы разводите плодовый сад. Кажется, дело и цель его ясны. Вам хочется собирать плоды. Плодовые деревья по природе некрасивы <…> Единственное спасение и здесь – искусство для искусства, дерево для дерева, а не для плодов. Выводите здоровое и непременно красивое дерево (красота – признак силы)[286]286
Правда, там же (С. 35–36) он дает удивительно бессвязное, как у него нередко случается, рассуждение о мнимой хитрости лисицы, которая якобы доказывает также другое тождество – «истины и пользы».
[Закрыть] и не только забудьте о плодах, но сопротивляйтесь их появлению, упорно обрывая цветы. Дождетесь превосходных плодов. Вы можете действовать в совершенно противоположном смысле, усиливая и подстрекая плодоносность, – но убьете деревья и навсегда останетесь без плодов (НК: 34, 36)[287]287
Наши корни. С. 34, 36. Любопытно, что поздний Гоголь, впавший в сплошной утилитаризм, предпочел обратное решение – у него скорее красота производна от пользы, а не наоборот. Ср. предостережения его идеального помещика Костанжогло: «Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придет». В этом смысле настоящим романтиком из двух этих писателей остался именно Фет.
[Закрыть].
Так чистое искусство, яростно обличаемое нигилистами и позитивистами за его бесполезность, трансформируется у него в социально-экономическое жизнестроительство.
Через много лет, в предисловии к переведенному им «Фаусту», он снова резюмирует, уже со ссылкой на Дарвина (то принимаемого, то отвергаемого им под чужим влиянием):
Несомненная связь всемирной красоты с самосохранением природы с достаточной ясностью указана Дарвиным <…> Не только известные формы, но и красота этих форм, разлитая по всей природе, необходимы в ее целях[288]288
[Фет А. А.] Предисловие и комментарии ко II-й части «Фауста» Гете / Публ. Н. П. Генераловой // 175 лет со дня рождения А. А. Фета: Сб. научных трудов. Курск, 1996.
[Закрыть].
Как видим, у Фета не только польза служит красоте, но и наоборот.
Под углом раскрепощения крестьян грядущие судьбы народного творчества напрямую, чуть ли не на марксистский лад, поначалу оптимистически предопределялись у него новыми социальными условиями – ибо прямая зависимость культуры от экономики, как ни странно, очень характерна для этого поборника чистого искусства. Твердым социальным статусом как гарантом свободы было обусловлено в его глазах само полноценное бытие человека: «Только сознание законных препятствий и связанных с ними прав дает то довольство, тот духовный мир, который составляет преимущество свободного перед рабом», – писал он в 1862 году[289]289
Фет А. А. «Из деревни» // Фет А. А. СиП. Т. 4. С. 138. Об этих очерках см. содержательную статью: Кошелев В. А. «Лирическое хозяйство» А. А. Фета // Там же. С. 474–504.
[Закрыть]. Добьется ли этого «духовного мира» родная страна? Он поверил тогда, что с отменой крепостного рабства уйдет в прошлое чуждая и неприятная ему заунывность народного пения, подмеченная еще Пушкиным. Эстетика преобразится вместе с экономикой:
Дай Бог, чтобы русские крестьяне поскорее <…> почувствовали потребность затянуть новую песню. Эта потребность сделает им трубы, вычистит избу, даст человеческие постели, облагородит семейные отношения, облегчит горькую судьбу бабы, которая напрасно бьется круглый год над приготовлением негодных тканей, тогда как их и лучше, и дешевле может поставить ей машина за пятую долю ее труда; явятся новые потребности, явится и возможность удовлетворить их (НК: 156).
Перед нами занятный образчик типологического сближения этого приверженца капитализма с марксизмом, – хотя, разумеется, без агрессивного и спесивого мессианства последнего. В глазах Фета экономика – пресловутые «производственные отношения» – еще теснее, чем у Маркса, связана с культурой (пресловутой «надстройкой»), вернее, даже напрямую сливается с ней (как будет потом в советской культурологии 1920-х годов). Сходство обусловлено общей приземленностью социального горизонта и, в частности, полным отсутствием в обоих случаях народнической, помещичьей или даже романтической сентиментальности по отношению к земле. В 1863 году Фет писал: «Теперь всякий понимает, что фермерское хозяйство такое же чисто коммерческое предприятие, как фабрика, завод и т. д.» (СиП, 4: 209). Через два десятилетия одну из глав своей программно-ретроградной в остальном статьи «На распутии» (1884) он назвал, буквально на манер «Капитала», «Земля как орудие производства», высказав в ней мысли, достаточно близкие к Марксовой теории стоимости и, безусловно, нацеленные как против народников, так и против усадебных архаистов. Ценность земли определяется в первую очередь трудом, вложенным в нее – или требующим вложения (сходные высказывания, правда, встречались и у Шопенгауэра). Фет заявил, в частности:
Сильно ошибаются люди, желающие по отношению к земледелию видеть в земле стихийное начало с водою, огнем и воздухом;
Конечно, и земельная собственность, наравне со всякой другою, способна быть капиталом, но это не лишает ее качества орудия наравне с расширенным орудием – фабрикой (НК: 277–278)[290]290
См. также комм. Н. П. Генераловой к переписке Фета с Н. П. Семеновым: А. А. Фет. Исследования и материалы. Вып. II. СПб.: Контраст, 2013. С. 608.
[Закрыть].
В 1883 году, на фоне их уже заочной полемики с Л. Толстым о христианстве, он в указанном предисловии к «Фаусту» решительно оспаривает мораль толстовского рассказа «Чем люди живы» – веру автора в «любовь к ближнему» как исконное общечеловеческое свойство. По мнению Фета, толстовские герои остались живы вовсе не «любовью», а трезвостью и работой – «если не прямо трудом, то накопленным чужим трудом – капиталом». Это звучит чуть ли не прямой цитатой из Маркса – с поправкой на пиетистский культ труда.
Во избежание недоразумений нужно уточнить, что, несмотря на подобные схождения, социализм Фету бесконечно враждебен. В более ранней (1878) и программной статье «Наша интеллигенция» целая глава – «Сущность коммунизма» представляет собой переведенный им отрывок из трактата прусского правоконсервативного, но очень чуткого к новым веяньям барона Людвига фон Штейна[291]291
См. комментарий Г. Д. Аслановой и В. И. Щербаковой: НК. С. 423.
[Закрыть], предостерегавшего о коммунистической угрозе, заложенной в развитии и консолидации пролетариата. Книга Штейна вышла в 1848-м, одновременно с «Манифестом Коммунистической партии», и содержала немало сходных, но весьма тревожных выводов, привлекших внимание Фета. Сам этот выбор материала для перевода говорит о его здравом смысле и проницательности[292]292
Ср. в его изложении: «Коммунизм возможен только в пролетариате <…> Все, что совершается в пользу пролетариата, улучшения его положения и его общественного возвышения, вместе с тем совершается против коммунизма, его распространения и его опасности. Не в глупостях коммунизма заключается его сила: она лежит в вызываемом им убеждении, что положение может быть улучшено не доброю волею имущих классов, но только уничтожением всего существующего» (НК. С. 144). «Социализм и коммунизм, – заключает Фет, – предлагают обществу дать себя уничтожить во имя небывалого даже в сказках порядка вещей» (Там же. С. 161). Впрочем, коммунистическую угрозу он считал пока еще не актуальной для России.
[Закрыть].
Возвращаясь к собственно эстетической проблематике, отметим, что в других высказываниях Фет апеллировал все же к платоновско-шиллеровскому двуединству красоты и блага. «Наш реалистический век трубит свою нелепость о бесполезности прекрасного (искусства), но факты, слава Богу, доказывают обратное, – писал он еще в 1862 году В. Боткину из Степановки. – <…> Любовь к прекрасному неразрывна с любовью к хорошему – благу. Не эстетический человек может быть добр по натуре, но он все-таки не развил в себе и того, что дала природа» (ЛН 1: 511). В своем эстетизированном прагматизме он не слишком отдаляется от презираемых им Чернышевских и Писаревых – а просто переворачивает их ценностную шкалу. Наука взята у него в том же утилитарно-директивном ключе.
Если базаровщина превозносила естествознание – в пику ненавистному ей классицизму и гуманитарным дисциплинам, – то Фет в «Двух письмах…» всячески отстаивает противоположную идею. Конечно, древние языки и классическая древность сами по себе прекрасны, но, помимо того, они необходимы в качестве «умственной гимнастики» для государственных нужд – а именно для успешной борьбы с крамольными интеллигентами из поповичей, которые хотя бы в ущербном виде успели получить эту боевую гимнастическую подготовку, изучая в своих духовных семинариях классиков, логику, риторику, философию (СиП, 3: 302). (Фет, несомненно, вспомнил здесь эрудита Иринарха Введенского – своего бывшего приятеля, несокрушимого в дебатах[293]293
О нем и его взаимоотношениях с Фетом см.: Блок Г. П. Рождение поэта… С. 29–38 и др.
[Закрыть].) Так свою исконную неприязнь к церкви он проецирует на левых радикалов. «Умственная гимнастика» необходима политическому классу для того, чтобы противостоять злонамеренным плебеям-«сектаторам», этому коллективному Пифону, бунтующему против казенного Аполлона. Впрочем, Фет совпадает здесь не только с отечественными ретроградами, но и со многими приверженцами принудительного классицизма на Западе, вплоть до А. Уайтхеда в XX веке[294]294
Ср.: Whitehead A. Dialogues of Alfred North Whitehead as Recorded by Lucien Price: A Mentor Book. New York, 1956. P. 248.
[Закрыть].
Тот же спортивный довод он использовал и в написанной им вместе с его единомышленником В. Боткиным по заказу М. Каткова, но не напечатанной тем статье о «Что делать?» Чернышевского. Приведя в пример «ночную сцену Ромео и Юлии» у Шекспира, Фет заключает:
Мы толкуем о пользе искусства – эта польза огромна и значительна <…> Вызывать дух на подобные высокие колебания значит очищать его и укреплять духовной гимнастикой. Это возвышение, очищение и укрепление духа есть исключительное призвание искусства. Другого у него нет (СиП, 3: 240–241)[295]295
В статье «А. А. Фет как литературный критик» А. Ю. Сорочан и М. В. Строганов связывают эту прагматическую установку как с позицией В. П. Боткина (его соавтора) и А. В. Дружинина, так и с «реальной критикой» того времени: СиП. Т. 3. С. 427–428.
[Закрыть].
Однако в предисловии ко второй части «Фауста» он уже высматривает для потребности в прекрасном какие-то иные, капитальные резоны:
Спрашивается, какую же пользу, кроме общей со всеми другими организмами, извлекает человек из области красоты? – Целый мир искусств свидетельствует о том, что человек, помимо всякой общественной пользы, ищет в красоте на свою потребу чего-то другого.
Чего именно? Фет уходит от ответа, заменив его тавтологическим выводом, который отдает нечаянной пародией на Гегеля: «А что удовлетворяет требованию, то полезно».
Все это – внятное его продолжение полемики с не упомянутым здесь Чернышевским, но ведется она под знаком такой же прагматики. Направление меняется – сам прагматизм неизменен, даже если принимает тут специфически шопенгауэровский характер. Внезапно оказывается, что вся «польза красоты» и «отрешенного свободного искусства» состоит лишь в том, что человеку они позволяют «уйти от самого себя», от беспросветно тягостного земного существования, даруя ему «восторг самозабвенья»[296]296
Фет А. А. Предисловие и комментарии ко II части «Фауста» Гете / Публ. Н. П. Генераловой // 175 лет со дня рождения А. А. Фета: Сб. научных трудов. Курск, 1996. С. 70.
[Закрыть]. Но это эскапистское «самозабвенье» индивида по-прежнему, хотя как-то молчаливо, согласовано с «общественной пользой», – и в этом парадоксе высвечивается вся внутренняя двойственность Фета: те столпы, на которые опирается его личность, незыблемая в своей вечной раздвоенности.
По отношению к творчеству он, как и Шопенгауэр, придерживается веры в свободу, в метафизическом плане решительно отвергаемую обоими. Чистое искусство открывает нам платоновско-шопенгауэровскую идею предмета. Между тем, политическая свобода не вяжется с идеалом предписанной сверху регулярности, ранжира, любезного Фету, особенно позднему. Пускай в красоте являет себя творческий дух естества – но он открывается также в армейском порядке, в самом строе военной жизни. На первой странице воспоминаний он говорит, что император Николай I, «убежденный, что красота есть признак силы, в своих поразительно дисциплинированных и обученных войсках возбуждал изумление европейских специалистов» (он, правда, не объясняет, почему хореографическая слаженность его армии обернулась ее позорным разгромом).
Несмотря на промелькнувшие было у него пророчества о грядущей «новой песне», в других размышлениях ранней пореформенной поры Фет не выказывал избыточного оптимизма по поводу народной жизни. Почти сразу он переносит его на вчерашнего крепостника – среднего собственника, особенно из привилегированных слоев. В 1863-м, все в тех же очерках «Из деревни» – в статье «Значение средних землевладельцев в деле общего прогресса» он уже решительно противопоставил косному и уродливому крестьянскому быту благоустроенный помещичий уклад, изображение которого отдает дворянской ностальгией Тургенева. Ссылаясь на долголетний опыт своих охотничьих странствий, он сурово осуждает простонародье за его ужасающую грязь, за неизлечимую культурную и экономическую дикость. Здесь нет и следа недавних упований – зато Фет сразу же рисует альтернативу:
Нет, думаете вы, нужна еще тысяча лет, – и с этими мыслями вдруг въезжаете в помещичью, хотя бы соломой крытую, усадьбу. Все зелено и приветливо <…> Вы входите в дом, насекомых нет; все чисто, прибрано к месту. Вас встречает небогато, но мило одетая хозяйка; фортепьяно и ноты показывают, что она худо ли, хорошо ли играет. Между тем хозяин, усталый и загорелый, возвращается с работы. Стол накрывают чистейшей скатертью – гордостью домовитой хозяйки. Суп без всяких убийственных запахов и – о роскошь! – кусок сочного ростбифа со стаканом хорошего вина <…> Вечером вы засыпаете на мягкой свежей постели. Разве это не волшебство? <…> Одним словом, вы слышите тут присутствие чувства красоты, без которого жизнь сводится на кормление гончих в душно-зловонной псарне <…> Кто развел высокие породы коров, овец, лошадей и всевозможных растений? Спросите у хлебных торговцев, чьим хлебом они торгуют, чья шерсть идет на фабрики и в продажу? Из чьих садов фрукты поступают в лавки? Крестьяне даже не умеют ходить за садом и не чувствуют в этом потребности (Там же: 206).
До поры до времени такая альтернатива вселяла в него некоторые надежды.
Центр и периферия
Социокультурная геометрия Фета
С точки зрения Фета помещичьи усадьбы, идеализированные им в статье о средних землевладельцах, – такие же животворные «центры», форпосты красоты и благоустройства в пустыне мрачного хаоса, как и сама его лирика. Пересказывая в мемуарах свой разговор с немецким чиновником Бауэром, состоявшийся в 1856 году, Фет явно благожелательно цитирует реплику собеседника:
Хвастая своим громадным отечеством, я сказал ему: «Как жаль, что Германия, раздробленная на мелкие владения, лишена всякого политического голоса!» – Это весьма может быть, – отвечал Бауэр, – но это раздробление имеет для страны великое значение. Разбросанные всюду дворцы властителей представляют многочисленные центры духовного развития <…> тогда как во Франции, например, вся высшая жизнь сосредоточивается в одной столице, причем все остальные части государства коснеют во мраке (РГ: 256–257).
Фет, однако, воздает должное обеим этим культурно-географическим моделям, ибо главное для него – сама идея центра, отвечающая, помимо всего, твердости его нрава. В самых разных сферах – и в обществе, и в эстетике, и в русской культуре, и в политике, и в заемной космологии – он постоянно ищет такие узловые пункты, организующие вокруг себя жизнь и расширяющие круг своего действия. Так, пение, «упраздняя первобытный центр тяжести, состоявший в передаче мысли [разговорная речь], создает новый центр для передачи чувства» (НК: 371).
В блестящей, абсолютно новаторской статье «О стихотворениях Ф. Тютчева» Фет говорит: «Искусство ревниво; оно в одном и том же произведении не допускает двух равновесных центров». В противном случае, как происходит в заключительных строфах в остальном великолепного тютчевского стихотворения «Итальянская вилла», привнесенная в него мысль создает пагубный для текста «новый разнородный центр, дающий концу пьесы вид придуманности» (СиП, 3: 188). Даже в вопросах технического обучения Фет, выступая против специализированных школ с их теоретической программой (поскольку опасается напора естественных наук и вообще вредной грамотности среди простого народа), предпочитает им – в молчаливом согласии с Шопенгауэром – готовые «самостоятельные хозяйственные центры», где на своем живом опыте работник сумеет набраться необходимых практических знаний.
Принятая им на веру популярная тогда гипотеза о «центральном солнце» согласуется у него с довольно смутной идеей о некоем «абсолютном центре», на котором зиждется все мироздание[297]297
В шопенгауэровском трактате «О воле в природе» (далее – ОВП), переведенном им вслед за главной книгой Шопенгауэра, Фет мог найти и косвенное подтверждение этой увлекшей его гипотезы Медлера о «центральном солнце», вообще говоря, прослеживаемой как минимум к гипотезе Канта – Лапласа, а в натурфилософских наитиях куда более старой. Шопенгауэр, подхвативший то же предположение, приводит афоризм Парацельса: «И все воображение человека из малого солнца микрокосма идет в солнце великого мира, в сердце макрокосма» (Там же. С. 108).
[Закрыть] и о котором он, как мы вскоре увидим, говорит в одном из писем к Толстому. На первой странице статьи 1863 года о «Что делать?» Чернышевского сказано:
Мы привыкли в каждой новой форме жизни видеть результат многих совокупных сил, тяготеющих к единому центру. Эту совокупную силу обстоятельств, часто совершенно независимую от воли человека, мы привыкли называть судьбою народов… (СиП, 3: 195).
Позднее в указанной статье «Два письма о значении древних языков» такое же центральное солнце – «неподвижный идеал» – как изначально заданный предел и вечный ориентир для культурно-исторической динамики Фет навязывал патриотическому воспитанию. Оно должно быть согрето «прометеевским огнем всестороннего образования Европы», унаследованного ею прямо от древнего мира:
И Европа ревностно блюдет завещанный ей священный огонь. Все ее музеи, академии, книгохранилища, школы, судилища, театры, цирки – не что иное, как светильники этого огня. Идеал европейского образования есть всестороннее образование человека (СиП, 3: 295).
В данном случае Фет энергично отстаивает идею о превосходстве этого именно синтезирующего воспитания над частными, прежде всего естественными, науками (теми, где расплодились зловредные позитивисты, материалисты и левые радикалы). И тут он прибегает к характерной аналогии:
Всякое вверженное тело только тогда стремится свободно, когда оно одноцентренно, то есть когда в нем один центр тяжести <…> В этом смысле и наука, и искусство – одноцентренны. Этот центр – истина, одна истина.
Кто же обладает ею? В качестве ответа Фет предлагает архаично-пирамидальную централизацию истины. Все частные дисциплины должен возглавить универсальный гений, закаленный, понятно, все той же «умственной гимнастикой» классицизма[298]298
А. Ачкасов в прекрасной статье «А. Шопенгауэр в „Двух письмах о значении древних языков в нашем воспитании“ Фета» показывает, что наряду с прямой зависимостью от Шопенгауэра в постановке проблемы (включая предпочтение «высшего охвата» любой специализации) Фет расходится с ним в ее трактовке: «Аргументация Шопенгауэра сугубо лингвистическая: античные языки, в силу превосходства своего строя, важны как средство научного общения» (необходима латынь). Для Фета же они, будучи «умственной гимнастикой», представляют собой «обоснование генетической связи европейского и античного „всеобщего образования“» (А. А. Фет. Материалы и исследования. Вып. I. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2010. С. 53–65). О нацеленности статьи против реального образования: Там же. С. 65.
[Закрыть]. Конечно, перед нами российское самодержавие, только спроецированное на академическую жизнь. В идеале лишь один такой «философ-мыслитель стоит на вершине громадной пирамиды разделенного труда», на которой пылает «божественный огонь», – а «отдаленнейший труженик-ремесленник науки чувствует потребность поднести свою находку к центральному светочу мысли» (НК: 20–23, 27), заменяющему здесь «центральное солнце» фетовской космологии. Все выглядит так, будто труженик-адепт приносит этому солярному «жрецу всемирной мысли» на заклание доброхотную жертву своего научного благочестия (напомню, что в одном из цитировавшихся поздних стихотворений Фета пирамида и верховный жрец возвращают себе исходный, хотя и на редкость мрачный иератический смысл). Безусловно, на эту странную теократию автора навели амбиции его любимого Шопенгауэра, претендовавшего, при всем своем живом интересе к эмпирике, на исчерпывающее философское осмысление конкретных дисциплин[299]299
Ср. у него в переводе самого Фета: «В просветители вселенной лезут люди, изучившие свою химию, или физику, или минералогию, или зоологию, или физиологию, но ничему более на свете не учившиеся», – и оттого они становятся либо адептами религии, либо, напротив, «нелепыми и плоскими материалистами» (ОВП. С. II).
[Закрыть]. А в статье «Наша интеллигенция» Фет полагает, что «частные законы науки должны непременно сходиться в высших, иначе это не учение, не наука, а сумбур» (НК: 152). Как и у самого Шопенгауэра, то был отголосок надутой натурфилософии, с которой в России носился еще Н. Надеждин в 1830-х годах и которая в Советском Союзе возродится как гегемония марксистско-ленинской философии, дающей непререкаемые установки и разъяснения любым частным дисциплинам.
Другую, значительно более позднюю и тоже программную, хоть и не изданную при его жизни статью «Где первоначальный источник нашего нигилизма?» (1882) Фет открывает максимой:
Государственное управление, подобно всякой другой деятельности, требует умственного центра тяжести в виде единой господствующей мысли или понятия (НК: 221).
Еще в одной неопубликованной работе «Общинное владенье» (конец 1879 года) центральным объявлен сам субъект права, проецирующий себя вовне: «Владеть – значит поглощать вещь в свое экономическое я, сделать ее с ним нераздельным, как человек владеет своими членами. Такое понятие в прямом противоречии с понятием общий»; и снова: логика «приводит к сознанию прирожденного человеку права расширения своего я на вещи» (НК: 164). Даже христианская мораль самоотречения у Фета переосмысляется как «способность расширять свое „я“, свой эгоизм, как это явно видно в курице, идущей на бой с коршуном из-за цыплят». Образцовое социальное устройство – это совокупность энергичных хозяев, индивидуальных жизненных центров, стремящихся к экспансии, упорядоченной законом. То же касается внутрисемейных отношений: «Отец, наказующий детей, представляющих только распространение его самого, не может их унизить никаким наказанием», – пишет он в статье «На распутии»; и заключает вполне в гегелевском духе: «Во всех странах и во все времена люди склонны к расширению своей личности, к собственности вообще и к поземельной в особенности» (НК: 295, 341).
В помянутом предисловии к переведенному им «Фаусту» (точнее, ко второй его части, изданной в 1883 году, через год после первой) он писал, что «вся природа, в том числе и человеческая, в силу вечных законов, живет чувством самосохранения особи», а вот «любовь к ближнему, как редкое исключение, как бы вовсе не существует между людьми»[300]300
Цит. по публикации Н. П. Генераловой (снабдившей ее ценным предисловием): Фет А. А. Предисловие и комментарии ко II-й части «Фауста» Гете / Публ. Н. П. Генераловой // 175 лет со дня рождения А. А. Фета: Сб. научных трудов. С. 77.
[Закрыть]. А в статье «Наша интеллигенция» Фет наперекор этой самой интеллигенции, презиравшей права личности во имя народного блага, возглашает совершенно еретическую для России мысль о том, что
общество служит орудием благосостояния отдельного лица, которое и остается навсегда конечной целью общества, а не наоборот [перекличка с некоторыми английскими мыслителями]. Общество как орудие не может быть конечной целью (НК: 107, 346).
На вопрос о незыблемой основе любой, в том числе социальной, жизни у Фета дается «простой ответ: семя», – пишет он Толстому 28 сентября 1880 года (Пер. 2: 98–99). Это ядро, изначальный центр существования, воплощенный в семье[301]301
Об органической основе социально-философских взглядов Фета см.: Черемисинов Г. А. А. А. Фет-публицист о хозяйственном строе России // Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета. Курск, 1980. С. 280–281.
[Закрыть]. На том же принципе, собственно, и зиждется его вера в самодержавие, в семейно-патриархальном толковании которого он под старость сойдется с доктриной «официальной народности». «Каждый торговый дом, каждое отдельное хозяйство есть непременно такое единовластие», – пишет он сенатору Н. П. Семенову[302]302
А. А. Фет. Материалы и исследования. Вып. II. / ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН; отв. ред. Н. П. Генералова, В. А. Лукина. СПб.: Контраст, 2013. С. 605.
[Закрыть]. И понятно, почему он, вслед за Победоносцевым, энергично восстает (как и Пушкин в свое время, а во Франции – А. Токвиль) против русской традиции наследственного распыления наделов, губительной и для крестьян, и для помещиков: «Так как раздробление имений при разделах идет ежедневно безостановочно, то общее разорение дворянства есть только вопрос времени» («По поводу статьи „Семейные участки“», 1889)[303]303
Там же. С. 278–279.
[Закрыть]. Примером спасительного благоразумия здесь должно служить «наше остзейское дворянство» с его майоратом (статья «Фамусов и Молчалин») (СиП, 3: 319)[304]304
Публикация эта вышла анонимно, авторство Фета установил М. Д. Эльзон: Там же. С. 503.
[Закрыть]. Столь же опасно чрезмерное «раздробление власти» («О нашем сельском самоуправлении»), чреватое анархией.
О сообразном расширении личности на окружающие реалии он с упоением напишет Толстому в сентябре 1880 года, оспаривая его христианско-аскетическую тенденцию:
Любить – значит расширять свое существо на внешний объект <…> Даже дошедший до крайности самоуничижения Христос говорил: «Tat twam asi» – «люби как самого себя» (Пер. 2: 100).
Спустя много лет, 14 апреля 1890 года, Фет в письме к Софье Андреевне до того нагнетает идею самоорганизующегося «центра», что вычленяет его внутри духовной и интеллектуальной «сущности» человека, которая затем излучает себя вовне:
Величайшее счастье всего живого состоит в том, чтобы стать центром своей сущности. Розовый шипок до тех пор упирает<ся> в свою зеленую оболочку, пока роза не выставит своего душистого платья <…> Поэтому я нисколько не удивляюсь, что и Графу в тысячный раз приятно становиться центром собственной мысли, разобранной и воспроизведенной на сцене десятками его поклонников; ему отрадно чувствовать себя центром своей мысли; но ведь мысль требует себе воплощения <…> это воплощение – вся Ясная Поляна (ЛН 2: 197).
В поэзии расширительно-эмоциональное излучение текста обусловлено и уравновешено его внутренней концентрацией – и наоборот (так Шопенгауэр, следуя натурфилософской традиции, рассуждал о «постоянной борьбе центростремительной силы с центробежной» (МВП: 152)). В конце 1886 года Фет пишет К. Р.:
Страдание, счастье, гнев, ужас и т. д., словом сказать, все мотивы дороги поэту как мотивы к произведению стройных и одноцентренных выпуклостей, а о том, что кто-то страдал неведомо о чем, а другой при лунном свете его любил, может быть гораздо толковее разъяснено прозой <…> Зато пусть кто-нибудь попробует рассказать прозой любое стихотворение Гёте, Пушкина, Тютчева или Гафиза.
«Лирическое стихотворение, – продолжает он, – подобно розовому шипку: чем туже свернуто, тем больше носит в себе красоты и аромата» (ЛН 2: 595). Очевидно, здесь под «одноцентренностью» он понимает единство настроения, до отказа заполняющего текст, – и в качестве образцовых поэтов такого рода называет Пушкина, Тютчева, Лермонтова (ЛН 2: 619).
Еще в 1859 году, восторженно оценивая стихотворения Тютчева в указанной статье (посвященной А. Григорьеву и выказывающей некоторое его влияние), Фет проводит их анализ сразу на разных уровнях – и фонетическом, и семантическом, – преодолевая извечный дуализм формы и содержания, и эта аналитическая нить тянется к русскому формализму и даже структурализму в лице Ю. Лотмана. «Художественность формы – прямое следствие полноты содержания», – говорит здесь Фет, подразумевая под «содержанием» многоярусный объем художественной информации, сконцентрированной в тексте. Сам он будет постоянно размывать это центрирующее начало, отдавая предпочтение транссубъективности. Для него каждое из стихотворений Тютчева – «солнце, т. е. самобытный, светящийся мир». Их аура, распространяясь на все новые зоны читательского восприятия, противополагается той жесткой определенности, отграниченности, которая свойственна дискурсивной, в первую очередь философской мысли:
Чем резче, точнее философская мысль, чем вернее обозначена ее сфера, чем ближе подходит она к незыблемой аксиоме, тем выше ее достоинство. В поэзии наоборот. Чем общей поэтическая мысль, при всей своей яркости и силе, тем шире, тоньше и неуловимей расходится круг ее, тем она поэтичней. Она не предназначена лежать твердым камнем в общем здании человеческого мышления и служить точкою опоры для последующих выводов.
Но и здесь сохраняется регулятивный принцип, потаенная рефлексия поэта, управляющая переливами его зыбкого и почти безбрежного чувства. Фет называет ее мерой. В поэзии и вообще в искусстве
образ своей замкнутостью, а мысль общностью и безграничностью вызывают душу созерцателя на восполнение недосказанного – на новое творчество – и таким образом гармонически соделывают его участником художественного наслаждения (СиП, 3: 188 и сл.).
Если в житейской сфере расширение круга действий и владений индивида ограничено правовыми нормами, которые он энергично отстаивал, то в лирике, напротив, преобладает безудержная экспансия, раздвигающая спектр впечатлений и «уносящая душу» – «перелетную тень» (воспользуемся захватывающим примером из поэзии самого Фета) – прочь, «за рубежи родной земли», за горизонт обыденности – туда, где размывается и тает сам индивид, смешиваясь с иными реалиями и модусами бытия. Ссылаясь здесь на одно из стихотворений Пушкина, Фет говорит, что
строгий резец художника перерезал всякую, так сказать, внешнюю связь с ним самим, и воссоздатель собственных чувств совладал с ними самими как с предметами, вне его находившимися (СиП, 3: 179–181).
Художник, как и созерцатель, переселяется в «идею», явленную в совершенном произведении. Все же в умозрительной перспективе такая интерпретация, намеченная Фетом еще задолго до обращения к эстетике Шопенгауэра, задавала и возможность самоустранения, самоуничтожения лирического субъекта, чреватую суицидальным настроем или даже сопряженную с ним.
Однако такие тенденции уравновешивались мощным чувством долга, побуждавшим Фета неустанно множить и улучшать «предметы, вне его находившиеся». Сила усвоенной им в Верро логической мысли распределилась между разрушительной антидогматической критикой и сводом благоприобретенных этических принципов, получивших у гернгутеров незыблемую религиозную значимость.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.