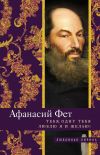Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
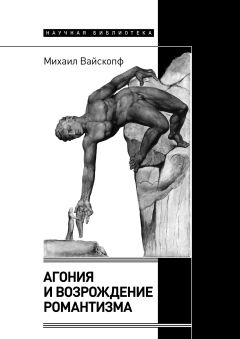
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал[605]605
Впрочем, самому Пастернаку эта строфа подсказана была фетовскими стихами (видимо, также хранившимися в оперативной памяти Набокова): «Всю озираю тебя, всю – от пробора волос / До перекладины пялец, где <…> прильнул маленькой ножки носок» («Странное чувство какое-то в несколько дней овладело…» (СиП: 67)
[Закрыть].
К аллюзионному репертуару подверстывается и сам Маяковский. С оглядкой на него в «Защите Лужина» очерчен был образ демонического антрепренера при великом шахматисте. Валентинов – энергичный вездесущий делец, меняющий страны и профессии, временами почти безликий эксплуататор лужинского дара – так что Лужину «казалось иногда, будто некто – таинственный, невидимый антрепренер – продолжает его возить с турнира на турнир» (2: 361). Типаж подсказан неуловимым обликом всемирного финансиста и главного антагониста героя из поэмы «Человек»: «Их тот же лысый / невидимый водит, / главный танцмейстер земного канкана. / То в виде идеи, / то черта вроде, / то богом сияет, за облако канув»[606]606
Маяковский В. В. ПСС: В 13 т. М.: Гослитиздат, 1955–1961. Т. 1. С. 266.
[Закрыть].
Довольно экзотическим гостем у Сирина выглядит зато Сергей Есенин. Соответствующая реминисценция всплывает в романе «Король, дама, валет», в портрете веселого, любопытного и доверчивого романтика Курта Драйера – обманутого мужа. Инфантильная открытость неожиданно роднит его с повесой «в цилиндре» – Есениным, точнее с остаточно-солярной стороной его поэзии; но у обоих авторов благодушие оттеняется палаческой изнанкой того мира, который на своей поверхности радует героев. В конце 10-й главы беззаботно гуляющий Дрейер наведывается в криминологический музей, скопивший запечатленную память о преступниках, палачах и казнях. Выйдя на улицу из этой показательной преисподней, удрученный персонаж возвращается, однако, в обычное для себя жовиальное состояние: «Так он шел, вращая тростью, как пропеллером, необыкновенно развлекаясь, улыбаясь невольно чужим людям», – и дома радостно встречает «два совершенно человеческих, совершенно знакомых лица» (2: 266): это лица его потенциальных убийц.
Ср. в восхитившем Мандельштама стихотворении Есенина «Я обманывать себя не стану…» (1923), где веселье «уличного повесы» противопоставлено и преступникам, и застенкам ЧК:
Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.
Пример иного рода мы найдем в «Приглашении на казнь». Когда Цинциннат мысленно вопрошает свою распутную Марфиньку: «Скажи мне, сколько рук мяло мякоть, которой обросла так щедро твоя <…> душа?» (4: 132), то он отзывается на есенинское стихотворение «Ты меня не любишь, не жалеешь…»: «Расскажи мне, Скольких ты ласкала? Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?»[607]607
Есенин С. Собр. соч.: В 5 т. М.: ГИХЛ, 1960. Т. 3. С. 132.
[Закрыть].
Под влиянием Олеши – точнее, его клозетной увертюры к «Зависти» («Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри <…> трам-ба-ба-бум!»[608]608
Олеша Ю. Зависть. Три толстяка. Воспоминания. Рассказы. М.: Эксмо, 2013. С. 166.
[Закрыть]) – строилась одна из мизансцен «Отчаяния»: «Ти-ри-бом! И еще раз – бом! Нет, я не сошел с ума, это я просто издаю маленькие радостные звуки» (3: 411). А вот пример из «Приглашения на казнь». В «Зависти» изображена шестнадцатилетняя прыгунья Валя (безответная любовь Кавалерова): ноги девочки «покрываются восковыми шрамами от преждевременно сорванных корок на ссадинах»[609]609
Олеша Ю. Указ. соч. С. 245.
[Закрыть]. Вспоминается еще более юная и неуемная набоковская Эммочка, которая, прервав прыжки, «принялась колупать черную продольную корку на блестящей голени, корка уже наполовину был снята, и нежно розовел шрам» (4: 137).
По точному наблюдению Полищук, нелюбовь вещей к Францу в книге «Король, дама, валет» (1928) корреспондирует с аналогичной чертой, приданной Николаю Кавалерову, трогательному неудачнику из «Зависти» Ю. К. Олеши[610]610
Полищук В. Поэтика вещи в прозе Набокова… С. 271; см. о нем также Дмитриенко О. А. Сквозь витражное окно: Поэтика русскоязычной прозы Набокова. СПб.: Росток, 2014. С. 255–258.
[Закрыть]. Существенно тут, однако, контрастное раздвоение одного и того же романтического мотива: применительно к Кавалерову это знак отчужденности от косной материальной среды, а применительно к Францу – свидетельство общей тупости персонажа и его неспособности сродниться с духом вещей, столь дорогим самому повествователю. Если их демонизация несла память о Э.-Т.-А. Гофмане, немецком патроне русского романтизма, то дружелюбная анимизация – скорее память о Х. К. Андерсене, тоже навсегда одомашненном русской культурой. Обоих сближала, правда, вражда к злостным механическим подделкам, имитирующим жизнь, – и с обоими по этому поводу в «Короле, даме, валете» как бы вступает в полемику фантазер-коммерсант Драйер, который долгое время умиляется манекенам-автоматам. А в «Даре» механические игрушки вроде щелкающего соловья, отвергнутого в сказке Андерсена, вспоминаются ностальгирующим героем с благодарностью и симпатией – ведь «пародия всегда сопутствует истинной поэзии» (4: 199).
Естественно, что Набокова не обошел стороной и культ Гофмана, возродившийся в России на рубеже веков и особенно бурно – в 1920-е годы. Как доказала Полищук, повсеместным влиянием «Песочного человека» проникнута центральная тема романа «Король, дама, валет» – гипнотическое порабощение бездушной героиней ее безвольного любовника Франца, обращенного Мартой в подобие робота (2: 702–704)[611]611
Полищук В. Указ. соч. С. 272–273.
[Закрыть].
В заключение – несколько замечаний об интертекстуальных слоях «Дара» (1937–1938), этого селективного компендиума классики – и, конечно, не только русской. Для начала, впрочем, я позволю себе оспорить мнение, будто презрительная реплика Федора по поводу того, что в Германии «бездарно-ударная, приторно-риторическая, фальшиво-вшивая повесть о войне считается венцом литературы» (4: 767)[612]612
Долинин А. А. Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». М.: Новое издательство, 2019. С. 525.
[Закрыть], обращена против Э. М. Ремарка. На мой взгляд, тут подразумевался совершенно другой адресат: не пацифист Ремарк, хотя Набоков его действительно невысоко ставил (3: 685), а его антипод – чрезвычайно престижный в Германии, особенно в годы гитлеровского милитаризма (= годы работы над «Даром»), прозаик Эрнст Юнгер, герой минувшей войны. Именно в этой ударно-риторической манере созданы были его прославленные беллетризованные записки «В стальных грозах» («In Stahlgewittern», первое изд. – 1920).
Понятно, что продукция такого рода отвращала Набокова и что среди немецких романтиков у него были иные приоритеты. Однако нас занимает здесь преимущественно русский генезис «Дара». Стоит в очередной раз подчеркнуть стабильное присутствие Фета, проступившее тут и на лексическом уровне. Взять хотя бы его специфическое слово «завой» из стихов «Моего тот безумства желал, кто смежал / Этой розы завои, и блестки, и росы…» (СиП: 178) – до того непривычное, что оно вызвало протест у Я. П. Полонского в его переписке с автором[613]613
Фет А. А. Переписка с Я. П. Полонским 1846–1892 // ЛН 1. С. 623.
[Закрыть] (в фетовском рассказе «Вне моды» встречаются вдобавок «округлые извои проплывающего облака»). Отсюда в «Дар» перешел «тайный завой» (4: 385), а потом «завой» появится и в повести «Волшебник» (5: 58). Там же мы найдем перифразу строк Фета «И в воздухе за песнью соловьиной / Разносится тревога и любовь» (СиП: 119), поданную, правда, в полемически-пародийном контексте: в рецензии на книгу Кончеева Мортус пишет, что «в самом воздухе разлита тонкая моральная тревога» (4: 349). В описании лесной прогулки Федора сказано, что «воздух смежался, как великое синее око» (4: 507), – это прямая отсылка к фетовскому «Лишь на миг смежает небо / Огнедышащее око» («Зреет рожь над жаркой нивой…») (СиП: 128).
Фет вместе с переведенным им Шопенгауэром – или, скорее, в обратном порядке – необходим и при обращении к философским притяжениям Набокова в «Даре», например к такой его сентенции, приписанной им некоему условному Делаланду[614]614
Об этом выдуманном Набоковым авторе см. в комментарии Сконечной к «Приглашению на казнь» (4: 607–608).
[Закрыть]:
Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего, долженствующий раскрыться нам по распаде тела, – это освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное око, зараз видящее все стороны света (4: 484).
Поддержав наблюдение В. Александрова, Долинин сопоставил это апокрифическое изречение с афоризмом из первой главы эссе Р. Эмерсона – американского романтика и эрудита – «Природа» (1841): I become a transparent eye-ball; I see all; the currents of the Universal Being circulate through me; I am part or parcel of God[615]615
Долинин А. А. Комментарий к роману Набокова «Дар». С. 506–508. Долинин присоединяет сюда сиринское стихотворение 1939 г. «Око» («К одному исполинскому оку – / без лица, без чела и без век, / без телесного марева сбоку / наконец-то сведен человек»), а также английскую концовку «Соглядатая». Понятно, что к тому же ряду относится и рассказ «Совершенство», в котором Полищук нашла парафраз ап. Павла.
[Закрыть]; в переводе А. Зверева: «Я становлюсь прозрачным глазным яблоком; я делаюсь ничем; я вижу все; токи Вселенского Бытия проходят сквозь меня; я часть Бога или его частица»[616]616
Эмерсон Р. Природа // Эмерсон Р. Эссе. М.: ГИХЛ, 1986. С. 26.
[Закрыть].
Между тем сам автор «Природы» приведенную мысль почерпнул все же именно у Шопенгауэра. Привожу здесь, однако, этот его источник в переводе Фета, релевантном для нашего изложения. В своем главном труде «Мир как воля и представление» философ говорит о блаженстве созерцания природы: «Мы уже более не индивидуум, – он забыт, – а только чистый субъект познания: мы существуем уже только как единое око мироздания»[617]617
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. А. Фета. Изд. 4-е. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса. С. 203. В переводе Ю. И. Айхенвальда (1900): «Мы только единое мировое око» (Шопенгауэр А. [Сб. произведений.] Минск: Попурри, 1998. С. 268.
[Закрыть]. Вот этот-то шопенгауэровско-фетовский пассаж, собственно, и воспроизведен у Набокова – с поправкой на посмертное инобытие.
Практически сразу подмечены были критиками отзвуки Гоголя в «Даре» (см. резюмирующие указания А. Долинина в 5: 658–659, 696). Тем не менее диапазон соответствующих поисков стоило бы значительно расширить. В последней главе «Дара» показана волшебная инверсия пространства в восприятии героя, который лежит на траве и смотрит вверх, на деревья, причем картина осложнена мотивом чудесного астрального сдвига:
Хвоя напоминала водоросли, шевелящиеся в прозрачной траве. И если еще больше запрокинуться, так, чтобы сзади трава <…> казалась растущей куда-то вниз, в пустой прозрачный мир, и была бы верхом мира, я улавливал ощущение, которое должно поразить перелетевшего на другую планету <…> а подброшенный мяч казался падающим – все тише – в головокружительную бездну (5: 507).
Наиболее внушительным прецедентом для этого симметрического преображения послужила, безусловно, ночная фантасмагория «Вия», тоже наделенная чертами космической инверсии и порой буквально предвосхищающая набоковский пассаж:
Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клиньями падали на отлогую равнину. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и <…> трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря <…> Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце[618]618
Впрочем, у этой перевернутой картины мироздания есть и дополнительные источники в русской литературе. Видное место среди них занимает как раз Фет, у которого «за соснами, как купол голубой, / Стоит бесстрастное, безжалостное море», форели «недвижно» стоят над травой, а «парус белеет в высоте» («Гляжу, у ног моих отвесною стеной…»). Вспоминают, конечно, и о знаменитом «На стоге сена ночью южной…», со строфой: «Я ль несся к бездне полуночной, / Иль сонмы звезд ко мне неслись? / Казалось, будто в длани мощной / Над этой бездной я повис».
[Закрыть].
Само собой, создатель «Дара» не проигнорировал также зловещие исторические реалии (мощно актуализированные нацистской тиранией, на фоне которой и писался роман). За недостатком места ограничусь лишь одной из них. Отвратного отчима героини, темного дельца Щеголева Долинин соотнес с его однофамильцем-пушкинистом – человеком оборотистым и жуликоватым, пристроившимся к советской власти[619]619
Долинин А. А. Комментарий… С. 214–215.
[Закрыть]. Но сюда напрашивается другой и, как мне кажется, более убедительный прототип. Бывший прокурор и заядлый антисемит Щеголев – это и аллюзия на царского министра юстиции Щегловитова, энергично курировавшего погромное дело Бейлиса, о чем я имел случай говорить на Набоковских чтениях 2019 года (в том числе, кстати, и М. Шрайеру).
Стихотворение Гумилева «Шестое чувство» будто невзначай вставлено в «Даре» в перечень порядковых числительных – советских заглавий, иронически созерцаемых героем в витрине книжной лавки: «Любовь третья», «Шестое чувство», «Семнадцатый пункт» (4: 347). Кое-где внезапно выскакивают и реплики Маяковского его казенно-советской поры. Когда занятый поэтической работой герой «Дара» прикидывает, что давно «соорудил себе – грубую и бедную – мастерскую слов», он фактически цитирует поэму о Ленине: «Как бедна у мира слова мастерская». В коллекции отработанных героем рифм «„деревья“ скучно стояли в паре с „кочевья“» (4: 331–333) – так же скучно, как до того у Заболоцкого в самом начале его агрессивно-романтической сатиры «Ивановы»: «Стоят чиновные деревья, / почти влезая в каждый дом; / давно их кончено кочевье – / они в решетках, под замком»[620]620
Заболоцкий Н. Столбцы. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929. С. 39.
[Закрыть].
Крохотное эссе Мандельштама о Пастернаке (1923), которого он сравнил с Фетом, явно захватило Набокова своей метафорической энергией. «Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыханье укрепить, обновить легкие»; «Книга „Сестра моя жизнь“ представляется мне сборником прекрасных упражнений дыханья», – восторженно писал Мандельштам[621]621
Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 2. С. 302.
[Закрыть]. В «Даре» эту целительную гимнастику Федор попросту перенес на боготворимого им Пушкина: «…продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме» (4: 280).
На двух предшественников вдохновенно-несуразного Германа Ивановича Буша – И. Британа и Блока («Песня судьбы») – указывали, соответственно, Берберова и Сконечная. Дополняя их наблюдения в своем массивном комментарии к роману, Долинин упоминает также популярный немецкий цирк Пауля Буша[622]622
Долинин А. А. Комментарий… С. 133–134.
[Закрыть] (если это совпадение считать релевантным, предлагаю подключить к нему и прославленного некогда комического поэта Вильгельма Буша). Но Блоку, на мой взгляд, тут сопутствует Андрей Белый – не зря «Танец масков» из курьезной трагедии Буша дает пародийную отсылку к его провальным «Маскам».
В «Отчаянии» в показе четырех участников невеселого новогоднего праздника обыгрывалось изображение четырех существ из видений Иезекииля и Апокалипсиса (см. в следующей главе). Все же примером для самой этой перекодировки портретно-бытового ряда в эсхатологический Набокову послужил «Котик Летаев» Андрея Белого, где в библейских зверей, в гармонии с детским мифотворчеством героя, превращаются его родные и гости семьи (4: 49)[623]623
Ряд плодотворных замечаний о преломлении других мотивов А. Белого (в основном из его «Петербурга») у Набокова высказан в исследовании: Сконечная О. Русский параноидальный роман: Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков. М.: Новое литературное обозрение, 2015. Гл. 5.
[Закрыть]. Эта же книга дала себя знать в «Даре».
Беловского Котика Летаева наставлял подвижный квартет досократиков:
Анаксимандр, Фалес, Гераклит, Эмпедокл пробегают по нашей квартире на чувственных знаках:
Говорю: «Рой, рой – все роится».
Фалес меня учит:
«Все полно богов, демонов, душ…»
<…> А Гераклит мне твердит:
«Все – течет».
С Анаксимандром мы ведаем беспредельности; Эмпедокл бросается в Этну; я – падаю в обморок[624]624
Белый А. Котик Летаев. Пг.: Эпоха. 1922. С. 92–93.
[Закрыть].
Домашним беспредельностям Котика ничуть не уступает бордельный симпозиум набоковского Буша, в трагедии которого проститутки столь же тезисно излагают учения четырех мудрых своих клиентов:
Первая Проститутка. Все есть вода. Так говорит гость мой Фалес.
Вторая Проститутка. Все есть воздух, так сказал мне юный Анаксимен.
Третья Проститутка. Все есть число. Мой лысый Пифагор не может ошибиться.
Четвертая Проститутка. Гераклит ласкает меня, шептая: всё есть огонь (4: 252).
Тем не менее, как напоминает И. П. Смирнов, в своем романе этот экстатический графоман пародирует философские искания самого Набокова. Согласно Бушу, «вселенная лишь атом, или, правильнее будет сказать, какая-либо триллионная часть атома», «последняя частичка одного, я думаю, центрального атома, из которых она же состоит». Смирнов, бесспорно, прав, когда говорит, что тот «перевирает соображения Паскаля», однако предлагает не слишком убедительные альтернативы: сперва монадологию Лейбница[625]625
Смирнов И. П. Текстомахия: как литература отзывается на философию. СПб.: Петрополис, 2010. С. 116–117.
[Закрыть], а потом математическую теорию Георга Кантора[626]626
Смирнов И. П. От противного: разыскания в области художественной культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 163.
[Закрыть]. Между тем лейбницевские монады лишь отражают в себе, причем по-разному (а вовсе не включают в себя, как у Буша), нашу вселенную. Упоминаемая же Смирновым канторовская бесконечность как «качество множеств, равномощных его собственным подмножествам», тоже далека от космологических прозрений Буша, с жаром возгласившего: «Прочь из тюрьмы матматики!» (4: 389–390).
Думаю, что его «центральный атом» – это ведийский atma и вместе с тем его анаграмма, то есть стилизованный под физику псевдоним «высшего Атмана» – того, что, будучи «меньше малого», заключает в себе вселенную («больший, чем эти миры»)[627]627
Упанишады / Пер. с санскрита, предисл. и комм. А. Я. Сыркина. М.: Восточная литература; РАН, 2003. С. 308, 623.
[Закрыть], состоящую, в свою очередь, из тождественных ему бесчисленных атманов. К этому Атману нам еще предстоит вернуться в последней главе.
Романтическая традиция в «Отчаянии» Набокова
Несмотря на проделанную исследователями обширную работу по изучению интертекстуального фонда «Отчаяния» (1934), «гипертекст» книги (И. П. Смирнов) все еще нуждается в значительном расширении. В списке ее философских источников или объектов полемики значатся Паскаль, Монтень, Декарт, Кьеркегор, Е. Н. Трубецкой и, кажется, наиболее релевантный в данном случае Валериан Муравьев с его темой преодоления времени[628]628
Carrol W. The Cartesian Nightmare of Despair // Nabokov’s Fifth Arc: Nabokov and Others on His Life’s Work. Austin: Univ. of Texas Press, 1982. 56 ff.; Смирнов И. П. Философия в «Отчаянии» // Звезда. 1999. № 4. C. 173 и сл.
[Закрыть]. Похоже, сюда не мешает подключить и «Рассуждение об истине» Н. Мальбранша (некое переходное католическое звено от картезианства к кантовской «Критике чистого разума»). Согласно Мальбраншу, человек обречен пребывать в мире иллюзий и обманов – оптических, психологических и пр., ибо гарантом истины является только Бог – тот самый, чье существование так запальчиво отвергается набоковским Германом, который все бытие подозревает в фальсификации.
Конечно, тема Doppelgänger’a в качестве демонического заместителя или юнгианской «тени» главного персонажа была фамильным достоянием всего романтизма и наследующих ему течений, о чем много писалось в связи с «Отчаянием», да и с другими набоковскими вещами. Но это только одна – и далеко не главная – черта его генезиса, получившая тут вдобавок крайне нетривиальное преломление. Вторя множеству романтических текстов, «Отчаяние» вбирает в себя общую для них, хотя и существенно модифицированную автором схему эротической встречи, заданную мощной традицией. Во «Влюбленном демиурге» я проследил этот сюжет на огромном материале – что здесь обрекает меня на докучную необходимость время от времени обращаться к собственной книге.
Нередко сама экспозиция соответствующих нарративов наглядно увязывалась с библейским раем – особенно на ранней, еще полусентименталистской стадии романтизма, выказывавшей сильную зависимость от 8-й книги «Потерянного рая» Мильтона. В своем скучном эдеме, по контрасту с ликующим цветением природы, романтик скорбел о пустоте жизни, об одиночестве и предавался пока еще расплывчатым грезам. Если для ветхозаветного Адама венцом творения сделалось его восполнение в Еве, вышедшей из него же самого, то, по существу, о таком же союзе мечтают и романтический анахорет (= чужак, отщепенец и пр.), и одинокая героиня. Но при этом, в силу почти непременной у романтиков сакрализации эротического объекта – и часто, vice versa, самого субъекта, – эротический идеал переводится в квазирелигиозный регистр, а романтический Адам (реже Ева) как бы перенимает креативные функции Всевышнего.
Итоговое воплощение чаемой возлюбленной/возлюбленного для героев/героинь ознаменует воссоединение с их собственной «второй половиной», прорастающей из лона подсознания – или создаваемой из наличного материала. Перед нами более-менее внятная аллюзия на библейскую формулу искомого «образа и подобия» (имеется, конечно, и инфернальный негатив сюжета – ловушка искушения). Травестируя в одной из глав «Отчаяния» эту тему эдема (см. ниже), Набоков переиначит ее, однако, в фальшивом гомоэротическом ключе.
Попутно встает вопрос о персоналистской доминанте усвоенного им наследия. Общеизвестно, что у романтиков, как позднее будет у русских символистов, полномощным космократором выступал все же сам автор – Тютчев, Гоголь, ранний Лермонтов – хотя эти свои полномочия он охотно делегировал персонажам – мечтателям и фантазерам. Естественно, что и у Набокова полновластным зодчим подконтрольной ему вселенной также рисовался автор и что свои демиургические амбиции он тоже охотно передоверял героям, особенно снискавшим у него некоторую автономию, – например, безумному чародею по имени Менетекелфарес («Король, дама, валет»). При всем том в романтическом и неоромантическом творчестве, наряду с imitatio Dei, зачастую угадывался мотив соперничества с Создателем. Соответственно, в «Отчаянии», где роль адамического демиурга переадресована Герману, снедаемому литературным честолюбием, его креативные претензии облекаются в открытое и ревнивое соперничество со Всевышним[629]629
Как утверждает Давыдов, эти его демиургические претензии заведомо бесплодны и, по сути дела, представляют собой неудачное состязание с самим автором романа. См.: Давыдов С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб.: Кирцидели, 2004. С. 52 и сл.
[Закрыть].
Однако адамически-креационистская модель синтезирована была со столь же распространенным у романтиков повествованием о любовном озарении, навеянным католическим визионерством, адаптированным прямо или косвенно. Иначе говоря, романтическая школа зачастую умудрялась как-то склеивать или комбинировать оба эти решения – демиургическое и мистическое, – а общим знаменателем для них, в том числе у Набокова, служила, как будет показано, фрагментарная стадиальность искомого воплощения. В целом же сюжетный инвариант романтико-эротического нарратива представлял собой свод телеологически упорядоченных ситуаций, обладавших, при известном мотивном многообразии, единой морфологической структурой, – хотя подчас ее компоненты пребывали в разрозненном состоянии, взывающем к интеграции. Бывало, правда, что действие обрывалось, не достигнув предначертанного финала, или, напротив, начиналось чуть ли не in medias res, а его предпосылки раскрывались задним числом и/или проступали отрывочно и полутонами, отсылая читателей к подразумеваемому канону. Суммарная схема могла включать в себя сразу несколько изофункциональных и взаимозаменимых мотивных серий, прикрепленных к различным, а иногда даже к одному и тому же протагонисту, – так будет и в «Отчаянии».
Применительно к литературно-историческому контексту Набокова целесообразно напомнить также, что в последних десятилетиях XIX века и особенно после Первой мировой войны всевозможные католические стилизации снискали на Западе новую популярность. Во Франции житие св. Терезы Авильской было на слуху даже у русских эмигрантов, живописавших ее соименниц, – у Б. Поплавского в «Аполлоне Безобразове», а позднее у Мережковского в «Маленькой Терезе».
Для католических эротоманов обоего пола отправным пунктом их визионерского опыта служило неодолимое влечение к Небесному Жениху, перенасыщенное у монахов (например, у Фомы Кемпийского или у Иоанна Креста) гомосексуальными страстями, по накалу почти не уступавшими суфийской эротике того же сорта. Как и у них, у св. Терезы томление соединялось с непостижимым чувством Его присутствия. Звучал внутренний, «духовный» голос Жениха, еще лишенный, однако, вербальной отчетливости. Нужно учитывать, что в религиозно-сенсорной иерархии «бесплотные» звучания в принципе ставились выше фигуративного изображения, которое легче было заподозрить в демоническом обмане. Сам облик Иисуса вырисовывался позднее и лишь постепенно, частями[630]630
Ср.: Clissold S. St. Teresa of Avila. L.: The Penguin Classics, 1982. P. 67.
[Закрыть], словно собираясь из самого себя, – пока в итоге не достигал оргиастической кульминации. В этом процессе угадывалась двойная реминисценция из Библии: неосознанная реплика и на парадигматическую стадиальность сотворения мира, завершенную созданием первочеловека (= «образ и подобие» Всевышнего), и на визуальные проблемы теофании из Книги Исхода.
У мистиков – а вслед за ними и у русских романтиков – взгляд божества был ощутим, но сам по себе не поддавался фиксации. Изображение при этом обычно отставало от голоса, а порой так и не появлялось[631]631
Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. С. 581–582.
[Закрыть]. Едва духовный взор св. Терезы успевал зафиксировать какую-либо часть вожделенного облика, та сразу же пропадала из поля ее зрения. Сперва она сподобилась увидеть руки Иисуса, еще через несколько дней – очерк Его лица, и лишь затем, наконец, Он предстал ей полностью. Но и это не было завершенным богоявлением, поскольку ей все не удавалось разглядеть само лицо Иисуса – точнее, увидеть Его глаза, распознать их цвет[632]632
См.: The Autobiography of St Teresa of Jesus / Written by Herself. Tan Books & Publications. Rockford, Illinois. 1997. Chap. 25, P. 1; 27, P. 3–8; 28, P. 1–2; 39, P. 1. Подробнее об этом: Вайскопф М. Указ. соч. С. 438–440, 527, 580–585. Конечно, визионерский опыт монахини в определенной степени указывает на зависимость от испанской портретной живописи, однако сама неуловимость сакрального лика с нею не связана.
[Закрыть].
Интересный пример раннего внедрения подобной сенсорной иерархии в русский романтизм, причем пока еще за рамками собственно эротической схемы, давала тут «Славянка» Жуковского (1816), где таинственный звук исходил от «незримой души» и связан был с ее парадоксально безвидным взором: «Мой слух в сей тишине приветный голос слышит, / Как бы эфирное там веет меж листов, как бы невидимое дышит <…> / Душа незримая подъемлет голос свой / С моей беседовать душою. / И некто урне сей безмолвный предсидит, / И, мнится, на меня вперил он темны очи; / Без образа лицо, и зрак туманный слит / С туманным мраком полуночи». В конце концов, именно эту сенсорную доминанту мы встретим и в ряде набоковских сочинений – хотя бы в «Приглашении на казнь», где Цецилия Ц., мать Цинцинната, говорит ему о его неведомом отце, с которым она когда-то, еще девчонкой, сошлась «в темноте ночи»: «Только голос, – лица не видела» (ср.: «Без образа лицо») (4: 126)[633]633
Г. Шапиро вообще усмотрел здесь травестию евангельской темы непорочного зачатия: Shapiro G. Delicate Markers: Subtexts in Vladimir Nabokov’s Ivitanion to a Beheading. NY.: Peter Lang, 1998. P. 90. Предложенные им сопоставления героя с Христом естественно согласуются с общеромантической традицией, очерченной нами выше, в частности в главе о Вагнере.
[Закрыть]. Соответственно, в последней строке романа, в сцене посмертного освобождения герой направляется туда, «где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».
В своих религиозно-эротических или смежных сюжетах романтики переняли ступенчатость сладостно-нуминозных теофаний. Будет ее использовать, пусть даже травестируя в «Отчаянии», и Набоков. Одновременно он постарается отвлечь внимание читателей от этого генезиса своей книги, шаржируя в показе Феликса замшелые банальности романтической школы. Ее грубым реликтом станет канонический отщепенец, вечный бродяга и враг социального неравенства, скрипач, друг природы. Но привычный типаж оттеняется пивной пошлостью, вороватостью и мещанским здравомыслием персонажа; а в общем он существо крайне убогое, которое Герман в своих криминально-творческих целях будет еще доводить до кондиции. Как набор разнородных, но тоже сплошь романтических трюизмов, приноровленных к уровню слушателей, преподносит свой лживый автопортрет и сам герой в двух псевдоисповедях: перед туповатым Феликсом в 5-й главе и в 8-й перед женой, привыкшей к бульварному чтиву. Однако пародия, как известно, не отменяет зависимости от ее предмета.
Так или иначе, нам потребуется тут с оптимальной полнотой выявить подлинно романтические источники или прецеденты «Отчаяния». Некоторые из них послужат посредниками между нею и более поздними сочинениями Набокова, такими как его монументальные комментарии к «Евгению Онегину». В этих последних вскользь, но уважительно помянут будет поэт, прозаик и драматург – барон Егор Федорович Розен.
Будучи уроженцем Ревеля, тот выучил русский язык лишь на военной службе, но быстро сумел занять заметное, хоть и слегка несуразное место в русской литературе. Пушкин всегда относился к нему доброжелательно, а сам Розен в качестве его истового поклонника и издателя был интенсивно вовлечен в сферу его деятельности и оставил ценные свидетельства о бесконечно почитаемом им поэте (между прочим, он перевел на немецкий «Бориса Годунова», используя также рукописные версии пьесы, не вошедшие в ее канонический состав). Впору напомнить и о тесных служебных контактах набоковского клана с кланом Розенов[634]634
О Розене см. статью В. Вацуро в биографическом словаре «Русские писатели 1800–1917»: Т. 5. М.: Большая российская энциклопедия, 2007.
[Закрыть] – контактах, которые отозвались у Сирина в пронизанном пушкинскими аллюзиями рассказе «Лебеда», где действует полковник Розен.
Автор «Отчаяния» не обошел вниманием и беллетристику Егора Розена, которая при всей ее мелодраматической натужности являла собой небезынтересный опыт по усвоению раннеромантической поэтики в России. Главный интерес вызывает здесь повесть «Розалия», написанная им от первого лица, – повесть, элементарно обыгрывавшая само имя барона и в 1830 году опубликованная им в своем знаменитом альманахе «Царское Село» – том самом, где были напечатаны стихи Пушкина, Баратынского, Дельвига.
Применительно к нашей теме симптоматично здесь уже то, что набоковский Герман – тоже сын ревельского немца, другими словами, земляка и соплеменника Розена (действие его повести развертывается в Эстляндии). Есть и куда более ощутимые соответствия. «Я имел брата, милого, незабвенного! с колыбельных дней ничто не разделяло и не разлучало нас!» – с бесконечным умилением вспоминает розеновский герой. «Мы полюбили друг друга; сердца наши необыкновенно согласовывались в склонностях своих: родители наши с улыбкою говорили: „они будто страстны друг к другу!“» Их старшая сестра скоропостижно умерла, и когда горюющие мальчики глядят на ее гроб, они заводят разговор о своей будущей, тоже неминуемой смерти, в которой один из них неизбежно упредит другого. «Милый Вильгельм» заверяет героя-рассказчика: «Я умру и буду твоим ангелом-хранителем, ибо я не мог бы жить на свете без тебя!» В ответ тот «заключил его в свои детские объятия <…> И кто более достоин был любви, чем этот брат, с прелестной наружностию, с нежной, пламенной душой!»
Со временем они вдвоем поступают на военную службу, хотя Вильгельм, оказывается, до того уже успел влюбиться в Розу, дочь местного барона, которую герой «оставил девятилетней малюткой». Потом, через «девять лет гусарского житья», рассказчику с горечью пришлось уволиться из армии по болезни. В миг расставания с братом, повествует он, «мы не стыдились слез, кои сливались в прощальном лобзании!». Увы, вскоре после того Вильгельму, который уйдет на войну, суждено будет погибнуть[635]635
Невский альманах на 1830 год, изданный Е. Аладьиным, в типографии вдовы Плюшар. СПб., 1830. С. 169–176.
[Закрыть].
Словом, это сочинение, припахивающее гомосексуальным инцестом, просто напрашивалось на пародию – и та действительно прорезалась в двух главах «Отчаяния». В восьмой главе Набоков почти что буквально воспроизводит розеновский мотив исступленной братской любви, как и ее гомосексуальную окраску (куда подробнее обыгранную в английской версии романа). С истинно розеновской проникновенностью Герман рассказывает здесь Лиде о своем злосчастном «брате»-Феликсе, который к нему всегда «относился с невероятным, более чем братским обожанием», – вроде того, как у Розена сердца братьев, «страстных друг к другу», «необыкновенно согласовывались в склонностях своих». Нет, заверяет набоковский авантюрист, то была «не извращенность, а посильное выражение неизъяснимого нашего единства». Однако перед войной судьба тоже развела их – брат уехал в Германию. Как и следовало ожидать, сцена их расставания вновь отдает Розеном: по словам Германа,
бедняжка так рыдал, так рыдал, – будто предчувствовал долгую и грозную разлуку. На вокзале смотрели на нас – смотрели на этих двоих одинаковых юношей, державшихся за руки и глядевших друг другу в глаза с каким-то скорбным восторгом… (3: 480)
У Розена рассказчик, возвращаясь в родную Эстонию, вспоминает и своего старого знакомца-барона, и слова Вильгельма о чудесной его дочери Розе, которую тот повидал в дни отпуска, – когда она уже «расцвела и превратилась в прекрасную Розалию!». По пути и сам он заезжает на мызу к старику-барону, где Розалия исходит тоской по умершему. Хозяин просит гостя представиться ей «под чужим именем» – «ротмистр М-ф», – чтобы не растревожить безутешную девушку, еще не оправившуюся после опасной болезни. После обеда они вдвоем с Розалией идут в сад, «это райское изображение добродетельной души», и беседуют в ее беседке, тавтологически «цветущей алыми и белыми розами». Наконец растроганный рассказчик называет себя посланцем «ангела»-Вильгельма и его «бессмертной любви» к ней. По его словам, покойный ему «завещал свой голос, свое чувство», – но тут «идеальная дева» бросается гостю в объятья:
Мое чувство узнало тебя: твой голос, жар твоих речей, разительное сходство движений – все тревожило меня сладким воспоминанием о нем! Ты его брат, тебя он пламенно любил – умоляю тебя: будь и моим братом!
Обычно в романтических текстах так привечают все же не заместителя, а самого возлюбленного – припоминаемого душой и возводимого ею в ангельский чин (иногда, правда, его заменяет какой-либо небесный покровитель). Как бы то ни было, свадебного финала в этой парфюмерной повести не предвидится, и сюжет провисает в сладостной неопределенности (вообще говоря, герои Розена от секса с женщиной готовы были бежать куда угодно – даже в смерть на поле брани)[636]636
Возможно, одним из инерционных реликтов этого претекста в «Отчаянии» осталось число девять, не самое престижное в мифологических и мистических традициях, зато маркированное в «Розалии». К началу действия ее героине было девять лет, и как раз через девять лет к ней приезжает брат погибшего. Скорее всего, однако, у Розена тут проступила спонтанная реминисценция из Данте: ведь, согласно его образцово платонической «La vita nuova», автору было девять лет, когда он впервые увидел Беатриче, а через девять лет она сама с ним заговорила; нельзя исключить и того, что розеновская нумерологическая константа у Набокова наслоилась на классику. Так или иначе, в «Отчаянии» именно девяткой помечены судьбоносные вехи действия: 9 мая, 9 сентября, 9 марта (следующего года), час встречи с Орловиусом, номер почтового ящика – и даже расстояние, когда-то отделявшее Феликса в Саксонии от чешской границы: «девять верст».
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.