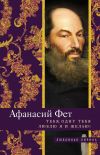Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
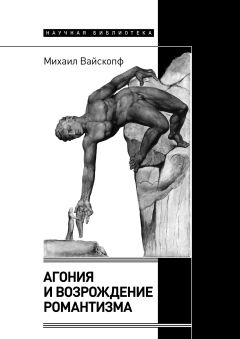
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Итак, в ходе своей причудливой и противоречивой конвергенции с оппозиционером-Троцким он растягивает свой «могильный» период на 1921–1923 годы (Белый, 1994: 480) – следовательно, на время, непосредственно предварившее то погребение, на которое, как мрачно сказано было рядом (ПЯСС: 483), как раз в 1923 году, сразу после возвращения на родину, обрек его Троцкий-вельможа. Одна «могила» переходит в другую – вроде того, как эволюционирует и амбивалентная роль самого Троцкого в этом исповедально-полемическом трактате.
Преобладает тут, однако, отнюдь не спор с Троцким, а целый свод функциональных заимствований из него и прозрачных перекличек. Кое-какие из них встречалось и в ВШ. Это мгновенно узнаваемые слова-сигналы, почерпнутые из уже ставшей одиозной лексики отставного вождя: здесь и характерный термин «перманентный», буквально выводивший из себя его противников. Ср. у Белого: «перманентная лава» речей Штейнера (ВШ: 44), «наши перманентные при о Гоголе»[550]550
Цит. по: Лавров, Мальмстад, 20.
[Закрыть] и др. Еще показательнее ключевая для всей тогдашней ситуации знаменитая формула Троцкого насчет перерождения власти, прозвучавшая еще в «Новом курсе» 1923 года. Перенеся ее в свою символистскую исповедь, Белый удрученно рассказывает, как он понял, что советская «власть перерождается в обычную власть» (ПЯСС: 440, 474).
Отправным пунктом его антропософских исканий становится уже не жизнь, а сама животворная смерть Штейнера, подсвеченная дорнахским заревом, – наподобие того, как в коммунистической литургике смерть Ильича ознаменовала рождение мировой революции: «Могила Ленина – колыбель революции».
Опять-таки пышная риторика лишь прикрывала борьбу аппарата за власть, все более ожесточавшуюся и направленную против главного ленинского приспешника. Автор ПЯСС сообразуется с этой ситуацией, примеряя ее к себе, – но с оглядкой именно на Троцкого. Просвечивает прямая аналогия между консервативно-штейнерианской массой в описании Белого и тем скопищем косных и забюрокраченных партийных середняков, которых неустанно бичевал опальный лидер. Клику «антропософских мещан» Белый третирует как набор самодовольных посредственностей, людей «очень невысокой культурности», погрязших в «любви к слухам и сплетням» (ПЯСС: 464), – и тут его разоблачения тождественны гадливым свидетельствам Троцкого о представителях «нового правящего слоя»[551]551
Ср. в его автобиографии (глава «Смерть Ленина и сдвиг власти»): «В них пробудились, ожили и развернулись обывательские черты, симпатии и вкусы самодовольных чиновников», причем немалое место в этих нравах «стал занимать элемент мещанской сплетни»; «Было настроение моральной самоуспокоенности, самоудовлетворенности и тривиальности» (Троцкий 1930, 2: 244).
[Закрыть]. Там, где тот обвиняет аппарат в духовном обуржуазивании (под влиянием нахлынувшей в партию мещанской массы), Белый уличает клику зарубежных антропософов в безнадежной буржуазности, присущей, впрочем, всему Западу. Это уже совокупная дань не только левому крылу большевизма, но и растущему в Кремле чувству превосходства над Европой – и одновременно неославянофильству, которое памятно было автору с 1909 года (дружба с К. Морозовой) и которое частично отозвалось теперь в советском патриотизме. Мы узнаем, что дорнахские недоброжелатели писателя из среды русских антропософов рабски заискивали перед «средне-немецким антропософом-мещанином с минимальным уровнем культуры» – а свою заемную спесь изливали на соотечественника-Белого (ПЯСС: 467).
Толпе партийных ничтожеств и эпигонов в рисовке Троцкого соответствует в ПЯСС основная антропософская масса, ввиду своего убожества внутренне чуждая Доктору, – и тут автор внезапно вспоминает, как он уже тогда сочувствовал «трагедии» горячо любимого им Штейнера, «несшего крест общения: с таким средним уровнем» (ПЯСС: 469). Неудивительно, что в этом филистерском кругу сам он, Белый, всегда выглядел чужаком, отщепенцем – что, опять же, роднит его с Троцким, оставшимся чужаком в партии с точки зрения ее заурядных и завистливых ветеранов.
Стародавние анархистски-эсеровские симпатии Белого на глазах конвергируют в ПЯСС и с антибюрократическими филиппиками низвергнутого вождя, очевидно, находя в них живительный импульс, доходящий до невольного плагиата. В самом деле, «разбухшая канцелярия общества 1923 года» (с. 466) отвращала Белого – как Троцкого с того же самого 1923 года все сильнее отвращает растущий бюрократизм партийно-государственной машины. Понятно, что мертвенный «аппарат» А. о. столь же ненавистен ему, как партийный аппарат – Троцкому. Даже в ВШ упоминалось, что деспотическая антропософская клика – это вместе с тем «отряд особого назначения» – конечно, наподобие того самого ГПУ, что так бдительно преследовало их обоих.
Дела у Троцкого действительно обстояли теперь хуже некуда. Как раз незадолго до того, как был дописан ПЯСС, 7 ноября (= 25 октября по старому стилю) 1927 года «организатор Октября» к его десятилетию возглавил бурную демонстрацию своих «большевиков-ленинцев», мгновенно раздавленную ГПУ. Тогда же его исключили из партии, а в январе следующего, 1928 года выслали в Алма-Ату (откуда еще через год навсегда депортируют за рубеж – на пароходе «Ильич»). Запуганные сторонники отрекутся от Троцкого, что, впрочем, потом не спасет их от истребления.
Но не лучше в день другого юбилея ведут себя и вконец оробевшие почитатели Белого. В том же самом 1927 году, «в день 25-летия со дня выхода первой книги» писателя (обожавшего, как мы знаем, памятные даты), его друзья, говорит он с горечью, просто побоялись «собраться, чтобы собрание не носило оттенка общественного» (ПЯСС: 483). Вероятно, заодно автор наивно надеялся тут слегка успокоить или даже разжалобить ОГПУ, добившееся подобных успехов, – но безусловно не упускал из виду и прямой аналогии со своим прежним преследователем. Короче, многозначительные параллели все интенсивнее пробуждала сама действительность.
На Западе А. о. разъедала распря между «старыми» и «молодыми» адептами – конфликт, чрезвычайно напоминающий борьбу все тех же заскорузлых подьячих партаппарата с не в меру энергичным чужаком Троцким, который, со своей стороны, искал опору среди коммунистической молодежи («Молодежь – барометр партии»). Антропософское движение ветвилось, в согласии с волей Доктора расширяя «михаилитскую» деятельность на все новые творческие и социальные сферы. Это было нечто вроде «перманентной революции» Троцкого, и не зря Белый с вызовом подхватывает еретический термин. При этом в ПЯСС он продолжает атаку на руководство Антропософского общества, застывшее в своем надменном убожестве.
Симптомы тотальной переоценки штейнеровского движения порой высвечивались, впрочем, и в ВШ (с. 75), где сказано, что самому Доктору приходилось сражаться с инертным, недалеким и злонамеренным антропософским Президиумом (в Штутгарте), отдалившим его было от Общества и «лишившим контакта с жизнью». Аналогичным образом Ленин в трактовке Троцкого вынужден был бороться со сталинской камарильей, которая изолировала больного вождя от окружающей жизни.
В сутолоке идей, впрочем повсеместной у автора, прорезается суть его итоговой символистской автобиографии. Она заключается в новой самооценке Белого – конечно, с поправкой на его обычный эгоцентризм и мегаломанию. Он притязает здесь вовсе не на внутреннее тождество с покойным Штейнером, а на роль его единственного преемника – то есть на такое же престолонаследие, на которое применительно к Ленину претендовал Лев Троцкий. По необходимости выпрямляя ситуацию, я берусь утверждать: если в ВШ Штейнер был, так сказать, усовершенствованным Лениным, то в новом функциональном раскладе Белый занимает место антропософского Троцкого.
Большевистский отщепенец, убежденно выставлявший себя истинным хранителем и носителем ленинизма – вопреки чиновным узурпаторам, – Троцкий яростно отвергал хронический упрек в «небольшевизме» (идущий, впрочем, от так называемого ленинского завещания). В июне 1927 года на заседании Президиума ЦКК он напомнил собравшимся о своей прежней, уже очень давней позиции:
Я говорил не раз, и это известно всем старым членам партии, что я по многим важнейшим вопросам некогда боролся против Ленина и большевистской партии, но меньшевиком я не был <…> Я стоял вне обеих основных фракций тогдашней социал-демократии
(предлагается аналогия с беспартийными Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом). И все же убеждения его преимущественно совпадали с ленинскими; более того, порой он даже упреждал Ильича – именно в силу своей, так сказать, ленинодухновенности: не зря он, Троцкий, всегда занимал самый левый фланг в политике. Совпадали полностью и их взгляды на мировую войну, когда он оставался неистовым беспартийным революционером. Так, в 1914 году он выпустил брошюру «Война и Интернационал», «ставшую орудием крайних левых в Германии, Австрии и Швейцарии. Я был революционным интернационалистом, хотя я не был большевиком»[552]552
Троцкий Л. Д. Сталинская школа фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. Берлин: Гранит, 1932. С. 155–158.
[Закрыть]. Эта речь не публиковалась в СССР, но приведенные в ней факты и без того были достаточно известны благодаря сторонникам Троцкого и просто памятливым свидетелям его восхождения.
Столь же охотно Белый вспоминает в ПЯСС о своей неизменно радикально-левой позиции: «Мое отношение к буржуазному обществу с 1907 года было резко отрицательным, а моя невозможность его выносить – мой отъезд из России в 1912 году». В Дорнахе же он «сочувствовал ряду лозунгов Циммервальда-Кинталя»; «Оставаясь чужд партийной политике, в России я тем не менее во всех устремлениях своих был с тогдашними крайне левыми». Это уже в чистом виде модель внепартийного ленинизма Троцкого – тем более интригующая, что Белый вовсе не скрывает здесь своей неприязни к большевизму, а разве что по понятным причинам слегка ее ретуширует[553]553
В своем обращении к чекистам, в 1931-м арестовавшим К. Н. Васильеву и забравшим его бумаги, он наивно просит ОГПУ приобщить к следствию именно ПЯСС, полагая, что этот текст не содержит антисоветского криминала (Спивак 2006, 373).
[Закрыть].
Свой пацифизм, тогда удержанный им в Швейцарии, он стилизует под ленинско-троцкистский канон интернационализма: его «ответ на войну – глубочайшее нет». Сам его вояж 1916 года в воюющую Россию из нейтральной Швейцарии, каким он представлен в ВШ, да и других сочинениях, подозрительно напоминает мытарства пассажиров запломбированного вагона. В тот же пацифистский лагерь он, правда не совсем уверенно, зачисляет и Штейнера.
В своем театре теней Белый разыгрывает удивительный спектакль функционального перевоплощения. Показ учителя и своего места при нем вторит у него апологетическим филиппикам Троцкого о его подлинной роли при Ильиче, бесстыдно искажаемой профессиональными клеветниками. И подобно тому, как лживые партаппаратчики измышляли всегдашнюю и злокозненную борьбу Троцкого с Лениным, его, Белого, столь же облыжно обвиняют во вражде к Доктору: «…новая клевета возводится на меня: я-де написал пасквиль на Рудольфа Штейнера „Доктор Доннер“ <…> клевете верят!» (ПЯСС: 491).
Совсем рано, еще в 1913 году, Белый почувствовал себя «любимейшим учеником Штейнера, специально ведомым к посвящению, предназначенным к исполнению великой миссии»[554]554
Спивак 2006, 69.
[Закрыть] – более того, как рассказал он в «Материале к биографии (интимном)», его «сыном»[555]555
Андрей Белый и антропософия. Материал к биографии (интимный). Переписка с М. К. Морозовой / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее, 6. М.: Феникс, 1992. С. 356.
[Закрыть]. Постепенно все разладилось, однако каким бы напряженным и противоречивым ни стало его подлинное отношение к Доктору, какие бы горькие обиды на него (и особенно на коллег-антропософов), прорвавшиеся в ПЯСС, он ни копил, все же Белый твердо помнил, что некогда Штейнер отечески благословил его на дальнейшие труды (Спивак, 2006: 67, 83).
Правда, расположение учителя носило обычно весьма экономный характер и в Дорнахе выразилось в том, что он «кивнул» Белому, ободрив его в безлично-суммарных комплиментах: «Вы написали прекрасную книгу» (то есть книгу о самом Штейнере и Гете) (ПЯСС: 468) и «Ваши интуиции совершенно верны» (Там же: 486)[556]556
Ср. также в «Материале…» крайне скудную коллекцию конспиративных знаков штейнеровского внимания: «И – поглядел дружески на меня. Я – просиял. Тогда он, дотронувшись до пуговицы моего пиджака, конфиденциальным подбодром сказал мне: „Ваша световая теория очень хороша!“» И ниже: «Он меня явно выделял, войдя в аудиторию, отыскивал глазами и еле заметно бросал через головы его окружавших людей то кивки, то лишь мне заметные улыбки; но все это внимание на людях ко мне было… точно украдкой; точно он хотел, чтобы люди не видели его» (Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее, 9. Париж; М.: Феникс, 1992. С. 427).
[Закрыть]. Кроме того, при первой их послевоенной встрече в Германии он участливо спросил своего депрессивного приверженца: «Ну, как дела?», на что тот ответил вымученной улыбкой. «Этим и ограничился в 1921 году пять лет лелеемый и нужный мне разговор»[557]557
Подробнее: Спивак 2006. С. 110.
[Закрыть], – подытожил Белый (Там же: 480) с печальной откровенностью, оттеняющей здесь его почти что мазохистскую преданность вождю.
Чрезвычайно любопытно в ПЯСС мотивирован в то же время сам его переход от той роли скромного и восторженного свидетеля штейнеровского жития, какой она запечатлена в мемуарах, к своему главному – мессианскому – призванию. «Говорить восторженно о других [то есть о Штейнере], постоянно преуменьшая себя, может быть, полезно как упражнение в смирении, но не всегда полезно для правды» (с. 483), – заключает он в концовке трактата, явно предпочитая этому доброхотному смирению горделивую позу коммуниста-Троцкого. Радея о «правде», свое право на наследование он запальчиво подтверждает самоотверженной верностью усопшему, о которой твердит уже с каким-то немецким упорством: «Вспомните только мою верность антропософии и Рудольфу Штейнеру»; «Что я Штейнеру верен, порукой моя пятилетняя русская жизнь; в ней я привык быть „верным“ в деле» (ПЯСС: 480–481).
Естественно, он претендует на теснейшую причастность и к интеллектуальному и духовному наследию усопшего – как претендовал на нее Троцкий по отношению к Ленину. В этот рациональный план переключается и этическая тема верности Штейнеру: «Я верен XXXIII курсу лекций, который не курс, а ракурс лекций и пленумов» (ПЯСС: 471). Помимо того, Белый ссылается на «огромный опыт», отложившийся в нем «от 400 лекций Штейнера, медитаций» и пр. В тягостно-филистерской обстановке германского Общества он испытал тогда невиданный подъем «на орлиных крыльях», и этот взлет, пишет Белый, «нес меня, минуя людей, к моему учителю Штейнеру, от которого за четыре года я получил безмерное».
Сверх того, он и сам подчас упреждал учение Штейнера, пока еще ничего не зная о нем, – как Троцкий часто опережал в чем-то Ленина, признававшего позднее его правоту. Уже юношеские штудии Белого по «теории знания» указывали «выход в том же направлении, в каком он указан Штейнером». Чуть ниже сказано:
Мне и теперь стыдно подчеркивать, что курс 1914 года Рудольфа Штейнера <…> есть антропософская, но полная транскрипция моей «Эмблематики смысла».
Еще через несколько строк, полемизируя заодно с былыми символистскими недоброжелателями, он снова заявляет (с инерцией фальшивого самоумаления):
Повторяю, – пигмею, мне, – стыдно подчеркивать свое сходство в идеях с гигантом; не ради пустого тщеславия я это делаю, а чтобы стало ясно и тем, кто не понял меня в моем якобы перебеге к Штейнеру, и тем, кто не увидел меня в Штейнере до этого перебега, – чтобы стала окончательно понятной моя несносная принципиальность… —
и т. д. (ПЯСС: 455–457). Упреждая учителя, он вместе с тем как бы равновелик ему; и все же к концу трактата, где его амбиции обретут величавое полнозвучие, Белый возвещает, что о «действительностях творческого познания» ему, уже в его юношеской «Эмблематике», вообще было «прекрасно известно до книг Штейнера». А в последующих спорах он иногда даже поправлял учителя (ПЯСС: 487) – подобно тому, как Троцкому случалось вступать в плодотворный спор с Ильичом.
В другой своей, незаконченной исповедальной рукописи, оставленной в 1928-м, Белый строит ту же далеко идущую мысль в более извилистой манере. Одобрительный взгляд, с кафедры однажды брошенный Штейнером
на меня, относился ко мне, к моей работе извлечения его теории объяснения, о которой, быть может, и он не подозревал и на важность которой я ему в его прочтении моей работы указал <…> Усыновляя нашу с ним теорию объяснения и называя ее своей <…> он, так сказать, прививал мой подход к антропософии к своему; на многое я бы не осмеливался впоследствии, если бы не получил от доктора санкций по-своему говорить об антропософии[558]558
Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее, 9. Париж; М.: Феникс, 1992. С. 428.
[Закрыть].
Настоящая, отеческая передача самой преемственности с пафосом маркируется им в его излюбленной, хотя и несколько натянутой символике вещих соответствий. В 1923-м, прослышав о словах учителя, «что аппарат этого [Антропософского] общества – труп», Белый, наперерез тому, что его «механически отделило от Штейнера», бросился,
сорвавшись с одра, к нему в Штутгарт, где имел свидание-прощание с ним, многое мне разрешившее в будущих годах моей кучинской жизни; в нем – заря нового расцвета антропософии в моей душе, но уже… без… морды «Общества», с которым все счеты кончены.
Не я их кончал.
Кончила их героическая кончина Рудольфа Штейнера (в день нашего прощания с ним, 30 марта); 30 марта я поклонился человеку, давшему мне столько, и зная, что еду в Россию и его не увижу – долго; 30 марта 1925 года его не стало; мое «долго» стало дольше, чем я думал.
Смерть здесь; победа – там (ПЯСС: 481–482).
В чем, собственно, состояло «прощание», не сказано, но абсолютно ясно, что там – это в России, куда отныне перешло штейнеровское наследие в лице Андрея Белого и где антропософии, как он верит, предстоит воскреснуть вместе с ним, несмотря на любые мытарства. Пускай в «могилу», вырытую ему бездушными западными начальниками, его тут же вернут Троцкий и коммунистические репрессии – харизматичность Белого преодолеет и эти тяжкие испытания. Взамен гниющей Европы знаменосцем новой, сотериологической антропософии уже стала его катакомбная родина, что вселяет в Белого патриотическое умиление. «Тенденции „ломоносовской“ группы, – говорит он, – на несколько лет упредили ряд тенденций, вызревших в тяжелом развале общества Запада» (ПЯСС: 476). Сам смысл этих «ломоносовских» новаций, по замыслу Штейнера, состоял в неустанном культурном активизме (Спивак, 2006: 296), нацеленном на то, чтобы вывести антропософию на всечеловеческие просторы. Если учесть, что та же ударная «ломоносовская» группа из последних сил продолжала функционировать даже в удушливой советской тьме, мы поймем и гордость самого Белого, возглавившего это мессианское подполье.
«Турецкий игумен»
К концептуальным истокам книги Андрея Белого «Мастерство Гоголя»
Славянофильская мысль, в связке с почвенничеством Достоевского, как известно, обрела второе рождение и новые импульсы незадолго до Первой мировой войны. Приблизительно тогда же А. Белый впервые занялся Гоголем (1909). Ближайшее изложение призвано показать, в частности, некоторую преемственность его гоголеведческих штудий советского времени от указанной традиции.
В его монументальном «Мастерстве Гоголя» – опубликованном лишь посмертно, в 1934 году, – высвечивается, на мой взгляд, зависимость от напечатанной еще в 1886 году статьи весьма почтенного славянофила Ореста Миллера «Область отрозненной личности (По поводу 50-летия „Ревизора“)». Согласно критику, гоголевский Хлестаков – это некий полупризрак, мелькающий
в том мире, где давно уже нет души, где все опустело и выдохлось, потому что все раздробилось, лишившись своего единящего, связующего нутра. Дело в том, что для этого захолустного мира бесследно пропал самый смысл слова мир, как толковалось оно Хомяковым[559]559
Миллер О. Ф. Славянство и Европа. М.: Ин-т русской цивилизации, 2012. С. 732.
[Закрыть].
Переходя от того символического города, где подвизается Хлестаков, к более «широкому захолустью с отрозненной личностью», а затем ко всей, в том числе столичной российской, жизни, Миллер пессимистически заключает, что «отрозненный» человек «уже слишком увяз в духовном своем одиночестве». И далее:
Такова-то область, отмежеванная себе гоголевским творчеством, область, в которой не оказывается ничего соответствующего нашему народному миру, в котором все рассыпается как бессвязные песчинки в степи <…> И вот в этой области, вместо давно улетучившейся души, – пустота, ничто, nihil в каком-то принципиальном смысле[560]560
Миллер О. Ф. Славянство и Европа. С. 733, 743.
[Закрыть].
Моделью славянского единения, противостоящего европейскому индивидуализму и разобщенности, для Ореста Миллера служит героическое «товарищество» казаков в «Тарасе Бульбе» (аналогичную интерпретацию – только в сталинско-шовинистической ее окраске – усвоит и советская филология). Но и те, с горечью продолжает Миллер, безнадежно выродились в своих ничтожных и сварливых преемниках:
Гоголь, от старых своих казаков переходя к их потомкам помещикам, дает нам почувствовать, до чего пропадают задаром в этой обессмыслившейся, этой отрозненно-расчеловечившейся среде <…> сокровища душевной природы <…> Загляните только в душу Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и никакой уже тени какого-либо духовного задатка вы у них не найдете[561]561
Там же. С. 733–734.
[Закрыть].
Подхватывая эту оппозицию казацкого прошлого и убогого настоящего, Белый блестяще конкретизирует миллеровскую тему. В «Миргороде», пишет он,
сопоставлены рядом, как конец напевного «вчера» с началом непевучего «сегодня», – Тарас с Довгочхуном; Довгочхун выглядит слезшим с седла и заленившимся в своем хуторке Тарасом, сатирически осмеянным; а Тарас выглядит патриотически воспетым Довгочхуном, если бы последний исполнил свой долг и поступил в милицию, – вероятно, в народное ополчение 12 года.
Творческий путь Гоголя он традиционно делит на три фазы, мимикрирующие у него под марксизм; вместе с тем они скоординированы, помимо Миллера, также с гегелевской триадой (приписанной у Белого и стадиям его собственного духовного развития). Первая фаза говорит об архаичном коллективизме патриархальной среды, вторая и третья – о ее последующем разложении в сюжете:
Множество как целое характеризует первую фазу; многоразличие единства – вторую; в третьей дается всеобщность: единство многоразличий <…> В первой фазе он [сюжет] – взгляд на вселенную из глаз коллектива; во второй – из глаз мелкой личности; в третьей [синтетической, куда Белый относит и «Мертвые души»] – и личность, и коллектив даны из глаз автора <…> возглашающего тенденцию, —
в осмыслении которой Гоголь, однако, запутался[562]562
Белый Андрей. Мастерство Гоголя: Исследование. М.; Л.: ОГИЗ, 1934. С. 77–78.
[Закрыть], ибо гениальное художественное, в том числе социальное, чутье писателя намного опережало его отсталые взгляды и консервативную рефлексию. Марксизм тут фактически смонтирован у него с психоанализом (как бы вскользь сказано, что «подсознание мстит сознанию», то есть рефлексии). В любом случае, искомый синтез не удался Гоголю.
Сплоченная и певучая казацкая Украина «Вечеров…» и «Тараса Бульбы» погребена в поэтическом прошлом, в сочинениях «первой фазы», – хотя «отщепенство» уже тогда вызревало в заведомо мистифицированной коллективом фигуре колдуна из «Страшной мести» (и потом в трагедии Бульбы). Следы миллеровской славянофильско-почвеннической трактовки еще резче проступают там, где Белый анализирует «вторую фазу», в которой петербургский морок рассыпался небытием. Если Миллер писал о том, что у сатирически поданных одиночек Гоголя взамен души – «пустота, ничто, nihil в каком-то принципиальном смысле», то Белый, в свою очередь, предлагает: «Прочтите романтические повести от „Сорочинской ярмарки“ до Тараса Бульбы и сразу же пропустите… через себя» произведения второй фазы: «получите впечатление удара о дно „ничто“». Их персонажи, наподобие Чарткова, Пискарева, Поприщина, Башмачкина и странствующей фикции – Хлестакова, в том или ином виде несут черты миллеровской отрозненности, либо, по Белому, отщепенства. И почти буквально следуя Миллеру, он упорно подчеркивает, что на этой пустотной второй стадии повсеместно торжествует именно nihil, ибо «линия времени заменена кругом пространства; но этот круг – ноль; и недаром в „Портрете“ выныривает мосье Ноль. <…> „Не верьте Невскому проспекту!“ На нем сущностен только Ноль – ноль, ничто»[563]563
Белый Андрей. Мастерство Гоголя. С. 20, 21.
[Закрыть].
У Миллера к совокупности «отрозненных» личностей принадлежат и коррумпированная, бездарная, ленивая бюрократия, и легкомысленное дворянство, подчинившие себя мнимому «просвещению» – растленному влиянию Запада. Вся эта среда, пораженная «житейским нигилизмом» – еще до нигилизма базаровщины, – по-прежнему «остается наднародной и безнародной, ничем не связанной с великим целым». Западная же буржуазия, утверждает Миллер, сама по себе инфицирована «религиозно исповедуемым материализмом», радикально чуждым «нашему народному миру». Гоголь в своей вещей тревоге предстает у него не только отечественным, но и всеевропейским пророком, ибо он
Однако, вопреки Миллеру, именно эта пророческая миссия, взятая на себя писателем, у Белого подверглась радикальному пересмотру, а приметы петербургских отщепенцев-полупризраков перенесены были им (конечно же, с оглядкой на зеркало) и на самого Гоголя: тот ведь тоже был «мещанин во дворянстве», «отщепенец от семьи, класса, его породившей среды, не утвердившийся ни для какой другой, ставший „кацапом“ для украинцев, „хохлом“ для русских»; «„Не русское сердце!“ – кричал Толстой-американец, и Пушкин боялся, что хитрый хохол обскачет всех»[565]565
Белый А. Указ. соч. С. 54–55.
[Закрыть].
Миллеровская демонизация буржуазии в целом была не слишком оригинальной, поскольку опиралась на необъятную традицию. Универсальной чертой аграрного или любого другого ретроградного общества, как и производных от него сентиментально-охранительных движений социалистического либо еще более архаичного толка (крайне агрессивных, однако, по своей природе), остается суеверная ненависть к прагматическому индивидуализму, свободной экономике и «бездушному капитализму», трактуемым под конспирологическим углом зрения. В России эта вражда обрела пестрый консенсус: от славянофилов до земских начальников, аграрных Тит Титычей, остзейских баронов, социалистов-народников, анархистов, коммунистов и сегодняшних консерваторов. В дореволюционных доносительских жанрах, повсеместно реанимированных потом в СССР, инфернального западного врага усердно обслуживали его разношерстные агенты – нигилисты, террористы и другие революционеры, евреи, поляки, иезуиты, масоны, беспочвенная интеллигенция и пр. Преломленный через Достоевского поздний антинигилистический роман, вместе с соответствующей журналистикой и т. п., без всякого сомнения, оказывал сильное влияние и на охранительно-мистические модели самого Белого.
Вся эта вековечная вражда к капитализму вместе с конспирологическим каноном замечательно пригодится Советам, придавшим ей глобальный размах. Пригодится она, как известно, и А. Белому, когда идея мистического заговора проделает у него путешествие из дореволюционного «Петербурга» в советскую «Москву».
В своих научных изысканиях он тоже имитирует казенное вероучение. Вторя официальной схеме, Белый-гоголевед занимает диалектически двойственную позицию применительно к капитализму, который, согласно марксистской догме, сперва был жизненно необходим для становления и роста пролетариата, а потом сделался его смертельным врагом, подлежащим тотальному уничтожению. Согласно автору, творчество Гоголя отразило непреходящий ужас и смятение примитивного коллектива, как и духовно солидарного с ним писателя, перед язвой новых, индивидуализированных отношений, разъедающей патриархальный уклад: сначала допотопно-целостный, потом крепостнический. В «Страшной мести», то есть еще в «первой фазе», угрозу предвещает демонизируемый отщепенец, прибывший из чужих краев, ибо, по словам Белого, в примитивном коллективе
всякий иначе слаженный, – хозяйственник ли, инако мыслящий ли, инако ли сеющий репу, внушает ужас любому скопищу людей, которое тут же срастается в одно огромное чудовище <…> Это значит по-нашему: индивидуальные хозяйственные формы теснят отовсюду патриархальный строй жизни <…> «оторванец» образовал вроде провал, дна которого «никто не видал» <…> Чрез преступление одного ввалилось неведомое <…> и уже мелькают подозрительные тени: купец-«москаль», «цыган»-вор, жид-«шинкарь», норовящие примкнуть к тому, в ком расшатано родовое начало: нетверды – безродные, им легко оторваться; «оторванец» – тот предатель <…> Когда при «оторванце» являются иностранцы – жди беды[566]566
Белый А. Указ. соч. С. 49–50.
[Закрыть].
Впоследствии колдун эволюционирует в почти столь же демонического Костанжогло из второго тома «Мертвых душ» – вестника капитализма, который пробивается сквозь рутину крепостного строя.
Наивно было бы отрывать «Мастерство Гоголя» от тогдашних политических реалий. На книге сказались как старые, так и новые большевистские клише, включая универсально-коммунистический пафос принудительного коллективизма, бросающего убийственный вызов буржуазному, крестьянскому и интеллигентскому индивидуализму. Вопрос в том, как именно они сказались.
Само собой, антитеза класса и личности всячески эксплуатировалась в марксистских кругах задолго до всякой коллективизации. Так, Троцкий еще в 1912 году поместил в «Киевской мысли» статью «Об интеллигенции», где, полемизируя с «Вехами», уличал ее в беспочвенности, то есть полнейшей оторванности от реальных социальных сил России. Эту публикацию он переиздал в 1922 году, в 6-м томе своих сочинений. Между тем как раз тогда, по завершении Гражданской войны, завязалась борьба партаппарата с самим Троцким – человеком пришлым, чужаком, которого и раньше не любили многие партийные ветераны. Даже у Ленина, высоко ценившего его заслуги, в беседе с Горьким просквозила фраза: «С нами, а не наш». После смерти диктатора триумвират в лице Сталина, Каменева и Зиновьева, поддержанных Бухариным, неустанно обличал Троцкого, так сказать, уже в чисто «веховском» пороке – в отсутствии подлинной связи с российским рабочим классом и большевистской партией. «Отец Октября», как раньше величали Троцкого, предстанет теперь сатанинским выродком, агентом иностранного капитала. В 1929-м, за несколько лет до того, как Белый завершил свое исследование, его депортируют в Турцию. Это был самый вопиющий пример того «отщепенства», о котором на другом материале рассуждает Белый в качестве гоголеведа.
В его анализе «Страшной мести» сквозной образ индивидуалиста, отвергающего коллективный, роевой строй жизни, необходимо рассматривать на фоне «сплошной коллективизации», когда вместе со словом «вредитель» в набор советских ругательств навсегда вписалось и слово «единоличник». В период создания «Мастерства Гоголя» кремлевская паранойя вообще неустанно набирала репрессивные обороты. Их история, конечно, тысячекратно описана, и за ее очередной пересказ я приношу извинения компетентному читателю; но приходится напомнить о том, что для сегодняшнего поколения по большей части затянуто дымкой древности. Итак, спецы тогда же были объявлены «агентами антисоветских организаций международного капитала» (доклад Сталина от 13 апреля 1928 года). Свирепая травля таких «агентов» проходила на фоне чисток, митингов и сталинского призыва к активизации миллионных рабочих масс в борьбе с коварным врагом, а в газетах и на плакатах визуально подкреплялась демонизирующими карикатурами.
Интеллигенция, конечно, была запугана, но пока еще не вся и не полностью. Под тем или иным камуфляжем, в различных формах советский террор отобразился, как известно, в литературном творчестве его потенциальных жертв – но и у некоторых ученых, безотносительно к тому, что находилось в центре их профессионального внимания. Я уже отмечал, в частности, что пропповская «Морфология сказки» (1928) несет на себе отпечаток большевистской карательной политики и нового Уголовного кодекса (1926) и непосредственно перекликается с терминологией Шахтинского дела, во время которого она и вышла[567]567
Вайскопф М. Птица тройка и колесница души: Работы 1978–2003 гг. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 511–519.
[Закрыть]. В значительной степени техника «применений» относится, однако, и к монографии Белого. На ней лежит тень криминально-политических инсценировок, организованных ГПУ еще до Голодомора, – тень Шахтинского процесса 1928-го и дела Промпартии 1930 года (когда и родилась сентенция Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают»). Тем примечательней, что инспирированная зычной пропагандой вражда советского коллектива к коварным чужакам получает в беловской интерпретации «Страшной мести» – как ключевой повести «первой фазы» – направление, решительно контрастирующее и с Орестом Миллером, и с казенным антииндивидуализмом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.