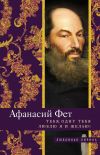Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
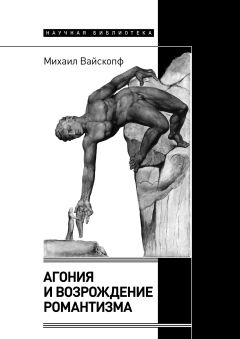
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
В «Отчаянии», в другой, более ранней псевдоисповеди, произнесенной Германом в Тарнице еще перед самим Феликсом (гл. 5), он с умилением измышляет идиллию своего детства – у любящих богатых родителей, с садом и розами, за которыми он старательно ухаживал. Если Розен простодушно закодировал собственную фамилию в имени героини и куртуазно-галантерейном показе ее розария («Мне кажется, вы идеальная царица цветов и улыбаетесь своим милым подданным!»), то Набоков, обожавший каламбуры, шифрует у себя и само название повести – «Розалия», и фамилию ее незатейливого создателя, отозвавшуюся в безысходно банальном, зато настойчиво маркированном там слове роза.
Герман преподносит здесь Феликсу именно этот инфантильно-розеновский макет своей предыстории – дивный розовый сад, где якобы протекало его безмятежное детство (= клишированно романтическая ностальгия): «Представь себе розовую чащобу, целые заросли роз, розы всех сортов» (3: 446). Затем он перескакивает к столь же типовому и уже собственно эротическому продолжению адамической темы: к своему печальному одиночеству в раю:
Потом родители мои разорились, померли, чудный сад исчез, как сон, – и вот только теперь счастье как будто мелькнуло опять. Мне удалось недавно приобрести клочок земли на берегу озера, и там будет разбит новый сад, еще лучше прежнего [на деле он заманивает жертву к месту убийства]. Моя молодость вся насквозь проблагоухала тьмою цветов, окружающих ее, а соседний лес, густой и дремучий, наложил на мою душу печать романтической меланхолии. Я всегда был одинок, Феликс, одинок я и сейчас (3: 447).
Как правило, в романтических повествованиях об эротической встрече преобладает, однако, не статическая, а динамическая мотивная серия. Вещая тревога претворяется в движение, которое тоже должно будет увенчаться воплощением заветного образа.
Субститутом мистического влечения к Иисусу или к Мадонне у романтиков была беспредметная взволнованность, дуновение чего-то необычайного, часто аранжированное ветром; в душе звучал манящий голос, нередко дополняемый или заменяемый музыкой. Чувство унылой пустоты, жаждущей заполнения, отсылало героев в якобы случайный или бесцельный путь. Растерянности и несфокусированному томлению вторил унылый либо интригующий дорожный ландшафт, родственный пустыне и/или лабиринту (безлюдье, подъемы и спуски, зигзаги крутых переулков, кладбище и т. п.), куда путник забредал тоже будто бы случайно, а на самом деле ведомый таинственной силой. Эмоция овнешняется в пространстве или, напротив, пространство как бы интериоризируется, чередуя символы могильной безнадежности с проблесками небесного инобытия: перед нами универсальный переход через хаос и символическую смерть, отвечающий потребностям рассказа об эротическом обновлении страждущего духа.
Так или иначе, в критический момент сумрачный дорожный фон, лабиринт или другая недружественная среда светлеет (реже схема работает на прямом контрасте между неприветливым окружением, например сумятицей бала, и внезапной радостью). Понурый настрой вытеснялся у мечтателя безотчетной эйфорией, предвещающей рождение сокровенного «друга», который латентно уже созидался в недрах его души. Впрочем, эти перебои отчаяния и воодушевления – имеющие сложные религиозные корни – могут некоторое время пульсировать даже в объеме одного и того же фабульного блока, пока тот не получит завершения. Тогда вымечтанный «друг» наконец прорастет в явь, исподволь словно собираясь при этом из внешних реалий или, как в случае св. Терезы Авильской, из элементов своего собственного образа.
Соответственно, кульминацией романтического сюжета станет, как правило, счастливое узнавание[637]637
Характерно, что та же визионерская последовательность: звук – зримый контур безотчетно удержана и в совсем незатейливой «Розалии»; отсюда сама последовательность реакций: «Мое чувство узнало тебя: твой голос, жар твоих речей, разительное сходство движений – все тревожило меня сладким воспоминанием о нем!»
[Закрыть], памятное нам хотя бы по экстазу пушкинской героини: «Ты чуть вошел, я вмиг узнала». Тот факт, что наивная и восторженная Татьяна ошиблась в своих наитиях, не отменяет их метафизической основы. В момент встречи романтический мечтатель обычно сразу припоминает ту, которой никогда раньше не видел (и vice versa)[638]638
Вайскопф М. Указ. соч. С. 582–584.
[Закрыть], но предощущал, предугадывал либо создавал/воссоздавал в смутных грезах. Безотносительно к вероисповеданию, рефлексии или взглядам любого писателя этот платоновский анамнезис по логике вещей подразумевал предсуществование обеих душ, теперь опознающих друг друга в земной юдоли (ср. выше в главе о Вагнере). Мотив был подхвачен и последующей, в том числе реалистической или квазиреалистической русской литературой, сохранявшей неизбывную зависимость от отечественного романтизма, – отсюда, среди прочего, соответствующий эпизод в «Идиоте» Достоевского.
Набоковский рассказ о самом знакомстве героя с двойником, предшествовавший его процитированным выше фальшивым и злонамеренным признаниям, с вводных страниц следовал все же именно этой динамической схеме. Иными словами, один и тот же сюжет по-разному подавался здесь в двух фабульно нестыкующихся, но внутренне изофункциональных мотивных сериях. Мы начали со второй, реликтовой, но пора обратиться к первой – и решающей.
Действие завязывается на окраине Праги (которую, кстати, Набоков сильно недолюбливал), где герой-рассказчик, сообразно указанному канону, оказался почти случайно. Впоследствии, подытоживая на бумаге инициальные события, он вспоминает, как внутренняя опустошенность и безотчетный порыв тогда побудили его «от нечего делать» отправиться на бесцельную вроде бы прогулку, инициированную каким-то внутренним зовом: «А если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня». «По узким улицам» летал ветер – его адекват, обычное предвестье романтических метаморфоз, заданное, в частности, библейскими стихами о животворном духе[639]639
Abrams M. H. The Correspondent Breeze. Essays on English Romanticism. NY: Norton; L. 1984. P. 25–26; 33–34. См. также: Davydov S. «Despair» // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. NY: Garland, 1995. P. 94–95.
[Закрыть] и сотворении мира; его магические порывы будут обрамлять потом все ключевые этапы книги.
В «различных свойствах» маршрута чередуются плюсы и минусы – такие же дорожные меты романтической контроверсальности, как и само небо: «Облака то и дело сметали солнце, и оно показывалось опять, как монетка фокусника». В начале пути Герман видит «белую лошадь», которую вываживает солдат, – некую эмблему движения и универсальный солярный символ.
Вот, без цели еще, я блуждаю. О чем я, в самом деле, думал? То-то и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания. Дымка каких-то мыслей <…> о различных свойствах тех мест, которыми я шел, – дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня (3: 399–400).
Герман «пошел наугад» – и вышел на заманчивый вольный простор (предисловие к будущей эйфории), где на солнцепеке млел «дырявый сапожок» – будто приглашая к восхождению, добавим от себя. Путник стал взбираться к небу «по великолепному крутому холму» – но «великолепие его оказалось обманом» и сменилось архетипическим лабиринтом: «Вилась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот дойду до какой-то чудной глухой красоты [симптомы грядущей эйфории], но ее все не было». Взамен райской благодати появится жалкая карикатура на нее – «растительность низкая и неказистая», «кусты росли прямо на голой земле, и все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы». Узкий путь среди мусорного пустыря амбивалентно сочетает в себе подъем со спуском в могилу: «Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть; из земляных стен по бокам <…> торчали корни и клочья гнилого мха». А там, куда Герман поднялся, он нашел лишь жалкие суррогаты жизни – «на веревке надувались мнимой жизнью подштанники»; кругом «унылые, бесплодные места».
Усилия героя оправдает «единственная красота ландшафта» на отдаленном пригорке – «окруженный голубизной неба круглый, румяный газоем, похожий на исполинский футбольный мяч». Так в индустриально-спортивном обличьи возникает мандала, знамение индивидуации по К. Г. Юнгу: светлый круг или шар как символ обретаемой самости, цельности и центрированности – символ божественного начала в душе, ее солнце.
Сторонясь прихотливых спекуляций аналитической психологии, я все же разделяю то мнение, что ее известные методологические пороки ничуть не дискредитируют фундаментальной юнговской доктрины об архетипах и коллективном бессознательном – и было бы ошибкой игнорировать ее применительно к «Отчаянию» лишь на основании пренебрежительных замечаний Набокова, не более достоверных, чем душевные излияния его героя перед Феликсом. Только что приведенные сцены романа допустимо сопоставить с судьбоносным сновидением Юнга, которое впервые побудило его изучать мандалы и которое я пересказываю тут по классической компиляции Аниэлы Яффе. Когда-то, в пору невзгод, ему приснилось, что он оказался в отвратном и грязном Ливерпуле, расположенном почему-то наверху, на скале. В промозглом ночном тумане Юнг вместе с земляками-швейцарцами взобрался по крутым улочкам к его центральной площади – а посреди нее увидел «круглый пруд» с сияющим островом в центре; тогда же он услышал, что где-то рядом и непонятно зачем живет какой-то «другой швейцарец». С этим сновидением, торжественно констатирует Юнг, у него «было связано ощущение некой окончательности, завершенности»[640]640
Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления / Пер. с нем. Киев: AirLand, 1994. С. 199.
[Закрыть]. Видимо, «другой швейцарец» функционально соответствует столь же неожиданному двойнику Германа. И в последующих эпизодах романа, да и в других набоковских текстах – например, в рассказе «Облако, озеро, башня» (набор идеальных мандал) – найдется еще немало поразительных совпадений с Юнгом, у которого запечатлены, среди прочего, буквальные встречи с двойником – мертвым или, напротив, властителем жизни. В «Отчаянии» полубезумный герой – реализуя в придачу футбольный мотив, – носком ботинка скинет картуз с головы бродяги – и с восторгом узрит свой (мнимый) образ и подобие: «Герман нашел себя» (3: 425), – скажет он.
Тем не менее в историко-литературном плане Набоков опирался, повторюсь, в первую очередь на соприродные ему романтические традиции – на романтический же манер оспаривая их. И здесь нам необходимо будет вернуться к судьбоносной встрече, заново взглянув на ее стадиальность, в которой иллюзорная теофания скоординирована была с поступательно-демиургическим процессом.
Итак, герой подметил сначала «дырявый сапожок», затем «надувавшиеся мнимой жизнью подштанники» – а когда он увидит спящего бродягу, то в показе его будут маркированы прохудившаяся обувь и «обшарканные штаны», уже надувшиеся – или почти надувшиеся – жизнью. Словом, незримый еще образ исподволь монтируется из его собственных частей. При этом после памятного нам солярного шара, окруженного небом, заключительный отрезок маршрута помечен уже чисто библейскими ориентирами, направляющими путника именно к тому, что он «бессознательно искал». Пройдя «тропинку между двух лысых горбов» (удвоение Голгофы, а вместе с тем разомкнутые пока полукружия мандалы), он наконец обнаружит собственный образ и подобие «около терновых кустов». Это отсылка к терновому кусту из Исх. 2: 1–3; и характерно, что по-английски тот будет обозначен, как в Библии, именно в единственном числе (расчет на англо-американских читателей-протестантов, хорошо знакомых с Ветхим Заветом) – а бродяга размещается прямо под его сенью: «under a thornbush».
Следует теофания, пусть даже мнимая: «Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью» (3: 399–401). Перед нами бесспорная, хоть и травестийная аллюзия на теологические определения, перешедшие от Аристотеля к Фоме Аквинскому и ко всем вообще христианским конфессиям: Бог – это абсолютно совершенная и самодостаточная сущность, причина всех причин, не имеющая никакой собственной причины. По хрестоматийному слову Державина (взятому, впрочем, из Паскаля), Бог существует, «Себя Собою составляя, Собою из Себя сияя» (ода «Бог»). Или, как говорилось в гимназических учебниках Закона Божия, Он «не сотворен никем», а непостижимое совершенство Его духа «состоит именно в несозданности, безначальности»; «Бога нельзя видеть» – но в евангельские времена можно было зато узреть во плоти Его единосущного Сына[641]641
Царевский Арсений, протоиерей, профессор Юрьевского университета. Уроки по Закону Божию. М., 2009. С. 36–37.
[Закрыть].
Мечтая о соитии с Ним, католические эротоманы, которым по-своему подражали романтики, пытались устранить визуальные и прочие препоны. Естественно вместе с тем, что в эпизоде первой встречи Германа со псевдодвойником не было и в помине шаблонно романтического обожествления небесного или, так сказать, полунебесного возлюбленного, замененного у Набокова убогим бродягой – почти что изделием Германа, над завершением, а затем умерщвлением которого он еще будет упорно трудиться. Тем не менее в стадиальном выявлении и раскрытии этой своей ходячей копии он, как мы убедились, удерживал генетическую связь с эротической теофанией, унаследованной романтиками, безотчетно выявив ее гомосексуальную основу.
Сама же недоступность подлинно Божьего лика предопределялась Ветхим Заветом – точнее, речением Всевышнего:
Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых <…> Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо (Исх. 32: 20, 22–23).
Во второй части «Отчаяния» устами своего разочарованного героя Набоков будет с негодованием акцентировать именно эту фрагментарность – некую игру Божества с адептом. В зачине шестой главы, где Герман запальчиво декларирует свой атеизм, он обвинит Бога и в том, что тот
никогда – заметьте, никогда! – не показывает своего лица, а разве только исподтишка, обиняками, по-воровски – какие уж тут откровения! – высказывая спорные истины из-за спины нежного истерика (3: 458).
Последние слова – высказывать истины из-за спины – означают, что в откровениях доминирует опять-таки голос, речь; видения же даются «исподтишка, обиняками» – то есть они мимолетны и отрывочны, а главное, что «нежные истерики» никогда не видят Его лица.
Требуется ретроспективно отследить, наконец, и сопутствующие библейские реминисценции, которые педалируют глубинную религиозно-антирелигиозную проблематику «Отчаяния». Уже во вводном абзаце герой-рассказчик, восхваляя свой творческий дар и упреждая кульминационную сцену романа, говорил о себе в третьем лице: «Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом…» (3: 397). Подразумевается шестой стих из девятой главы Книги Бытия, – закон, запрещающий «проливать кровь человеческую» и не раз подтвержденный потом в других речениях. Первым, кто его нарушил, причем еще до откровения, был Каин, убивший своего брата Авеля: «И сказал Господь: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4: 10). Этот ветхозаветный рассказ (наряду, естественно, с мифологическими сюжетами сходного типа), ставший моделью для многих европейских и прежде всего романтических историй о братоубийстве, отзовется и у набоковского Германа, который в беседе с женой назовет будущую жертву своим братом – при всех поправках на Розена.
Еще одна довольно явственная отсылка к Писанию, на сей раз к Книге Исхода, – это «ярко-желтый столб», который станет для Германа и судьбоносной вехой на пути к его главному творческому деянию – убийству, и тем местом, где оно совершится:
Этот одинокий столб превратился для меня впоследствии в навязчивую идею <…> Мои видения по нему ориентировались. Все мои мысли возвращались к нему. Он сиял верным огнем во мраке моих предположений (3: 417).
Трудно, кажется, не опознать здесь Огненный столп (Исх. 13: 21–22), освещавший путь народу Израиля во время его исхода в Землю обетованную[642]642
Странным образом М. Гришакова просто причислила этот столб к броским визуальным маркерам Набокова, ориентированным на кинематограф: Grishakova M. The Models of Space, Time and Vision in Nabokov’s Fiction: Narrative Strategies and Cultural Frames. Tartu, 2006. Р. 179.
[Закрыть].
Христианская традиция аллегорически переосмыслила ветхозаветный Исход как внутреннее воскресение, ведущее человека от духовного рабства к обретению истины, – и эту прообразовательную гомилетику набоковский герой словно бы адаптирует к собственному пути – к итоговому, безукоризненно выполненному убийству как своей творческой индивидуации. До преступления он существует еще в несовершенном – раздвоенном виде, чуть ли не на правах собственной копии; и здесь характерен его очередной пародийный наскок на традиционные верования. В канун роковой встречи в гостинице Герман без обиняков травестирует в собственной персоне догмат о двойном – богочеловеческом – естестве Иисуса: «Я здесь представлен в двух лицах» (3: 436). Однако законченным постижением сути вещей станет для него не только убийство двойника, но и своя чаемая казнь, сулящее ему подлинный исход из «этого темного, зря выдуманного мира» подобий в блаженство «вечного небытия».
И все же, на мой взгляд, атеистический пафос Германа подорван некоторым скепсисом, который нагнетается в узловых моментах его повествования – слишком уж отчетливо они выдают свою генетическую связь с религиозной или смежной риторикой, также идущей от Библии. В символически педалированный момент – в преддверии Нового года – любовник Лиды художник Ардалион как бы в шутку пророчит ему участь будущего Цинцинната – декапитацию: «Все равно он в этом году будет обезглавлен»; а сама эта новогодняя ночь изображена в зловещих тонах, совместно подсказанных и поэзией, и Писанием: «Помню эту черную тушу ночи, дуру-ночь, затаившую дыхание, ожидавшую боя часов, сакраментального срока». Так сгущается набор эсхатологических реминисценций: и из Исайи («Сторож, сколько ночи?»), и из Блока («Из непомерной стужи, / Словно хриплый бой часов – / Бой часов[643]643
О другой аллюзии на эти стихи – в «Приглашении на казнь» – см.: Сконечная О. Русский параноидальный роман: Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков. С. 238.
[Закрыть]: „Ты звал меня на ужин. / Я пришел. А ты готов?“»), и из Маяковского; ср.: «Пришла. / Пирует Мамаем, / задом на город насев. / Эту ночь глазами не проломаем, / черную, как Азеф» («Облако в штанах»).
В том же ключе Герман преподносит новогоднюю вечерю, коллективный портрет действующих лиц: «За столом сидят Лида, Ардалион, Орловиус и я, неподвижные и стилизованные, как зверье на гербах». Следуют соответствующие уподобления, по поводу которых А. Долинин и О. Сконечная напоминают, что основные персонажи «Отчаяния» вообще «имеют определенные зоологические коннотации: Ардалион соотнесен со львом, Лида – с козой[644]644
Ардалион однажды упрекает Лиду за рассеянность словечком: «Экая ты росомаха!» (3: 465) – ср. у Даля: «Росомаха, бранное новг. твер. ряз. кур. симб. тамб. Разиня и неряха. Ходишь росомахой, распустив одежду нараспашку».
[Закрыть], как на прощание страстно называет свою кузину-любовницу пьяный Ардалион (3: 479), Орловиус – с орлом (через свою фамилию)» (3: 767). Стоит добавить, что в последнем случае семантика несколько даже утрирована посредством метафоры, запечатлевшей руку Орловиуса – «старческую, с когтями грифона» (возможно, аллюзия на его мрачную профессию страхового агента, связанную со смертью). Самого себя Герман в той же сцене величает, однако, «человеком-молнией, озарившим эту картину» (3: 436).
Понятно, что под «молнией» подразумевается всего лишь фотоснимок с магниевой вспышкой – но поражают внятно библейские и новозаветные коннотации этой сцены, на мгновение приоткрывшие мощный религиозный потенциал набоковского романа, приглушенный его полудетективной фабулой. Перечислены именно те существа, что явились пророку Иезекиилю в видении «Славы Господней» – где они обозначены в качестве своих же собственных «подобий», а не воплощения самой Божественной сути:
Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны <…> а с левой стороны лице тельца у всех четверых и лице орла у всех четырех <…> Огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня» (Иез. 1: 10, 13).
Тот же комплект воспроизводится потом в Апокалипсисе:
И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему (Откр. 4: 7).
Понятно, что отсутствующего «тельца» на этой картине у Набокова комически замещает «коза».
Возможно, внимание Набокова привлек именно мотив «подобий», корреспондирующий с его ведущей гностико-неоплатонической темой – и не только в «Отчаянии», но и в «Приглашении на казнь», чей герой тоже томится в мире копий, кукол, подделок, заслоняющих от него ту суть, что раскроется ему лишь после смерти. В обоих романах перед героями стоит отчасти тождественная проблема, решение которой в обоих случаях обусловлено будет их казнью.
Его демиургические потуги обернутся самообманом – той самой мнимостью, которую он вменяет окружающему бытию, переполненному, как он думает, фальшивыми тавтологиями. Тема парности нагнетается, среди прочего, в показе отеля и его насельников: «Когда мы вошли в номер, то у меня было опять ощущение чего-то очень знакомого» (3: 453). Как и в некоторых других топографических точках (сосновый бор и пр.), здесь все двоится, включая телодвижения – и перечень гостиничных дубликатов подытоживается пародией на новозаветный догмат о богочеловеке: «Я здесь представлен в двух лицах» (3: 436).
Упраздняя все пространственно-временные разрывы, герой почти что отождествляет глухой саксонский городок с родной Охтой и российской провинцией, на демиургический лад выстраивая из них нечто единое: «опять стало все соединяться, строиться, составлять определенное воспоминание» (3: 436). Он отправляется на свидание – попутно приобщая к коллекции повторов уличные виды, в том числе подмеченную им «фамилию над булочной» и памятник, могущий «сойти за петербургского всадника»; а в табачной лавке Герман видит натюрморт (тоже с двумя розами: реплика на вымышленный им былой розарий), который ошибочно принимает за работу Ардалиона. Дожидаясь припозднившегося двойника, он вдруг «почему-то подумал, что Феликс не может прийти по той простой причине, что я сам выдумал его, что создан он моей фантазией, жадной до отражений, повторений, масок», – да и весь Тарниц
был построен из каких-то отбросов моего прошлого, ибо я находил в нем вещи, совершенно необъяснимые по жуткой и необъяснимой близости ко мне: <…> домишко, двойник которого я видел на Охте, лавку старьевщика, где висели костюмы знакомых мне покойников, тот же номер фонаря (всегда замечаю номера фонарей), как на стоявшем перед домом, где я жил в Москве, и рядом с ним – такая же голая береза <…> с тем же раздвоенным стволом (3: 438).
Выделенный в инвентаре постылой вечности фонарь, как до того «аптека», о которой герою напомнил графин «с мертвой водой» на столике в гостинице, – конечно, отсылка к блоковскому кошмару вечного повторения: «ночь, улица, фонарь, аптека…»
Словом, город предстает его персональным отражением, а демиургическая активность – свойством ограниченной творческой памяти героя, неспособного вырваться из плена зеркал и фальсификаций; но эту ненадежность он готов инкриминировать и всему миру – как нашему, так и потустороннему. Неразрешимая проблема – впрочем, сквозная для Набокова – заключается в том, что обман может оказаться не только тупиком, но и таинственным узором судьбы, которая принимает на себя роль режиссера в театре теней и управляет действиями самого героя-мистификатора.
Заново встретив здесь Феликса, он переносит на него все то же демиургическое строительство искомого образа, стилизуя показ под раздумчиво-медлительную киносъемку (вероятно, с оглядкой на свою выдуманную профессию киноактера), – и лишь неохотно завершает заготовку образа, приставив к нему лицо:
Сперва: пыльные башмачища, толстые носки <…> лоснящиеся синие штаны… еще выше – знакомый воротничок… Тут я остановился. Оставить его без головы или продолжать строить? (3: 440).
Ту же участь – остаться без головы – будущему убийце самому предрекает в новогоднюю ночь художник Ардалион: «Все равно он в этом году будет обезглавлен» (3: 463).
По сути, еще первая встреча Германа с лежавшим на земле бродягой, до того, как его открывшийся облик ошеломил героя, провиденциально акцентировала в Феликсе черты безжизненности: «мертво раздвинутые колени», «деревянность полусогнутой руки», а неподвижное лицо спящего напоминает Герману лицо «покойника» – ведь это пока еще мертвая маска самого героя, «личина трупа» (в каковой герой к концу книги и обратит Феликса, добиваясь «художественного совершенства», явленного в статике смерти). Его оживление героем симптоматически согласовано с Книгой Бытия: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым» (Быт. 2: 7) – ср.: «Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу».
Казусный пример сходного рода являет собой, однако, и портрет самого Германа, который вознамерился написать любовник его жены Ардалион. Сам по себе этот убогий персонаж – еще одна уводящая в сторону пародия на романтизм, точнее на избитый типаж художника как заместителя Творца; а между тем в этом своем профессиональном амплуа Ардалион травестийно дублирует именно Германа, на тот же романтический манер соперничающего с Создателем. Ожидаемое завершение собственного портрета герой решает синхронизировать с будущим окончанием совсем иного «произведения», то есть с убийством Феликса как искомым обретением своего точнейшего подобия, которым станет «покой лица, художественное его совершенство»: «Я поставил себе срок: окончание портрета». Однако живописцу никак не удается запечатлеть «трудное лицо» модели – вроде того, как св. Терезе никак не удавалось уловить черты божества: «В нем есть что-то странное, – сетует Ардалион. – У меня все ваши линии уходят из-под карандаша. Раз – и ушла». Нет пока и глаз на портрете. Цель недостижима – и не только из-за бездарности Ардалиона, но по причинам метафизического свойства. В ночных галлюцинациях Герману мерещится его собственное отражение в воде, но не застывшее, то есть идеальное, а «исковерканное ветровой рябью – и я вдруг замечал, – говорит он, – что глаз на нем нет»; причем эта фраза тут же дополняется репликой из другой сцены: «„Глаза я всегда оставляю напоследок“, – самодовольно сказал Ардалион».
С одной стороны, Герман непроизвольно пародирует собой неуловимое для целостных изображений божество; с другой, он, живущий в текучем мире подобий, просто не имеет самоценной незыблемой личности, духовного ядра. Итоговый портрет (в «модерном штиле») окажется не более схож с оригиналом, чем убитый Феликс, которого он по недоразумению считает своей копией.
На деле Герман одержим не столько атеистическим задором, сколько мыслью о соперничестве с Творцом. Чтобы лучше разобраться в этом обстоятельстве, нам придется вспомнить и о барочно-романтическом взгляде на художника (поэта и пр.) как на «второго бога», который подражает Книге Бытия с ее одушевленным «образом и подобием», замыкающем Шестоднев. Представители Золотого века, под совместным воздействием Библии и немецкого идеализма, славословили такой креационистский итог как конечную цель государя или писателя, сумевшего, подобно Господу, в собственном создании воплотить свой (либо, шире, национальный) дух. Такой подход отличал, например, любомудра С. Шевырева: «Как в миг созданья вечный Бог / Узнал себя в миророжденьи, / Так смертный человек возмог / Познать себя в своем твореньи»[645]645
Урания. Карманная книжка на 1826 год для любительниц и любителей русской словесности, изданная М. Погодиным. М.: В тип. С. Селивановского, 1826. С. 67.
[Закрыть]. М. Деларю в своей версии imitatio Dei тоже отождествлял творческий акт с усладительным самоотражением автора, несущим ему нарциссический покой: «И верю я: восторгов муки / Мне принесут желанный плод, / И эти образы и звуки / Одно созданье обоймет: / Душа с покоем вновь сроднится / И в том созданье отразится, / Как небеса в зерцале вод»[646]646
Деларю М. Д. Опыты в стихах Михаила Деларю. СПб.: тип. Деп. внеш. торг., 1835. С. 121.
[Закрыть]. Характерную манифестацию таких взглядов мы найдем и у Егора Розена, но уже не в «Розалии», а в другой его повести – «Зеркало старушки», где в качестве imitatio Dei фабулу предваряет несколько манерный панегирик зеркалам (одним из них объявлен портрет героини в юности):
Нарциссическому самоупоению розеновского Всевышнего вторит и набоковский Герман, заполучив двойника: «Сейчас весь смысл моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение».
Трудно все же понять, как соотносилась эта идея творческого зеркала, воспринятая автором у романтиков, с другой их излюбленной мыслью – о посмертном возвращении бытия к его библейскому первообразу: «Когда пробьет последний час природы, / Состав частей разрушится земных: / Все зримое опять покроют воды, / И Божий лик отобразится в них». Ведь Тютчев был одним из любимых поэтов Набокова.
Казалось бы, в «Отчаянии» романтико-демиургические амбиции Германа парадоксально инвертированы, коль скоро свое «живое отражение» полубезумный герой целенаправленно пестует не для новой жизни, а для убийства, считая его апофеозом искусства (идея, по наблюдению С. Давыдова, восходящая к эссе де Квинси[648]648
Давыдов С. «Тексты-матрешки»… С. 66–70.
[Закрыть]). Но инверсия эта ярко подтверждает исконно романтическую суть набоковской книги, хоть и пропущенную через родственную ей традицию детективных ребусов и повествований о двойниках, деформированную авторской иронией (мы знаем, насколько житейски подслеповатый фантазер Набокова склонен к самообманам). Ведь в чисто метафизическом плане для Германа-«творца» запланированное им уничтожение своего одушевленного дубликата – это достижение именно того совершенства, которое романтики трактовали как мертвенно-идеальный покой, запечатленный в первозданном зеркале вод. Просто в «Отчаянии» говорится о насильственном прекращении персонального, а не вселенского бытия (трактуемого как морок) – с привнесением того же мотива оцепенелого водного зеркала: «Смерть – это покой лица, художественное его совершенство; жизнь только портила мне двойника; так ветер туманит счастье Нарцисса», – здесь не столь важно, настоящего или мнимого. И ниже: «Теперь, когда в полной недвижности застыли черты [Феликса], сходство было такое, что, право, я не знал, кто убит – я или он <…> Мне казалось, что я гляжусь в недвижную воду». Тютчевский ход сжат до индивидуального апокалипсиса.
По-настоящему логичным решением со временем покажется Герману не только убийство дублера, но и своя неизбежная казнь, сулящая ему долгожданный исход из «этого темного, зря выдуманного мира» сплошных подделок и копий в достоверное, доподлинное царство «вечного небытия». Для другого набоковского героя альтернативой станет, однако, сократовская надежда на загробное обретение истины как утраченного оригинала земной жизни – та надежда, которую вынашивает смертник Цинциннат, лишь «ошибкой попавший… в этот страшный, полосатый мир»: «Должен же существовать образец, если существует корявая копия». И здесь знаменательны как инерционная связь новой книги с «Отчаянием», так и ее решительный разрыв с ним.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.