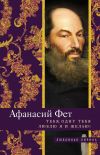Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
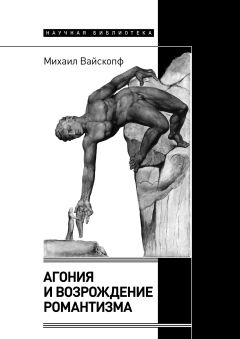
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
«Государство» Платона в поэзии советского авангарда
Две заметки
В обзорной статье о судьбах платоновского наследия в Советском Союзе Ф. Незеркотт справедливо пишет, что в годы военного коммунизма ссылки на «Государство» Платона призваны были «подчеркнуть актуальность первого „коммунистического“ проекта для большевистских воззрений на построение нового общества». Однако к середине 1920-х годов применительно к философу в подобных сопоставлениях уже нагнетается марксистско-критическая нота, а к началу следующего десятилетия, под давлением сопутствующих политических обстоятельств, знаменитая утопия подвергнется агрессивному осуждению[498]498
Незеркотт Ф. Восприятие Платона в Советской России (1920–1960-е гг.) / Пер. Ю. Тихева // Логос. 2011. № 4(83). С. 158–169.
[Закрыть].
Так или иначе, живой интерес к «Государству» в советской культуре, включая ее авангардистскую стадию, продолжал ощущаться на протяжении всех 1920-х годов. Связан он был как с социальной доминантой утопии, так и с нелицеприятными суждениями Сократа о судьбах искусства в его идеальном полисе.
Н. Заболоцкого, увлекавшегося философией на доступных ему в СССР материалах, волновала, как мы убедимся, метафизическая проблематика диалога, воплощенная в прославленных аллегориях «пещеры». Других поэтов куда больше заботила их собственная участь при том безнадежно совершенном строе, который им сулили коммунисты. Этим двум принципиально различным аспектам платоновской утопии и посвящены две прилагаемые заметки.
О месте поэта в рабочем строю
Во вступлении к поэме «Владимир Ильич Ленин» Маяковский говорит:
Люди – лодки / Хотя и на суше / проживешь свое / пока, много всяких / грязных ракушек / налипает / нам / на бока. / А потом, / пробивши / бурю разозленную, / сядешь, / чтобы солнца близ, / и счищаешь / водорослей / бороду зеленую / и медуз малиновую слизь. / Я / себя / под Лениным чищу, / чтобы плыть / в революцию дальше…
Метафора позаимствована была именно из «Государства» Платона (несомненно, в известном переводе В. Карпова) – точнее, из десятой его книги, посвященной утилитарному предназначению поэзии и вообще искусства в идеальном полисе. Как и в других диалогах, Сократ размышляет тут о душе, загрязненной пороками, которые всячески препятствуют ее движению к изначальной чистоте и мудрости. Вот это-то ее ущербное состояние, поясняет он во всем согласному с ним собеседнику, и норовят, вместе со скверными, безнравственными мифами, запечатлеть поэты. Тем самым они лишь замутняют истину, еще хранящуюся в человеческой душе. Трудно ведь разглядеть исконную природу морского божества Главкона:
из прежних частей его тела одни переломались, другие стерлись и совершенно испорчены волнами, иные же приросли вновь, образовавшись из раковин, морских мхов и кремней.
Лучше смотреть на то, какой сделалась бы душа, если б с великим усилием сумела
вынырнуть из моря, в котором она теперь, и стряхнула с себя кремни и раковины, которыми обложена в настоящее время <…> Тогда-то можно было бы увидеть истинную ее природу (611 c – d)[499]499
Платон. Политика, или Государство // Сочинения Платона, переведенные с греческого и объясненные профессором [С.-Петербургской духовной академии] Карповым. 2-е изд., испр. и доп. Ч. 1–6. СПб.: тип. духовн. журнала «Странник», 1863–1879. Ч. 3. С. 510–511.
[Закрыть].
Конечно, Гомер, как безоговорочно признает Сократ, —
Аналогичная забота обусловила и весьма странное, казалось бы, для Маяковского обращение к Платону, внушенное ему заботой именно о том, как успешно «плыть в революцию дальше», то есть как получше приладиться к режиму. Верноподданническим «гимном богу» станет для него поэма о Ленине. В том же духе оголтелого утилитаризма впоследствии ретроспективно представит он и все свое советское творчество в предсмертной поэме «Во весь голос».
Суровый приговор, вынесенный поэтам, Сократ закрепил в продолжении сентенции о Гомере: «Так пусть это припоминание оправдает нас пред поэзией, что ее такую мы тогда изгнали из города справедливо» (607 b). Пример нищих русских поэтов, мыкающихся на чужбине, мог служить своевременным предостережением Маяковскому. Не зря он притязал теперь на лавры казенного Гомера, соответственно чему и открывалось его песнопение характерно эпическим зачином: «Время, начинаю про Ленина рассказ…» – то есть, по сути, обращением того же типа, что «Илиада»: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» (пер. Гнедича) и «Одиссея»: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже…» (пер. Жуковского).
Участь платоновского Гомера занимала тогда не одного лишь Маяковского. В качестве показательного курьеза позволительно будет сослаться на А. Мариенгофа. В последних строках своего мемуарного «Романа без вранья», написанного им после гибели Есенина и изданного в 1927 году, тот утешался тем, что большевистская Россия далека все же от пугающего идеала:
Платон изгнал Гомера за непристойность из своей идеальной республики.
Я не Гомер.
У нас республика Советов, а не идеальная[501]501
Цит. по: Мариенгоф А. Б. Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова / [Сост., указ. имен С. В. Шумихина, К. С. Юрьева; Вступ. ст., коммент. С. В. Шумихина.] М.: Моск. рабочий, 1990. С. 415.
[Закрыть].
Последние два утверждения сомнений, впрочем, не вызывали.
Пещера: к философскому генезису поэмы Заболоцкого «Безумный волк»
В содержательной работе о «Безумном волке» Сарра Пратт указывает на такие источники Заболоцкого, как «Фауст» Гете, пушкинский «Борис Годунов» (монологи монаха Пимена) и православная традиция с ее верой в «преображение и обожение тварного мира» и культом юродивых[502]502
Pratt S. A Mad Wolf, Faust, Jesus Christ and a Holy Fool: Zabolotskij’s «Bezumnyj Volk», Salvation and Transfiguration // «Странная» поэзия и «странная» проза: Филолог. сб., посвященный 100-летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого. М., 2003. C. 138–155. Дарра Голдстейн, со своей стороны, связывает тематику «Безумного волка» с антропософией Р. Штейнера: Goldstein D. Biodynamics and the Dynamics of Zabolotskian Thought // Там же. С. 124–128. Ее мнение, по существу, не противоречит выводам С. Пратт о фаустовском генезисе поэмы, если принять во внимание глубокую зависимость Штейнера от натурфилософии и метафизики Гете. См. также: Кукулин И. Высокий дилетантизм в поисках ориентира: Хармс и Гете // Кукулин И. Прорыв невозможной связи: Статьи о русской поэзии. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2019. С. 65–90. В связи с темой «Фауста» считаю необходимым сослаться сегодня и на прекрасную, но, увы, совершенно неизвестную исследователям заметку: Орел В. Обериуты: разговоры о Гете // Обитаемый остров / Ред. Д. Кудрявцев и С. Шаргородский. Иерусалим, 1991. С. 30–33.
[Закрыть]. Однако центральную коллизию поэмы можно проследить и к другому весьма авторитетному тексту.
С первых строк герой сетует на то, что не может созерцать небеса: «Зачем у нас не вертикальна шея?» И далее:
Горизонтальный мой хребет
С тех пор железным стал и твердым
И невозможно нашим мордам
Глядеть, откуда льется свет.
Меж тем вверху звезда сияет —
Чигирь, волшебная звезда!
Она мне душу вынимает,
Сжимает судорогой уста.
Желаю знать величину вселенной
И есть ли волки наверху!
А на земле я точно пленник,
Жую овечью требуху.
Сюжет, без всякого сомнения, восходит к не раз помянутой у нас седьмой книге «Государства» Платона[503]503
По мнению Лощилова, Заболоцкий «бесспорно, внимательно читал и „Тимея“, и „Крития“, и, как можно предположить, другие сочинения великого грека, пользовавшегося славой „посвященного“» (Лощилов И. Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki: Inst. for Russ. a. East. Europ. studies, 1997. С. 101). Там же, с. 102, см. о предположительном влиянии «Тимея» с его темой шара на стихотворение «Футбол».
[Закрыть], где человеческое бытие сравнивается с пещерой, в которой томятся узники. По словам Сократа, они
живут в ней с детства, скованные по ногам и по шее, так, чтобы, пребывая здесь, могли видеть только то, что находится пред ними, а поворачивать голову вокруг, от уз, не могли. <…> Свет доходит до них от огня, горящего далеко вверху и позади их <…> Они принуждены всю жизнь оставаться с неподвижными головами.
Устремить душу ввысь, к сиянию истины, сумел бы лишь тот из них, кого бы «развязали, вдруг принудили встать, поворачивать шею, ходить и смотреть на свет». И далее:
Как глазу нельзя было повернуться от темного к светлому, не повертываясь всем телом, так и душе невозможно, <…> пока она не сделается способною вознестись созерцанием к сущему и к сиянию сущего, а это мы называем благом.
Совершенно по-другому, однако, воспринимают эти метафизические порывы остальные обитатели пещеры, которым созерцатель-философ «представляется очень смешным»[504]504
Платон. Политика, или Государство // Сочинения Платона, переведенные с греческого и объясненные проф. Карповым. СПб., 1863. С. 354–355, 359.
[Закрыть]. У Заболоцкого их обывательскую насмешливость означил резонер-медведь:
Имею я желанье хохотать,
Но воздержусь, чтоб волка не обидеть.
В его скептических тирадах появляется и сам образ пещеры – поданной как берлога:
Скажи мне, волк, откуда появилось
У зверя вверх желание глядеть?
Не лучше ль слушаться природы,
Глядеть лишь под ноги да вбок,
В людские лазить огороды,
Кружиться около дорог?
Подумай, в маленькой берлоге,
Где нет ни окон, ни дверей,
Мы будем царствовать, как боги,
Среди животных и зверей. <…>
А ты не дело, волк, задумал,
Что шею вывернуть придумал.
Ни эти возражения, ни глумление зверей не смутили отважного волка, сумевшего все же «вывернуть себе шею» и устремить взоры к горней истине. Стремление души ввысь, воспетое Платоном, воплощается у Заболоцкого в смертельном прыжке-полете героя, взмывающего в небеса и погибающего при падении на землю. Но его жертвенный опыт преобразует жизнь всех прочих волков, причастившихся просвещению и науке.
Воспоминания Андрея Белого о Штейнере
Актуальный контекст
В замечательном предисловии к переписке Белого с Иваном-Разумником Лавров и Мальмстад разделяют творчество писателя (после его благополучного кавказского вояжа 1927 года) на две стабильные «ипостаси»: цензурную и неподцензурную. Первая
зачастую включает в себя казуистические пассажи с использованием современной «марксистской» фразеологии, изощренные попытки интерпретировать то или иное явление в приемлемом для советской идеологической системе ракурсе[505]505
Лавров А. В., Мальмстад Дж. Предуведомление к переписке // Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб.: Atheneum: Феникс, 1998. С. 19. (Далее – Лавров, Мальмстад.) См. также: Воронин С. Д. Андрей Белый и советская власть // Андрей Белый в меняющемся мире: К 125-летию со дня рождения / [Сост.: М. Л. Спивак, Е. В. Наседкина, И. Б. Делекторская.] М.: Наука, 2008. С. 93–94.
[Закрыть].
Не оспаривая этой трактовки, я хотел бы внести в нее некоторые дополнения. Что касается риторики мессианства, столь облюбованной и марксистами, и Белым, то все же наиболее общим, хотя и отдаленным ее субстратом оставался, естественно, Новый Завет. Долго удерживала декоративно-евангельскую окраску и советская пропаганда, которая при всем своем яростном атеизме не слишком камуфлировала сакральные истоки своего пафоса, – так что Троцкий, например, вряд ли побил рекорды коммунистического комизма, когда в статье о покойном Плеханове объявил его «первым русским крестоносцем марксизма». Христианские, да и другие религиозные реминисценции истово эксплуатировались, конечно, и творцами ленинского культа.
При всем том мемуарные и близкие к ним сочинения Белого второй половины 1920-х годов набухали не только общелитургической, но и специфически-большевистской лексикой – и дело тут не в одних лишь его поздних попытках приспособиться к той власти, которую он ненавидел (Там же. С. 18) – вплоть до того, что закавычивал даже аббревиатуру «СССР». Ведь главные из его тогдашних исповедальных и биографических текстов заведомо не были рассчитаны на публикацию, по крайней мере в обозримом будущем. Сюда прежде всего относятся перенасыщенные советским жаргоном «Воспоминания о Штейнере»[506]506
Белый Андрей. Воспоминания о Штейнере / [Подгот. текста, предисл. и примеч. Ф. Козлика.] Paris: La Presse Libre, 1982. Тексты Белого изобилуют всевозможными графическими маркерами, воспроизводить которые я не вижу смысла. Поэтому курсив в статье везде мой, в том числе там, где он воспроизводит выделенный текст оригинала. – М. В.
[Закрыть] (далее – ВШ) и написанный в 1928 году автобиографический трактат «Почему я стал символистом…»[507]507
Белый Андрей. Почему я стал символистом… // Андрей Белый. Символизм как миропонимание / [Сост. и примеч. Л. Сугай.] М.: Республика, 1994. С. 418–493. (Далее ПЯСС.)
[Закрыть] (далее – ПЯСС).
Здесь нам понадобится хотя бы самый беглый экскурс как в советскую историю 1920-х годов, релевантную для нашей темы, так и в персональную историю Андрея Белого, взятую в ее антропософском ключе, чтобы по необходимости скоординировать их между собой.
Итак, после ряда драматических неудач писатель в октябре 1923-го бесславно возвращается в Россию, где его встречает переизданный в книге «Литература и революция» зубодробительный пасквиль Троцкого (впервые напечатанный еще в 1922-м в «Правде»), подытоженный знаменитой сентенцией: «Белый – покойник, и ни в каком духе он не воскреснет»[508]508
Троцкий Л. Д. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. С. 54. (Далее – Троцкий 1991.)
[Закрыть]. Само обращение «вождя Октября» к культуре было обусловлено неуклонным ослаблением его партийно-государственного статуса, подорванного интригами правящей «тройки», которая удачно воспользовалась ленинской болезнью. Тем не менее эта его пасквильная оценка «по тем временам воспринималась законопослушными литераторами как верховный и окончательный вердикт»[509]509
Лавров, Мальмстад. C. 17.
[Закрыть]; да и в остальном «Литература и революция» во многом предопределила господствующие направления советской культурной политики[510]510
Отмечая кое-какие «благотворные отступления» Троцкого в сторону индивидуальной ценности искусства, Ю. Борев в целом подчеркивает все же прямую «родственность эстетики Сталина – Жданова – Троцкого» вплоть до того, что называет их близнецами-братьями: «С начала 30-х годов Троцкого не читали, не упоминали, но в памяти, в подсознании, в устной традиции без идентификации с социально-проклятым его именем жила как теоретический фольклор троцкистская эстетика, сформулированная им в „Литературе и революции“ <…> Вычеркнутый из жизни и культуры своей родины, он жил в сознании ее руководителей не только в виде проклятой личности, но и в виде многих осевших на самое дно их сознания и даже подсознания троцкистских постулатов и установок» (Борев Ю. Эстетика Троцкого // Троцкий 1991. C. 6–7, 10).
[Закрыть].
Директивная статья, по словам Белого, уложила его живьем в могилу, ибо приговору вельможного зоила усердно последовали прочие гробокопатели – «все критики и все „истинно живые“ писатели» (ПЯСС: 483). (С учетом того, что творилось вокруг, уместнее, правда, было бы говорить о всесоюзном могильнике.) Понятно, почему он начнет вспоминать об этом именно в 1928-м, то есть сразу же после итогового поражения Троцкого, уже депортированного в Казахстан. По замечанию В. Паперного, с 1928-го, в частности в «Ветре с Кавказа», продвигаясь навстречу власти,
Белый стал представлять себя как жертву троцкизма, как оклеветанного, но верного марксиста, не причастного ни к каким уклонам <…> Но эта его попытка опережала время: обвинять Троцкого во вредительстве на литературном фронте было еще рано, и таких людей, как Белый, выступать в роли жертв троцкизма и верных помощников партии никто еще не приглашал[511]511
Паперный В. Месоамерика в Москве (О некоторых «тайнах» последнего романа Андрея Белого) // Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация: Материалы междунар. семинара. Тарту, 1997. С. 188, 211 (примеч. 5).
[Закрыть].
Писатель, однако, с неослабной надеждой внимал «кавказскому ветру», дующему из Кремля. В 1931-м, то есть уже после изгнания его зоила из СССР – и на пике репрессий против антропософов, – он в письме к Сталину снова пожалуется, что его по-прежнему травят последователи Троцкого[512]512
Струве Г. П. К биографии Андрея Белого // Новый журнал. Нью-Йорк, 1976. № 124. С. 158–161; Белый А., Санников Г. Переписка 1928–1933. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 191.
[Закрыть], – конечно, в расчете на повышенную восприимчивость адресата к подобным сигналам. Тем не менее в ПЯСС, как мы потом увидим, кладбищенские метафоры он безотносительно к Троцкому распространял и на свой западный антропософский опыт, предшествовавший его репатриации из Берлина.
По возвращении в Россию в 1923-м Белый стал одним из духовных вождей московского – «ломоносовского» – Антропософского общества[513]513
По замечанию М. Спивак, Белый считал себя духовным отцом «ломоносовцев»: Спивак М. Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М.: РГГУ, 2006. С. 214–218. (Далее – Спивак 2006.)
[Закрыть], а затем, по инициативе своего друга Р. Иванова-Разумника, возглавил Вольфилу; но в 1923–1924 годах власти придушили и то и другое, и антропософы ушли в «катакомбы», где их выслеживало ОГПУ[514]514
Подробно об этом «катакомбном» периоде и его печальном финале: Спивак 2006. Гл. 13.
[Закрыть]. Образ «живого мертвеца» станет рефреном его ламентаций, в частности по поводу цензурной тирании. «Хоть ставь крест: чудовищный гнет над словом и писанием», – сокрушается он в обширном, многопланном и очень важном письме к Иванову-Разумнику из Москвы от 6 февраля 1924 года[515]515
Белый Андрей и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступит. статья и комм. А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб.: Atheneum: Феникс, 1998. С. 284. (Далее – Б. – И.-Р.)
[Закрыть].
По занятному стечению обстоятельств, как раз тогда, в октябре 1923 года, когда затравленный Белый был ввергнут чуть ли не в каталепсию, его некогда всесильный враг тоже впал в расслабленно-болезненное состояние, основательно простудившись на охоте. Тем временем в Кремле успешно вели заочную охоту на него самого. «Врачи запретили вставать с постели, – уныло вспоминал Троцкий. – Так я пролежал весь остаток осени и зиму. Это значит, что я прохворал дискуссию 1923 года против „троцкизма“» (фатально пропустил он и ленинские похороны – его обманули насчет их даты[516]516
Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 2. Берлин: Гранит, 1930. С. 238. (Далее – Троцкий 1930, 2.)
[Закрыть]). В ПЯСС Белый, в свою очередь, расскажет, как по вине Троцкого он «два года просидел на замоскворецком заводе, служившем мне скорее одром болезни, которую медленно я преодолевал», – до целительного переезда в Кучино (ПЯСС: 484).
Что касается пресловутой дискуссии, то в декабре 1923-го неукротимый Троцкий начал в «Правде», в письме под названием «Новый курс», ответную кампанию против переродившегося партаппарата – ту войну, в которой ему и другим ленинским приспешникам суждено будет потерпеть жалкое поражение. Уже на XIII съезде РКП(б) в мае 1924-го правящая тройка – Сталин, Зиновьев и Каменев – его разгромила; затем, в ходе многочисленных пертурбаций, разрушивших и самое тройку, последуют еще более драматические провалы.
Казусный параллелизм судеб вполне мог заинтриговать писателя, всегда захваченного тем, что К.-Г. Юнг (к которому он, в частности в «Котике Летаеве», вообще был поразительно близок) позднее назовет «принципом синхронности». Более подробно этого схождения мы коснемся позже, а пока следует подчеркнуть, что, говоря шире, то был странный параллелизм двух весьма разномерных, но сообщающихся миров – советского и его приватного, так что у Белого с историей первого будет в явном или прикровенном виде перекликаться хроника второго.
Коммунистические шаблоны он попытается сделать рабочим подспорьем для собственного мировоззрения – и толчком для скрытого состязания с большевизмом, которое, впрочем, к самому концу десятилетия будет уравновешиваться у него хитроумно-благонамеренными расчетами на возможность своей писательской легитимизации в Советской России[517]517
В январе 1930-го Белый говорит П. Н. Зайцеву, что «каждая минута угрожает гибелью», – и вместе с тем «старается увидеть позитивные сдвиги в окружающей жизни, обрести живую связь с новой действительностью <…> Белый в этом отношении лишь отражал на свой собственный лад общую тенденцию» (Лавров, Мальмстад: 20. См. также: Лавров А. В. Андрей Белый: Разыскания и этюды. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 252 и сл.).
[Закрыть]. Отсюда его оптимистическая реплика, зафиксированная П. Н. Зайцевым в 1931-м: «В „Масках“ я играл с ВКП(б) сложную партию игры; и эту партию я выиграл»[518]518
Спивак 2006. С. 229.
[Закрыть]. Знаменательна, конечно, сама каламбурная тавтология): в своей персональной «партии» Белый переиграл другую партию – всесоюзно-коммунистическую.
В «Воспоминаниях о Штайнере» это состязание с властью в разных сферах – от восхваления организаторского дара Штайнера до его научно-философских откровений, затмевающих Ленина, – весьма проницательно, хотя и не вдаваясь в особую детализацию, выявили М. Каганская и З. Бар-Селла, отметившие вскользь также использование чина «генеральный секретарь» применительно к антропософскому лидеру[519]519
Каганская М., Бар-Селла З. Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив, 1984. С. 94–95. (Далее – Каганская, Бар-Селла.)
[Закрыть]. Можно уточнить, что один раз тот величается у Белого даже «генеральным секретарем Германии», а в другой само слово «Генеральный» поставлено с прописной буквы (ВШ: 16, 29, 40). Между тем за ним пожизненно закрепилось совсем другое, стандартно-немецкое титулование: Доктор, в основном сохраненное и у мемуариста. Как мне представляется, в этой симптоматической подмене легко расслышать эхо советской партаппаратной борьбы, возглавлявшейся иным Генеральным секретарем[520]520
К сожалению, авторы допустили анахронизм, соотнеся на с. 94 Штейнера с «Корифеем Всех Наук». В январе 1929 года, которым датируются ВШ, о такой форме сталинского культа говорить было преждевременно. С другой стороны, там же (с. 95) см. ценное примечание об усвоении культа вождя в театральных кругах – у Вс. Мейерхольда в статье «Смерть вождя», посвященной памяти Е. Вахтангова.
[Закрыть].
Необходимо добавить, что беловские повествования о штейнерианцах переполнены и такими обозначениями, как «спецы» (ВШ: 20, 24–27, 36, 43, 71, 279 и др.) «фракция», «функционеры» (ВШ: 35), «курсанты» (ВШ: 124–126) – будто речь идет не об антропософах-слушателях Доктора, а о Красной армии, – и пр., включая сюда «тройку-Президиум» и еще более зловещий «отряд особого назначения», наделенный столь сообразными чертами, как «черствость, сухость и нечто, напоминающее безжалостность…» Подразумевая под «отрядом» правящий слой антропософского движения, Белый задается вопросом, который был с таким избытком актуализирован советским опытом: «Во имя чего совершались бессмысленные жестокости?» (ВШ: 245–247).
Административно-техническое понятие «пленум» набирает у него глобальный размах, вступая в самые неожиданные сочетания: тут и «пленум мусагетовцов», и «пленум» всего человечества (потенциальной аудитории Штейнера), и даже «пленум забот» Учителя (ВШ: 39, 45). В книге 1929 года «Ритм как диалектика и „Медный всадник“» мы встретим в придачу «пленум фактов»; а в ПЯСС «пленум социально-индивидуальной жизни» был дополнен «пленумом условно допустимых школьных приемов» и «пленумом книг», которым сопутствует «коммунизм переживаний» (ПЯСС: 435, 441, 446, 471). Заемный глоссарий автор обогатит здесь еще одним советским словцом, спроецированным вдобавок и на досоветскую историю: «К этому „культпросвету“ взывал Рудольф Штейнер еще с 1915 года в Дорнахе» (Там же: 476).
Рекордом идеологического волапюка выглядит, пожалуй, монументальная максима, вынесенная Белым в один из резюмирующих абзацев вводной главы ВШ: «В этом неустанном несении креста, в этом неустанном самоограничении во имя других, – сказывалась его центральная христианская линия» (ВШ: 44)[521]521
К сожалению для тех, кто искренне почитает Белого (к ним относится и автор данной работы), невыносимой смысловой какофонией обезображены и другие его христологические метафоры, прикрепленные к Штейнеру, например такая: «Кто же с ним в куще служит в свершениях лекции? <…> Как будто мы видели доктора в блистающем виде с Моисеем и Илией» (ВШ: 103).
[Закрыть] – которая, конечно, заменяет здесь ленинскую генеральную линию из сталинского жаргона.
В коммунистическом мире эпохальным событием стала, разумеется, смерть Ленина 21 января 1924 года. Переклички с тогдашней панихидной риторикой понадобятся Белому через год, когда его постигнет по-настоящему трагическая утрата: 30 марта 1925 года умер Рудольф Штейнер. Как бы амбивалентно ни относился к нему Белый в свой депрессивный берлинский период 1921–1923 годов, какие бы обиды ни претерпел от его окружения (Спивак, 2006: 110, 114–115), такая потеря потребовала от него суммарного пересмотра всего минувшего. Кое-какие нелицеприятные подчас высказывания об учителе и резко враждебные – о его окружении он приберег для ПЯСС, а в самих ВШ, за редкими исключениями, предпочел панегирический тон.
С антропософским движением происходило как раз нечто подобное тому, что творилось с посмертным ленинским культом и сопутствующим ему усилением внутрибольшевистской фракционной борьбы. Суть дела состояла в следующем. Штейнер давно уже возвещал наступление апокалиптической эпохи архангела Михаила (отсюда ведь и само имя Михаила Ломоносова, присвоенное московской ложе по его решению). В 1923-м, пишет М. Спивак, он «приступил к радикальной реорганизации существующих форм антропософской жизни и в канун 1924 года, в рождественскую неделю, основал новое Всеобщее антропософское общество» для решающей борьбы против «отца лжи» Аримана – Дракона, сгубившего мир посредством бездуховного материализма. «В эти святые рождественские дни» Штейнер возложил на учеников великую миссию – стать воинством Михаила, «михаилитами», чтобы одухотворить земной разум разумом космическим и тем подготовить «человечество к принятию „импульса Христова“». Этой теме он посвятил затем множество статей и выступлений, которые после кончины Доктора воспринимались как его завещание (Спивак, 2006: 212, 222–224). Отныне его ученикам предстояло нести спасение человечеству – конечно, вторя тому, что Иисус повелел апостолам, явившись им после своей смерти: «Идите и проповедуйте Евангелие всякой твари» (Мк. 16: 15).
Вместе со своими русскими единомышленниками Белый благоговейно внимал астральным банальностям Штейнера. Именно с 1924 года «сама антропософия стала восприниматься как инспирированная импульсом Михаила [адекват „импульса Христова“], а антропософы – как воинство Христово, „михаилиты“» (Спивак, 2006: 223). Все это происходит практически одновременно со смертью Ленина, изобретением «ленинизма» и смежными событиями на родине писателя.
Однако в России, где поле битвы оставалось за большевистским Драконом, надлежало соблюдать строгую конспирацию. Именно здесь, в советском подполье, опальный у западных штейнерианцев Белый и сделается наиболее стойким воителем Михаила, подлинным вождем движения, не терявшим апокалиптического оптимизма. Повсюду, даже в самых неподходящих для того актуалиях он выискивает какие-то приметы грядущего одухотворения мира. К ним относил он и ту странную ауру, которой окутывалась смерть красного Аримана – яростного глашатая безбожия и материализма.
Почти сразу после рождественского создания обновленного, уже экуменического Общества, в ночь под Новый, 1924 год – и совсем незадолго до ленинской кончины (21 января 1924) – был сожжен антропософский храм в Дорнахе. (Правда, оправившись от удара, Штейнер быстро организовал было строительство второго Гетеанума, но начнется оно лишь после его смерти.) И судьбоносные «рождественские дни», и само преображение антропософии, и поджог Гетеанума слишком тесно сходились во времени со смертью Ленина, чтобы Белый этого не заметил, поскольку всегда придавал колоссальное значение сколь-нибудь знаменательным совпадениям такого рода. Напомним, что он всегда почитал и по возможности маркировал в своих текстах христианские праздники: ср. хотя бы датировку «Второй симфонии»[522]522
См.: Белый Андрей. Симфонии. Л.: Худож. лит., 1991. Комментарий А. В. Лаврова. С. 502.
[Закрыть] и «Первого свидания» – Духов день; но главенствующее значение он придавал, разумеется, Пасхе и тому же Рождеству (не говоря уже о западноевропейском Михайловом дне, отмечавшемся всеми антропософами). Череда ситуативно-хронологических соответствий будет маркировать и всю его дальнейшую духовную биографию, в которой как новозаветные вехи, так и синхронные явления его личной жизни будут координироваться с советскими реалиями и облекаться в советский жаргон, только получающий у него принципиально иной и, так сказать, диалектический смысл.
Буквально за несколько дней до смерти Штейнера он попытается наконец приподняться из той могилы, куда вогнал его Троцкий. Первый, пока еще пробный, переезд в Кучино провиденциально пришелся на благовещенское и предпасхальное время (каким датирована будет и сама кончина антропософского лидера) – с 24 марта до 17 апреля 1925 года (православная Пасха праздновалась тогда 19-го, католическая – 12 апреля). С августа он с К. Н. Васильевой уже надолго обосновался в Кучине – которое, согласно ПЯСС, станет для него местом «всяческого выздоровления» (с. 484)[523]523
В письме к Иванову-Разумнику от 18 марта он так мотивирует свой переезд: «Мне бы все покой да молчание: хоть затвор <…> хочется довершить круг несвершенных работ; а прочего ничего мне не надо» (Б. – И.-Р. 1998. С. 349).
[Закрыть]. Здесь начнется, как известно, новая и чрезвычайно плодотворная фаза его творчества, охватившая всю вторую половину десятилетия. По свидетельству его вдовы, в рождественском январе 1926-го кучинский дневник выливается в работу над «Историей становления самосознающей души»[524]524
Бугаева К. Н. Воспоминания о Белом / Edited, annotated, and with an introduction by John E. Malmstad. Berkeley, 1981. Р. 361.
[Закрыть].
Еще через год, весной 1927-го, в письме к Вс. Мейерхольду Белый вернется было к своей заупокойной лексике: «Так, как поступили со мной, хуже расстрела: живого, полного энергии человека заживо закопали», – однако закончит во здравие, наперекор уверениям Троцкого, что «ни в каком духе он не воскреснет». Говоря о себе в третьем лице, писатель с торжеством восклицает: «Но он, из своего гроба, создал себе новое воскресение; он вышел из социального гроба в отшельничество, уселся за книги, за мысли»[525]525
Цит. по: Лавров, Мальмстад 1998. С. 18, примеч. 67.
[Закрыть]. Тем знаменательней, что под его экзальтированной исповедью – ПЯСС, написанной в 1928 году, проставлена будет дата 7 апреля. Это одновременно Благовещение, начало Страстной недели и Лазарева суббота – как бы провозвестие Воскресения Христова, а также самого писателя.
Ошеломленный кончиной антропософского наставника, он сразу после нее, в пасхальном апреле 1925 года, начал знакомить московских друзей со своими размышлениями о покойном. Продолжив в Кучине работу над «Москвой», где автор закодирует антропософские темы (Спивак, 2006: 227), он с 1926-го одновременно засядет и за стилистически довольно рыхлые ВШ. Вообще же к концу десятилетия опыт самовоскрешения разрешится у него целой серией книг – как заведомо не предназначенных для публикации, так и рассчитанных на нее. Конечно, и те и другие писались все же с учетом тотальной советской цензуры и пытливой любознательности ОГПУ – но, вопреки арестам и прочим угнетающим обстоятельствам, Белый-мемуарист сохраняет немалое мужество и достоинство, поддержанные верой в свое назначение.
Само переселение в Кучино, а равно свою реакцию и на собственные мытарства, и на смерть Штейнера он задним числом преподносит в панихидно-катартической метафорике Маяковского (взятой тем, правда, у Платона): «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше…» В ПЯСС (с. 484) Белый напишет: «С 1925 года [я] переселился в Кучино прочистить свою душу, заштампованную, как паспортная книжка». Ближайшим ориентиром для ВШ, помимо христологических реминисценций, стал именно культ Ленина, броские приметы которого вобрал в себя образ Штейнера в беловском показе. Но к этому синтетическому рисунку примешивается и духовный автопортрет мемуариста.
Покойного Штейнера он называет «деятелем-практиком» – конечно, с оглядкой на Лениниану. Ведь то же обозначение – например, «великий практик» у Маяковского – употребительный тогда титул Ленина, обычно предшествовавший или сопутствовавший его восхвалению как теоретика революции. Вполне, впрочем, обоснованно Белый адаптирует эту прагматическую миссию и к своему герою, тем самым соотнося его образ с большевистским тотемом[526]526
Каганская и Бар-Селла (с. 93–95), в общем виде отметившие в своем монтаже цитат из ВШ соответствующие реминисценции, связывают их не столько с самим Лениным, сколько с подражательным и размытым вождизмом советского типа, воодушевлявшим Белого.
[Закрыть]. Набор перекличек неуклонно растет. Так, «Генеральный секретарь Германии» тоже размышлял «о внутренней структуре фракции»; а чуть выше сказано:
Тут прежде всего выступает «генеральный секретарь», организатор-практик, создавший в несколько лет из ничтожной кучки огромное движение, насчитывающее тысячи (ВШ: 16).
Антропософский вождь впечатляюще совпадает здесь с Лениным в подаче Маяковского, который в своей поэме восславил, помимо прочего, его организаторский талант в деле создания партии: «Вчера – четыре, сегодня – четыреста <…> И эти четыреста в тысячи вырастут».
Эволюционируя, официальные плачи по Ленину видоизменяли, однако, иконографию вождя, по возможности придавая ей индивидуальное выражение – насколько его допускали неавантажная фактура самого объекта и реликтовый пафос безличной социальности, ранее владевший коммунизмом[527]527
Янгиров Р. М. Первый кинобиограф вождя // Минувшее: Исторический альманах. 12. М.; СПб.: Atheneum: Феникс, 1993. С. 407; Вайскопф М. Писатель Сталин. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 202–204, 206.
[Закрыть]. В 1925-м один из глашатаев новой, персонализированной Ленинианы Орест Цехновицер уже констатировал, что если раньше «личное, человечное, бытовое отметалось в вырисовке Ленина и оставался лишь образ сурового вождя, – кормчего, рулевого», то «потом в ярких набросках близких (не писателей) мы смогли наметить подлинный облик Ильичов»[528]528
Цехновицер О. Образ Ленина в современной художественной литературе // В. И. Ленин в поэзии рабочих / Сост. М. Скрипиль и О. Цехновицер. Л.: Изд-во Кн. сектора Губоно, 1925. С. 10. Тем не менее, как пишет Р. Янгиров, даже через десятилетие после 1917 года, «когда еще не иссякло поколение революционной эпохи, в общем сознании еще отсутствовала человеческая индивидуальность Ленина, замененная чем-то вроде размытой, но густо заретушированной фотографии на стене». Исследователь ссылается на М. Кольцова, продолжавшего отстаивать принципиальную и безличную массовидность вождя: Янгиров, 1993. С. 409–410.
[Закрыть].
В том же русле, но еще с большим пафосом движется автор ВШ. Если первая их глава названа «Рудольф Штейнер как деятель», то вторая – «Рудольф Штейнер как человек». Впрочем, и сама книга открывается тирадой, местами словно заимствованной у Цехновицера:
В этих воспоминаниях я пишу о докторе Р. Ш. только как о человеке <…> о личности; я изучал материал его текстов; и я знаю: касание к ним есть огромнейший труд, долженствующий внятно раскрыть его методологию, его теорию знания; в них с беспримерной логической смелостью дана нам база огромной системы; но труд – лишь введение к трудам, посвященным его философии культуры, теории сознания, психологии, эстетике, философии эстетики и философии религии.
И ниже:
Вот что не отразится, – так это личность, если она не будет сохранена в воспоминаниях <…> Вот что было бы преступлением перед человечеством, перед всеми теми, которые сами придут к нему в будущем (ВШ: 3).
Во вступлении и вводных главах Белый прилежно перенимает религиозно-советские трафареты, знакомые нам как по панегирической статье Горького о Ленине, так и по одноименной поэме Маяковского, не говоря уже о бесчисленных псалмопевцах рангом пониже. Сама по себе поэма Маяковского, пузырившаяся служебным восторгом перед ее героем, представляла собой удачный опыт по сращению жанров. Традицию эпоса, монархических и духовных од, отчасти дополненную романтическим визионерством, автор приспособил к риторическим извержениям партаппарата – прежде всего, к брошюре Г. Зиновьева 1923 года (на этот источник мне в свое время указал И. З. Серман), отразившей претензии сталинско-зиновьевско-каменевской тройки на престолонаследие. Этот литургический синтез отсвечивает и в ВШ.
У Маяковского страстную веру в Ильича исповедуют даже заслуженные революционные покойники, украсившие ее могильной эротикой: «И коммунары с-под площади Красной, казалось, шепчут: – Любимый и милый!» В далеком прошлом поэт изыскивал предвестия марксистского Избавителя, по которому томятся мстительные труженики, умученные капиталом; более того, сами они вождя и «рождают» (инерция темы масс, духовно равновеликих Ленину): «Мы родим, пошлем, придет когда-нибудь человек, борец, каратель, мститель!»; «Приходи, заступник и расплатчик!» В тождественном ключе вспоминает Белый и свое вещее юношеское томление по собственному, столь же полифункциональному мессии: «И тоска о „родном мудреце“ – брате, друге, учителе, весельчаке от великого подвига [перекличка не только с Горьким, но, конечно, и с Ницше], – странно порою врывалась в статьи мои».
Таким окажется «родной мудрец» и наяву, лицом к лицу: вот он, «стоит и серьезный, и добрый: отеческий» (ВШ: 55). Эпитет «родной» тоже был одним из штампов ленинобожия – ср. хотя бы в повести А. Аросева «Недавние дни»: «И от этого горячего Ленина, от его изборожденного, песчаного лица, от простых глаз, не то огневых, не то коричневых, от всей его плотной фигуры на Андроникова опять нашло то странное закружение, которое обнимало его по-особенному, человеческому, по-родному»[529]529
Цехновицер О., 1925. С. 11.
[Закрыть]. Утилизована была агитпропом и другая христологическая метафора, тоже усвоенная Белым, – «брат». В аляповатой теологии большевизма она отражала богочеловеческую двойственность вождя – например, у М. Кольцова: «В. И. Ульянов (Ленин) – грозный глава республики-победительницы и Ильич – простой близкий старший брат»[530]530
Ленин / Сост. В. Крайний и М. Беспалов. Под ред. Д. Лебедя. 2-е изд. Харьков, 1924. C. 48.
[Закрыть]. Умиляется при первой встрече с ним и герой А. Аросева: «Будто это старший брат его…»[531]531
Цехновицер О., 1925. С. 11.
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.