Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
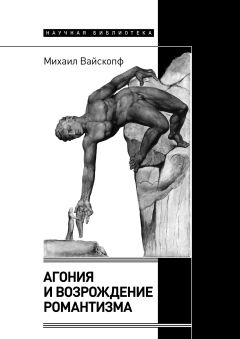
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
Анализируя гоголевскую фантасмагорию и посильно сохраняя при этом марксистский декор, Белый в данном случае неожиданным образом выступит как раз на стороне «отщепенства», олицетворяемого отцом Катерины – «турецким игуменом», как саркастически называет этого пришлеца-колдуна ее муж, патриот Данило Бурульбаш. Действительно, в партийной мифологии все выглядит так, будто контрреволюционеры губят советских людей с тем же бессмысленным и вездесущим усердием, с каким этот «антихрист», прибывший из-за рубежа, пакостит всем своим соплеменникам. Режим обзывает подследственных выродками, отщепенцами и предателями – ср. показ гоголевского вредителя в книге Белого: «он – хуже колдуна: он – предатель родины и веры»[568]568
Белый А. Указ. соч. С. 55.
[Закрыть]; а изображенная Гоголем «вселенная оскаленных ртов и бычиных ревов есть зубы рода, зубы мертвецов, готовые вонзиться в оторванца».
Отсюда, собственно, и судейская лексика Белого; отсюда и симптоматика его обмолвок, выдающая их злободневный подтекст. Мы узнаем, что «адвокат родовой патриотики, Гоголь топит „клиента“ почище прокурора». Так на процессе Промпартии адвокат И. Брауде яростно обличал своих ни в чем не повинных подзащитных, всячески поддерживая обвинение.
Согласно Белому, в повести «вырастает ужас перед патриархальной жизнью, которая приводит к бессмыслице явления на свет без вины виноватого», возведенного в антихристы. Кто не опознал бы тут коммунистической юрисдикции? Впечатляет и аллюзионная морфология: «слово „антихрист“ взято из-за предлога „анти“ (против)»; и снова: «слово „антихрист“ означает лишь „антирод“; в условиях этой жизни „антихрист“ всякий человек»[569]569
Там же. С. 61, 67.
[Закрыть].
Для Белого это эквивалент безразмерного термина «антисоветский», – достаточно соотнести «турецкого игумена» с парадигматическим антихристом-Троцким, поначалу изгнанным в ту же Турцию.
Уже в шахтинской трагикомедии прогремело эхо древних хтонических мифов. Предатель-спец – моральный чужак и наймит заграничных хозяев – врылся в самые недра социалистической индустрии с тем, чтобы взорвать, разрушить ее под землей. В разборе «Страшной мести» очень сходные мотивы, акцентированные Белым у Гоголя, тоже прослеживаются к их архаическому корню: вся тема земли связана здесь «с темой мести рода как рока и с темой гор, этих выперших родовых недр». Если мы заменим «род» шахтерской массой, «классом» либо абстрактной совокупностью «трудящихся», получим некий прообраз Шахтинского процесса. «Соединив черты, характеризующие колдуна, – говорит Белый, – с характеристикой других оторванцев от рода, водящихся с иностранцами, видишь: в колдуне заострено, преувеличено, собрано воедино все, характерное для любого оторванца: и тема гор, и жуткий смех, и измена родине»[570]570
Белый А. Указ. соч. С. 66.
[Закрыть].
Но, помимо всего, тут проступает и надрывно-автобиографический аспект книги. В том ее месте, где говорится: «Гоголь – отщепенец от рода и класса – самая подоплека сочиненной им личины»[571]571
Там же. С. 70.
[Закрыть], ощутима общая самоидентификация Белого с Гоголем, убедительно прослеженная И. Делекторской[572]572
Делекторская И. Б. «Гоголевский сюжет» в жизнетворчестве Андрея Белого (к проблеме реконструкции) // Toronto Slavic Quarterly. 2010. № 31.
[Закрыть]. На фоне его тогдашнего вступления в ССП это подспудное самоотождествление с классиком-«отщепенцем» выглядело уже рискованно. Ведь парадоксальным образом его последняя книга, при всем ее негативистском заряде, оказалась и последней попыткой Белого врасти в сервильный коллектив советской культуры. Предисловие Каменева к «Мастерству Гоголя» показывает, что его усилия не увенчались признанием[573]573
Спивак М. Л. Почему Андрей Белый смертельно испугался Л. Б. Каменева // Авангард и идеология: русские примеры. Белград: Изд. Филол. ф-та Белградского ун-та, 2009. С. 207.
[Закрыть]. Вскоре, однако, в число «выродков» попадет и сам Каменев.
И все же поражает та изумительная чуткость, с которой Белый уловил первые раскаты архаической бури – бури тотального террора, призванного истребить любые формы осмысленной и самобытной жизни в СССР.
2019
Часть 4. Набоков, или Воскресение романтизма [574]574
В этом разделе публикуются те исследования, которые я надеюсь позднее существенно расширить в запланированной мной монографии о Набокове-Сирине. Туда войдет анализ также нескольких его произведений, затронутых здесь лишь мимоходом, и значительно больше внимания уделено будет иноязычным источникам или аналогам его русской прозы.
[Закрыть]
Интертекстуальная экспозиция
Во вступлении к своей замечательной и недавно переизданной книге о «писателе Сирине» А. А. Долинин справедливо отметил, что «русский Набоков, несмотря на единый для всего его творчества комплекс тем и повествовательных приемов, требует особого рассмотрения» и что его «романы и рассказы до предела насыщены цитатами, реминисценциями, пародиями и прочими откликами как на „наследие отцов“, от Пушкина до акмеистов, так и на творчество современников»[575]575
Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. СПб.: Symposium, 2019. С. 10, 13.
[Закрыть]. «Показательно, что, много занимаясь в Крыму стиховедческим анализом метрики по схемам Андрея Белого, – констатирует исследователь, – Набоков не проанализировал ни одного стихотворения Серебряного века, ограничившись исключительно классикой – Жуковским, Баратынским, Лермонтовым и др. <…> Набоков только в 1918–1919 гг. подступает к изучению самых азов модернистской литературы»[576]576
Там же. С. 16–17, примеч. 11.
[Закрыть].
Добавим, что перечисленная здесь русская «классика» на деле сводилась именно к романтизму, в котором писатель был укоренен[577]577
Г. Шапиро в книге о «Приглашении на казнь» выявил у Набокова мотивы Ф. И. Тютчева, А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и вместе с ним Д. Г. Байрона («Шильонский узник»); отразилось там и стихотворение Жуковского «Узник к мотыльку» – перевод из Ксавье де Местра, автора релевантного здесь «Путешествия вокруг моей комнаты». Отсылки к Жуковскому исследователь нашел также в «Даре»: Shapiro, G. Delicate Markers: Subtexts in Vladimir Nabokov’s Invitation to a Beheading. NY: Peter Lang Publ., 1998. Р. 126, 129–130, 135–136.
[Закрыть] и который он сумел всесторонне обогатить – разумеется, с оглядкой и на так называемый британский неоромантизм приключенческого типа (Р. Л. Стивенсон, А. Конан-Дойл, Г. Р. Хаггард и пр.), а с другой стороны – на мировые шедевры наподобие «Мадам Бовари» Г. Флобера, характерно названной им «наиболее романтической» – «the most romantic» – из «сказок», разбиравшихся им в качестве преподавателя[578]578
Не мешает хотя бы вскользь затронуть тут старый вопрос о гипотетическом влиянии Ф. Кафки. Что бы ни говорил на этот счет сам Набоков, схождения с ним заметны у него, например, в зачине рассказа «Ужас», интонационно похожем на экспозицию короткой новеллы Кафки «Тоска». А в «Приглашении на казнь» размышления Цинцинната о неодолимом страхе перед смертью, когда его «тело дрожит, как мост над водопадом», подсказаны, видимо, притчей Кафки «Мост» – об обреченном на гибель человеке, который был мостом над пропастью с горным ручьем на дне (Набоков Владимир (Сирин В.) Собр. соч. рус. периода: В 5 т. Т. 4. СПб.: Симпозиум, 1999–2000. С. 166). Далее номер тома и страницы приводятся в тексте.
[Закрыть].
Спору нет, разноплановое воздействие русской словесности на Сирина было уже ярко продемонстрировано многими набоковедами – и тем не менее его интертекстуальная карта по-прежнему пестрит белыми пятнами. В настоящей главе спектр предполагаемых влияний или перекличек будет по возможности расширен – а вместе с тем ограничен русской стадией Набокова.
Пушкинская пора, то есть собственно романтическая фаза отечественной словесности, включая ее массовый фон, привлекала к себе напряженное внимание писателя, особенно в контексте его филологических штудий, – и, разумеется, отозвалась за их рамками. Как известно, одушевленные реминисценции Золотого века встречались у него в изобилии, причем еще до «Приглашения на казнь», «Дара», книги о Гоголе и комментариев к «Евгению Онегину»: Рылеев и Куницын (гость поэта Подтягина) в «Машеньке» (1926), Розен-секундант и Туманский-дуэлянт – в рассказе 1931 года «Лебеда», где они втянуты были в силовое поле набоковского клана – наряду с Корфом (он же «роковой брюнет» в «Соглядатае»), Шишковым и др. (см. комментарий Ю. Левинга к рассказу «Обида» (3: 783–784). Сменив фабульные роли, Розен с Туманским воскресают в «Защите Лужина». А в «Красавице» (1934) Розен (некий барон Р.) сам вызывает «хама» на дуэль. В то же время наследие Золотого века Набоков сочетает с многоликим неоромантизмом последующей русской поэзии, в том или ином объеме захватившим и модернистов, и авангард.
В постсимволистской советской прозе 1920-х – начала 1930-х годов состоялся великолепный реванш романтизма, запечатлевший себя в произведениях А. Н. Толстого, Ю. К. Олеши, И. Э. Бабеля, А. С. Грина и других авторов, со временем, однако, полностью прирученных либо растоптанных властью. Е. Д. Толстая с исчерпывающей убедительностью продемонстрировала то ревнивое и пристальное внимание, с которым Сирин следил, например, за эволюцией А. Н. Толстого (в частности, в обличье казенного писателя Новодворцева из «Рождественского рассказа»), при том, что
путь, проложенный Толстым, – путь к остросюжетному, фантастическому повествованию с постсимволистской мифопоэтической техникой, путь, альтернативный бунинскому, возможно, привлекал Набокова своей дерзкой современностью[579]579
Толстая Е. Игра в классики. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 490.
[Закрыть].
В силу чисто биографических обстоятельств он сохранил в эмиграции еще более тесную связь с отечественным изводом романтики, чем его современники, оставшиеся в СССР, но при этом еще энергичнее способствовал его обновлению.
Эротической осью романтической школы остается достаточно внятная сакрализация (а порой, напротив, демонизация) героя и/или его возлюбленной (и vice versa), ориентированная как на библейски-демиургические, так и на христианско-мистические модели с их заведомо неисчерпаемым смысловым потенциалом; спецификой собственно русской романтики можно считать, за некоторыми исключениями, ее эскапистски-спиритуальную асексуальность, обусловленную конфессиональными привязками русской культуры в целом[580]580
Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 654–657.
[Закрыть]. Но за гранью базового эротического сюжета или наряду с ним европейский романтизм изначально принялся осваивать запас предшествовавшей ему приключенческой литературы с ее страстью к героическим испытаниям, экзотике, неизведанному (тоже органически близкой Набокову), стал вбирать в себя готические нарративы и всевозможную фантастику; и именно в его недрах зародился детективный жанр, одержимый смежным порывом к тайне.
Естественно, что уже «Машенька», как и ранние рассказы Сирина, буквально прошита романтическим каноном – и оттого вступает в безнадежную борьбу с ним. И если в одном из ключевых пассажей повествования лирическим фантомом просквозил «фетовский соловей» (2: 79), то сам фетовский текст высветится всего через полстраницы. Речь идет о том абзаце, где герой подсознательно отождествляет Машеньку с Россией – в согласии с романтическим восприятием Anima mundi и genius loci, национализированным эмигрантской ностальгией:
И глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мычит корова, он старался понять, что все это значит – вот это небо, и поля, и гудящий столб; казалось, что вот-вот сейчас он поймет, – но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томленье становилось нестерпимым (2: 8).
Вспоминается «На заре ты ее не буди…»: «И старалась понять темноту, / Где свистал и урчал соловей…»[581]581
Фет А. А. Стихотворения и поэмы / [Вступ. ст., сост. и примеч. Б. Я. Бухштаба.] Л.: Сов. писатель, 1986. С. 608. (Далее: СиП.)
[Закрыть] (строфа, опущенная, правда, в поздних изданиях). Конечно, воздействие Фета на Набокова нередко отмечалось комментаторами[582]582
Букс Н. Звуки и запахи // Букс Н. Владимир Набоков. Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах Владимира Набокова. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 6–40 (7–12, 15; 12, с. 15, 21–24).
[Закрыть], и вскоре мы также к нему вернемся; но размышления Ганина тянут за собой шлейф и других поэтических ассоциаций: здесь и «Я понять тебя хочу…», и «светлая печаль» Пушкина, и блоковский «Осенний день», соединяющий Россию с возлюбленной (тема, травестированная в «Машеньке» трогательным поэтом-эпигоном Подтягиным): «О, нищая моя страна, / Что ты для сердца значишь? / О, бедная моя жена, / О чем так горько плачешь?»[583]583
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ., 1960–1965. Т. 3. С. 257.
[Закрыть].
Неудивительно, что блоковских реликтов в этой ранней книге вообще много[584]584
О его сильной зависимости от Блока (включая цветовую гамму последнего), беспокоившей самого писателя, см. Долинин А. Истинная жизнь… С. 474–482: «по-видимому, лишь с окончательным переходом Набокова к прозе в конце 1920-х годов <…> он смог преодолеть эту озабоченность и оценить как поэтику Блока, так и свое собственное отношение к ней не „изнутри“, а „извне“, с необходимой дистанции». «Машенька» создавалась задолго до этого перехода, однако присутствие Блока резко ощутимо будет у Набокова и в 1930-е годы.
[Закрыть], и внушительное место среди них занимает стихотворение «На железной дороге». По наблюдению М. Э. Маликовой, цвета вагонов отсюда – «Молчали желтые и синие…» – упомянуты были в показе последней встречи героев в поезде (2: 695). Добавим, что затем в сцене расставания будет отдельно акцентирован специфический синий цвет Блока, только уже с отсылкой к другому его сочинению. Это тот эпизод, когда героиня навсегда покидает Ганина: «И он долго смотрел на ее удаляющуюся синюю фигурку, и чем дальше она отходила, тем яснее ему становилось, что он никогда не разлюбил ее. Она не оглянулась» (2: 100). Легко было бы опознать здесь аллюзию на блоковское «О доблестях, о подвигах, о славе…»: «Я звал тебя, но ты не оглянулась, / Я слезы лил, но ты не снизошла. / Ты в синий плащ печально завернулась, / В сырую ночь ты из дому ушла»[585]585
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ., 1960–1965. Т. 3. С. 64.
[Закрыть].
Интереснее тем не менее проследить в «Машеньке» симптоматические отсветы Золотого века. Для Ганина, как для его романтических предтеч, волшебным паролем звучит имя возлюбленной, которое запечатлело в себе самую суть таинственно-щемящего настроения, вновь охватившего героя при виде «вот этого неба, и полей, и гудящего столба»:
Машенька, – опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше, – ветер, и гудение телеграфных столбов, и счастие, – и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова (2: 80–81).
Филологическая эрудиция молодого Набокова, стимулированная Кембриджем, безусловно включала в себя знакомство со столь видной фигурой пушкинской эпохи, как М. П. Погодин. Герой его повести «Адель», в 1830 году напечатанной в знаменитом «Московском вестнике», предавался такому же эротическому имяславию, что и Ганин:
Тем не менее я привожу эту цитату не как мнимое доказательство зависимости первого текста от второго, а как образчик единой романтической схемы, в мотиве Anima mundi функционально сопрягающей оба сочинения, разделенные целым столетием.
Немаловажно, с другой стороны, что с более поздней «Защитой Лужина» (1930) «Машеньку» связывает уже сама преемственность персонажей: ведь в перечне гостей у будущей тещи Лужина мельком названа и «чета Алферовых» (2: 382). Так задним числом выясняется, что приезд Машеньки, в преддверии которого завершалась – или, если угодно, обрывалась – одноименная книга, для Алферова все же увенчался долгожданным воссоединением с женой. Потом ту же чету супруги Лужины встречают на зимней прогулке, и тогда мы узнаем, что за истекшее время персонажи «Машеньки» ничуть не изменились. Замужняя героиня не утратила своего прежнего очарования: у нее «прелестное, всегда оживленное лицо», а неотесанный и убогий Алферов, трясущий «желтой своей бородкой», не сделался более привлекательным. «Он какой-то несчастненький, – сказала Лужина, взяв мужа под руку и меняя шаг, чтобы идти с ним в ногу. – Но Машенька… Какая душенька, какие глаза…» (2: 430)
Внутренняя отсылка к собственному романному дебюту сигнализирует, разумеется, и об определенном родстве поэтики, сохранившемся несмотря на изумительное совершенствование набоковской прозы. За недостатком места я не буду говорить о сюжетно-символической канве «Защиты Лужина», а ограничусь несколькими реминисценциями романтического толка. Мальчик Лужин никогда не открывал Пушкина, предпочитая ему Жюль Верна с Конан Дойлем, – однако провал в его читательской эрудиции заполняют двойники или однофамильцы пушкинских современников и пушкинских героев. Напомню, что в книге каламбурно раздваивается Дантес, а среди школьных недругов героя назван Розен. Мечтая избавиться от семьи и школы, маленький Лужин прячется было от них на чердаке, но оттуда его снимают преследователи-доброхоты, в вереницу которых включены «почему-то молочница Акулина» и «чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то как самый сильный и понес его с чердака до коляски» (2: 314). Совершенно бесспорная аллюзия, в 1996 году подмеченная здесь А. К. Жолковским, но отчего-то поставленная им (а вслед за ним и Долининым) под некоторое сомнение, отсылает, естественно, к страшному «мужику с черной бородой», приснившемуся Петруше Гриневу, – то есть к Пугачеву (2: 423, 434, примеч. 9); а для зрелого Лужина этот «чернобородый мужик», переселившийся из чужого кошмара в его собственные, претворится в другого псевдоспасителя – психиатра[587]587
Давыдов С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб.: Кирцидели, 2004. С. 77.
[Закрыть] (пародийный З. Фрейд), наделенного «черной ассирийской бородой». На время тот низведет загипнотизированного им героя из запредельных шахматных сфер в теснины обыденности.
Вместе с тем мы соприкасаемся здесь с техникой довольно затейливых набоковских пазлов. Странная, вроде бы, трансформация пушкинского Пугачева в человека с ассирийской бородой навеяна стихотворением М. А. Кузмина «Конец второго тома» (1922), где изображен был «чернобородый ассирийский царь», что «точь-в-точь похож на Пугачева»[588]588
Кузмин М. Стихотворения. СПб.: Академический проект, 1996. С. 98–99. (Новая библиотека поэта).
[Закрыть]. Зато «молочница Акулина» – это перевоплощение «коровницы Акулины», соблазненной мосье Бопре в той же «Капитанской дочке». Впрочем, в «Барышне-крестьянке» присутствуют сразу две Акулины: мнимая крестьянка и некая Акулина Курочкина, адресат героя. Отсюда в «Защиту Лужина» переходит и «кольцо с изображением адамовой головы», которым щеголял герой пушкинской повести, намекая на свое таинственное прошлое: авантюрист Валентинов тоже «носил на указательном пальце перстень с адамовой головой» (2: 351). Не забыл здесь Набоков и другого любимого им автора. «Ибо что есть в мире, кроме шахмат?» – недоумевает Лужин, нечаянно вторя Фету: «Как будто вне любви есть в мире что-нибудь!» («Старые письма» – СиП: 77)
Кстати, отзвук пушкинского «Выстрела» доносится не только в концовке рассказа 1926 года «Бритва», на что указал Ю. Левинг (2: 730), но и в последней строфе более позднего сиринского стихотворения «Неродившемуся читателю» (1930), написанного от лица «опрятного и бедного» поэта – такого же горделивого и холодного, как бедняк Сильвио, и столь же неотвратимого в своем отсроченном возвращении: «Я здесь, с тобой. Укрыться ты не волен. / К тебе на грудь я прянул через мрак. / Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк / из прошлого… Прощай же. Я доволен» (2: 599). Когда говорят о следах Пушкина в «Приглашении на казнь», то к их списку не мешает присоединить и его глухого судью (4: 159) – это третьестепенный комический персонаж, получивший здесь, однако, символическую роль.
К сожалению, при изучении набоковских романов 1930-х годов пока что недостаточно было прослежено даже сильнейшее воздействие, оказанное на них Гоголем, хотя вопрос о нем очень рано затрагивали такой вдумчивый комментатор, как П. Бицилли. В последние десятилетия заслуживают внимания проницательные наблюдения А. Долинина и О. Сконечной по поводу гоголевских реминисценций в «Отчаянии» (3: 763, 773); и еще в 1994 году Г. Шапиро обнаружил кое-какие аллюзии на «Мертвые души» в «Приглашении на казнь» – в частности, переклички между образом Чичикова и м-сье Пьера[589]589
Шапиро Г. Реминисценции из «Мертвых душ» в «Приглашении на казнь» Набокова // Гоголевский сборник / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена; под ред. С. А. Гончарова. СПб.: Образование, 1994. С. 175–180.
[Закрыть]. От исследователя ускользнули, однако, еще более прозрачные ассоциации – например, то, что жуликоватое поведение м-сье Пьера в шахматном поединке отсылает памятливых читателей к эпизоду с Ноздревым, играющим с Чичиковым в шашки. В. Полищук в своем комментарии к «Королю, даме, валету» эротические фантазии Франца, мысленно группирующего черты разных прелестниц в единый оптимальный образ, остроумно сравнила с матримониальными грезами гоголевской Агафьи Тихоновны[590]590
Полищук В. Поэтика вещи в прозе Набокова. Ключи к роману «Король, дама, валет» // Культура русской диаспоры. Владимир Набоков – 100: Материалы научной конференции (Таллинн – Тарту, 14–17 января 1999). Таллин: TPÜ kirjastus, 2000. С. 263.
[Закрыть].
Блики «Невского проспекта» лежали уже на ранней «Сказке» (1926), на сцене погони за незнакомкой (2: 479); а через несколько лет метафизическая коллизия «Невского проспекта» – слияние неземной красоты с пошлым демонизмом – отразится в «Камере обскуре». В «Защите Лужина» воспроизведен эпизодический мотив из «Портрета»: Лужин-отец, писатель, «с волнением» трижды перечитывает заметку о себе, «им же составленную и посланную» в газету, – так художник Чартков «с тайным удовольствием» перечитывал рекламную статью о самом себе, им же заказанную у продажного журналиста. Реплику насчет сафьянной книжечки с шахматами, спрятанной и затем отыскавшейся: «и уже темно было ее происхождение», Сконечная наглядно связывает с цитатой из «Мертвых душ»: «Темно и скромно происхождение нашего героя» (2: 442, 716). Сюда можно прибавить самую последнюю, уцелевшую от огня и недописанную Гоголем фразу второго тома: «…это уже нам все темно представляется, и мы едва…»[591]591
Гоголь Н. В. ПСС: В 14 т. М.; Л.: АН СССР, 1937–1952. Т. VII. С. 127.
[Закрыть]. Тургеневские мотивы в «Защите Лужина» раскрыты самим же писателем в показе жены героя – но присущий ей дар эмпатии ориентирует ее образ скорее на Улиньку из второго тома «Мертвых душ».
Что касается «Отчаяния» (1934), то помимо обнаруженных комментаторами отсылок к «Носу» и «Запискам» сумасшедшего» необходимо снова упомянуть «Мертвые души», которые, вероятно, привлекли внимание Набокова как шедевр сюжетного зодчества, возведенный на фундаменте сплошной фикции. Заключительная датировка романа – это 1 апреля, день рождения Гоголя по европейскому стилю (дата, многозначительно маркированная Набоковым в его труде Nikolay Gogol), а вместе с тем день розыгрышей и обманов (название «день дурака» в России не прижилось); сообразно первоапрельской концовке символика мистификации захватывает без остатка все опостылевшее герою мироздание: «Может быть, все это – лжебытие…» (3: 527)
Конечно, далеко не все переклички или аллюзии имеют характер изощренных кодов. Подчас правомернее говорить об элементарно-акустических сигналах, маркирующих вкусовые предпочтения автора безотносительно к сюжетно-содержательной стороне его произведений[592]592
В реплике Германа «тяжелые творческие сны миновали» Долинин и Сконечная расслышали слог Сологуба («Тяжелые сны»), поддержанный словосочетанием «творческие сны» из Блока и Пушкина (3: 518, 775). Прибавим, что на Сологуба тут комически наслаивается революционная романтика – «Черные дни миновали, Час искупленья пробил».
[Закрыть]. Герман, герой «Отчаяния», собирается было навсегда отказаться от идеи двойничества с Феликсом как от соблазна, сравнивая это намерение с отказом подростка от мастурбации: «Как отрок после одинокой схватки стыдного порока с необыкновенной силой и ясностью говорит себе: кончено, больше никогда…» (3: 457) Аналогия навеяна фетовским текстом, где поллюция была переведена, правда, в лирический регистр: «Как отрок зарею / Лукавые сны вспоминает, / Я звука душою / Ищу, что в душе обитает» (СиП: 402).
Когда он застрелил Феликса, эхом этого револьверного «звона» прозвучал «звеневший лес» – и сразу затем «звеневшее лицо» (3: 502) – так Набоков подхватывает и «Уноси мое сердце в звенящую даль…», и другую, навсегда заворожившую его строку Фета: «Прозвенело в померкшем лугу» (СиП: 194), ту самую, за которую герой «Дара» «все ему прощает» (4: 258), давно проникшие, впрочем, в его юношеские стихи – в его «звездный и звенящий сад» (1: 486).
Понятно, что в «Отчаянии», как и в других сочинениях, нашлось место для Лермонтова, пусть даже в ироническом преломлении – как бы в амплуа «первого Надсона русской литературы». Готовясь к инсценировке самоубийства, Герман в беседе со страховым агентом Орловиусом заблаговременно «оклеветал свою верную жену»: ведь она всего лишь «легкое, холодное существо, так что не думаю, чтоб она долго плакала, если б со мною… если б я…» (3: 477). Налицо чисто пародийный отголосок лермонтовского «Завещания»: «Ты расскажи всю правду ей, / Пустого сердца не жалей; / Пускай она поплачет… / Ей ничего не значит!»[593]593
Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л.: АН СССР, 1954–1957. Т. 2. С. 175.
[Закрыть]. А чуть позже в сентиментальных псевдовоспоминаниях м-сье Пьера перед его приспешниками: «Иногда, в тихом молчании, мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу, и оба сливались, как две реки, лишь только мы открывали уста» (4: 155), – спародирована экспозиция «Мцыри»: «Там, где, сливаяся, шумят, / Обнявшись, будто две сестры, / Струи Арагвы и Куры…»[594]594
Там же. Т. 4. С. 148.
[Закрыть]. Есть, однако, у этого сиринского фрагмента и другой, причем именно мемуарный источник, которого мы коснемся далее.
В «Отчаянии» мы сталкиваемся и с открытой цитатой, дублирующей само заглавие книги – но одновременно отражающей ностальгию героя-рассказчика по его прежним эпигонским увлечениям, которые сам Герман снисходительно причисляет к «опытам юности, любви к бессмысленным звукам»:
Хохоча, отвечала находчиво
(отлучиться ты очень не прочь!)
от лучей, от отчаянья отчего,
отчего ты отчалила в ночь? (3: 424)
Комментаторы, Долинин и Сконечная, справедливо отметили тут аллюзию на концовку повести Эренбурга «Летом 1925 года», включившую в себя каламбурный набор из «отчаянья» и «отчалил» (3: 762). Но у графоманских стишков Германа имеется и еще один, причем совсем уж незатейливый претекст – «Тройка» Некрасова: «Полюбить тебя всякий не прочь» – отголосок популярнейшего романса, удержанный капризной памятью автора.
Как бы то ни было, «Отчаяние», осложненное влиянием детективных жанров, находилось в русле все того же романтического движения, которое в СССР пыталось отстоять свое право на существование под гнетом принудительной тенденциозности. В галерею этих современников Сирина, оказавших на него внушительное воздействие, необходимо ввести грандиозную фигуру И. Э. Бабеля. К кругу русских произведений Набокова позволительно будет, в виде исключения, прибавить дистанцированный отклик, прозвучавший у него через десятилетия в совсем иной – американской культурной среде.
Вот отрывок из воспоминаний Альфреда Аппеля:
«Известно ли вам, как называется вон то дерево?» – спросил профессор Набоков одного из моих друзей, честолюбивого неопытного сочинителя, который пришел в кабинет к Набокову за профессиональными советами. «Нет», – ответил тот, из вежливости небрежно глянув в окно. «В таком случае вам никогда не стать писателем», – ответил Набоков[595]595
Аппель А. Вспоминая Набокова / Пер. В. Минушина // Иностранная литература. 2017. № 6. С. 257.
[Закрыть].
Тем самым он лишь повторил мизансцену из бабелевского автобиографического рассказа «Пробуждение» (1931), где доброжелательный и строгий наставник Смолич экзаменует еврейского мальчика, мечтающего стать писателем:
Он показал мне на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.
– Это что за дерево?
Я не знал.
После еще нескольких ответов того же рода Смолич с негодованием заключает:
– И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк…[596]596
Бабель И. Рассказы. СПб.: Вита Нова, 2014. С. 308. (Образцовое научное издание Бабеля, блестяще подготовленное и прокомментированное Е. И. Погорельской.)
[Закрыть]
Одной из ведущих постсимволистски-романтических тем оставалось сологубовское отождествление демиургической лжи с искусством как «творимой легендой». В «Зависти» Ю. Олеши, весьма ценимой писателем Сириным, апофеозом чарующей лживости выглядит детство, да и последующая жизнь Ивана Бабичева. Однако ближайшим толчком для самого зачина «Отчаяния» его герою-повествователю послужила новелла Бабеля «В подвале» (1931), стилизованная под воспоминания и открывавшаяся словами: «Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено»[597]597
Там же. С. 291.
[Закрыть]. Примерно так же вспоминает о своем детстве набоковский книгочей Герман («о литературе я знал все»): «Одна из главных моих черт: легкая, вдохновенная лживость. Дня не проходило, чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той жизненной гармонией, которую создавал» (3:423).
У обоих эта лживость и необузданная фантазия инспирируют стремление к собственному литературному и житейскому творчеству – то есть к тому, что для Германа разрешится впоследствии историей с убитым им квазидвойником, которого он в разговоре со своей женой Лидой загодя успеет наделить мелодраматической участью. И если бабелевский персонаж, в гимназии поэтически перевравший историю Спинозы, изобретает затем захватывающую биографию для своей неприглядной родни, почерпнутую им из авантюрного чтива, то и Герман, в школьном сочинении исказивший пушкинскую фабулу, в первой главе «Отчаяния» столь же увлеченно возвышает свою мать, грубую мещанку, до литературного стереотипа русской аристократки.
Сравнение сердца с испуганным ребенком в «Приглашении на казнь»: «Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, – тише, это ничего (как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия)…» (4: 62), пришло из Фета, для которого оно вообще показательно: «Сердце – ты малютка! / Угомон возьми… / Хоть на миг рассудка / Голосу вонми» («Колыбельная песня сердцу», говорящая о предстоящей смерти) (СиП: 233)[598]598
Вначале у Фета значилось, правда: «Сердце – незабудка!..», а «малюткой» заменил ее Тургенев с согласия автора – ведь это отвечало самому жанру его «колыбельной».
[Закрыть]; «Может быть, сердце утихнет больное и, как дитя в колыбели, уснет» («Прежние звуки, с былым обаянием…») (СиП: 171). Вместе с тем для Цинцинната, сопоставляющего страх кончины со страхом рождения, «ужас смерти – это только <…> захлебывающийся вопль новорожденного…» (4: 166; ср. там же: 616, комментарий Сконечной). Оставляя пока в стороне метафизический аспект этого отождествления, нужно заметить, что формально, скорее всего, оно навеяно другим стихотворением Фета – «Ничтожество»: «А между тем, когда б, в смятении великом / Срываясь, силой я хоть детской обладал, / Я встретил бы твой край тем самым резким криком, / С каким я некогда твой берег покидал». Ниже мы укажем и на отсылки к другим романтическим текстам в рисовке того затхлого мира, где томится герой.
Как давно отметил П. М. Бицилли, Набоков оставался почитателем и русской реалистической прозы в лице Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других ее мастеров. Вместе с тем ее мотивы и сама стилистика, как было и в случае Фета, зачастую сплавлены у него с постоянно занимавшей его метафизической топикой или с темой смерти. Примером может послужить толстовская интонация, различимая в прозрениях Цинцинната из чернового отрывка книги (процитированного Долининым): «Как же я раньше не сообразил? Да, да, конечно… Как просто…» (4: 25) Ср. хотя бы в заключительных строках «Смерти Ивана Ильича», повествующих о просветлении героя перед самой кончиной: «Как хорошо и как просто, – подумал он. Избавить их и самому избавиться от страданий»[599]599
Толстой Л. Н. ПСС: В 90 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1936. Т. 26. С. 113.
[Закрыть]. Конечно, это лишь одна из множества толстовских реминисценций у Набокова, особенно тщательно изученных комментаторами на материале «Камеры обскуры»[600]600
Долинин А. А. Истинная жизнь… С. 119–122.
[Закрыть]. Прибавим сюда ложный ход из «Отчаяния» – лукавую отсылку к любимой им «Анне Карениной»: «Когда проехал последний вагон, она [жена героя], согнувшись, посмотрела под колеса и перекрестилась» (3: 479).
Несмотря на частые вкрапления реалистической классики, проза Сирина в целом по-прежнему ориентирована была на базовые романтические и неоромантические модели. В эмигрантской поэзии эту традицию продолжил, как известно, высоко ценимый им В. Ф. Ходасевич («литературный потомок Пушкина по тютчевской линии»). О набоковских диалогах и пересечениях с ним написано так много, что к этому трудно что-либо добавить. Но вот, например, в рассказе «Оповещение» (1934) мы находим скрытую цитату из стихотворения Ходасевича «Окна во двор». Глухая героиня, которой с минуты на минуту предстоит узнать о гибели сына, среди общей напряженной тишины движется «очарованная и ограниченная своей глухотой» (3: 612). Семантический контур подсказан Ходасевичем: «С улыбкой сидит у окошка глухой, Зачарован своей глухотой» («Окна во двор», 1924)[601]601
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. Стихотворения. Литературная критика. 1906–1922. М.: Согласие, 1996. С. 278.
[Закрыть].
Что касается поэтов Серебряного века, то среди них в сиринских романах 1930-х годов продолжает доминировать Блок – в первую очередь его стихотворение «На железной дороге», так внятно прозвучавшее еще в «Машеньке». Теперь отсылку к нему мы встретим в «Камере обскуре»: «Появился в супротивном доме молодой человек, кудрявый, в пестрой фуфайке, который по вечерам облокачивался в окне на подушку и улыбался ей издали, – но скоро он отъехал» (3: 262). Его предшественник – эпизодический персонаж Блока: «Лишь раз гусар, рукой небрежною / Облокотясь на бархат алый, / Скользнул по ней улыбкой нежною… / Скользнул – и поезд в даль умчало»[602]602
Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ., 1960–1965. Т. III. C. 260. Отмечу тут заодно графическую кодировку автором его собственной фамилии («облокотясь»).
[Закрыть]. В «Приглашении на казнь» сама блоковская ритмико-семантическая подача цветовой гаммы заново нагнетается в дорожной сцене, которую на ассоциативном уровне сплетает с «Железной дорогой» Блока общая тема движения к предстоящей гибели: «Бежали красные и синие мальчишки за экипажем»[603]603
Сконечная в своем комментарии связывает этот фрагмент с драмой Блока «Король на площади» (4: 633).
[Закрыть] – везущим Цинцинната к эшафоту.
А. К. Жолковский обратил внимание на «неожиданную параллель» «Защиты Лужина» с шахматной метафорикой, развернутой в последней строфе «Марбурга» (2: 421, 434, примеч. 7) – кстати сказать, одного из наиболее романтических стихотворений молодого Пастернака (1916). Но у Набокова встречаются и другие схождения с этим, вероятно, сильно впечатлившим его текстом. В «Короле, даме, валете» Франц досконально, но поначалу еще украдкой штудировал облик Марты:
С точностью до полудюйма он отмечал ту черту, до которой она показывала ноги <…> Вот такими быстрыми, короткими взглядами он изучил ее всю, предчувствовав движение ее проворно поднявшейся руки[604]604
Накопленные впечатления Франц подытоживает толстовским мотивом: «И был вечер, когда она собиралась на бал, и он поражен был тем, что у нее под мышками бело, как у статуи» (2: 184). Сравнение напоминает о столь же статуарной Элен Курагиной из «Войны и мира», в которой Е. Д. Толстая подметила аллюзии на языческий образ Венеры (Толстая Е. Игра в классики. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 278–279).
[Закрыть], когда гребешок отливал одним концом от тяжелого шиньона… (2: 184)
Я нахожу здесь парафраз того четверостишия «Марбурга», которое Маяковский назвал гениальным:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































