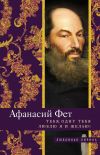Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
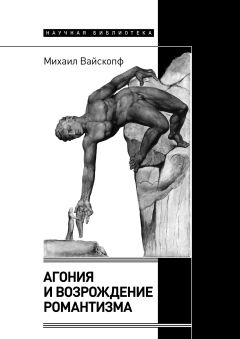
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Ваш Чехов был большой талант. Но через тридцать лет… его даже в России перечитывать не будут. И вообще я верю, что эта болезнь века – литература без фантазии – скоро пройдет, и тогда нас, англичан, поблагодарят еще за то, что мы, в самый разгар этой моды на неуловимые расплывчатости, хранили в своей литературе традицию действия, точных контуров <…> И она еще понадобится.
Как видим, многим она действительно скоро понадобилась – и Лунцу в наибольшей мере. Призывая, вослед Жаботинскому, внедрять «идею» в фабульное построение – которому надо учиться у Запада, – он вторит ему и в своих нападках на вялый чеховский психологизм:
Что больше действует на зрителя: величественная игра страстей или нудная психологическая жвачка, где идея возможна только приклеенная, фальшивая? В сто раз действеннее будет идея в железом спаянной трагедии, на идее построенной, чем в дряблой, вязкой драме Чехова, об идее говорящей <…> Крестьянину и рабочему, как всякому здоровому человеку, нужна занимательность, интрига, фабула… Великая революционная заслуга будет принадлежать тому, кто… даст пролетариату русского Стивенсона <…> Тоска по фабуле растет. Стоном стонут красноармейские и рабочие клубы, которые заваливают народниками и пролеткультцами. Кровавыми слезами плачут пролетарские театры, где ставят «Ночь» Мартигэ, где богатые идеи и никакого действия. <…> И вот я зову вас, Серапионовы братья, народники: пока не поздно, в фабулу, в интригу, в настоящую народную литературу <…> На Запад! На Запад![403]403
Лунц Л. Н. Вне закона. С. 211, 214.
[Закрыть]
Но где же за пределами английских образчиков искать эту фабульность? За нею Жаботинский обращается не на Запад, а на Восток. Как наиболее мощный и витальный ее источник он, устами своего лондонского собеседника, аттестует книгу, гораздо лучше известную тогдашнему английскому, нежели русскому (и даже еврейскому) читателю. Англичанин говорит:
Эта книга – Библия. Ни один народ на земле, даже евреи, не знает Библии так, как мы ее знаем. Она лежит в основе нашего воспитания, она – первая сказка нашей детской и первая книжка нашей школы. Ее цари, пастухи и герои для нас – живые люди. Когда я произношу имя Гедеон, передо мною встает целая эпопея – а вы даже вряд ли припомните наизусть, кто был Гедеон и чем прославился. Назовите уличную торговку Иезавелью – и она на вас жестоко обидится, до того жив в ее сознании библейский образ. И не думайте, что так глубоко врезываются в нашу память законы или поучения Библии. Нет, врезывается в память навеки фабула Библии – ее борьба, ее кровь, ее подвиги и хитрости, ее чудеса и ужасы. Недаром наши пионеры, которые создали Америку, переселялись туда с ружьем и Библией. Эта книга с начала XVII столетия формировала наш национальный характер; и, заметьте, именно с XVII столетия Англия начинает превращаться в мировую державу, оттесняя постепенно Испанию, Португалию, Францию. Неужели это случайное совпадение? Никогда. На истории нашего волшебного имперского роста лежит ясный отпечаток самой большой и самой чудесной из волшебных сказок мира. И это, если хотите, лишнее подтверждение моей литературной теории: самая бессмертная из книг есть в то же время самая богатая фабулой[404]404
Русские ведомости. 1917. № 12. 15 января. Статья была перепечатана мною в иерусалимском журнале «Солнечное сплетение» (2001. № 14/15, в подборке эссеистики Жаботинского 1916–1917 гг.).
[Закрыть].
Панегирик Библии, завершающий эту статью, написанную, как мы знаем, в самом конце 1916-го или в начале 1917 года, по существу, был непосредственно связан у Жаботинского с его тогдашней борьбой за создание Еврейского легиона. Иначе говоря, культ фабулы, жизненной энергии и психического «здоровья» подчинен у него насущной сионистской задаче – пусть даже в самой статье она оставлена за скобками.
Лунц, вероятно, не разделял этих сионистских упований, и там, где персонаж Жаботинского рассуждал о «здоровье расы», он предпочитает говорить о здоровье классовом: крестьянам и рабочим, «как каждому здоровому человеку, нужна занимательность, интрига, фабула». Однако еврейская ностальгическая проблематика была и ему чрезвычайно близка: его тоже воодушевляли темы Исхода и Библии как национального эпоса. Его дебютные рассказы (1922) были стилизованы под библейские сказания, а в зачине одного из них, «Родина», посвященного В. Каверину, дана косвенная отсылка к образу того же Гедеона, которого упоминает Жаботинский в «Фабуле»: «Вот таким пришел ты из Египта в Ханаан, помнишь? Это ты лакал воду из Херона[405]405
Должно быть – Харода (источник Эйн-Харод под горой Гилеад в Изреельской долине на севере Израиля).
[Закрыть], вот так, животом на земле, жадно и быстро»[406]406
Лунц Л. Н. Указ. соч. С. 13. Фигура Гедеона, правда, уже привлекала к себе внимание новых еврейских авторов. См., например, разбор стихотворения Любошицкого «Разрушение жертвенника»: Красный Г. Я. Еврейская художественная литература за 1902 год. Критический очерк // Художественно-беллетристический сборник. СПб., 1903. С. 109–110.
[Закрыть].
По понятным причинам в советской России общая тяга к остросюжетной беллетристике получила развитие, весьма далекое от этих ветхозаветных моделей. Как писал А. Ю. Галушкин, здесь на время возобладала бухаринская программа «создания революционной романтики» и «коммунистического Пинкертона»[407]407
См.: Шкловский В. Гамбургский счет. С. 503. Подробный анализ идеологических баталий вокруг «красного Пинкертона» на материале театра 1920-х годов см.: Маликова М. Скетч по кошмару Честертона… // Новое литературное обозрение. 2006. № 78. С. 32–59.
[Закрыть]. Хотя Жаботинский и сам призывал ивритских писателей к сотворению собственного Пинкертона, образцом высокой, героической национальной фабулы для него оставалась Библия.
В «Слове о полку» он куда обстоятельнее, чем прежде, живописует своего экзотического соратника Паттерсона, лишь бегло, хотя и почтительно, упомянутого в «Фабуле». Теперь, заново повествуя о его баталиях со львами, Жаботинский продолжает:
До сих пор в его домике, в мирном Букингамшире, хранятся те трофеи – восемь темно-рыжих львиных шкур и длинная рукопись, поэма на языке суахели (sic. – М. В.), преподнесенная ему благодарными рабочими. На моем экземпляре его книги «Людоеды» изображено: «26 издание» <…> Вскоре после этого случая на р. Саво разразилась Англо-бурская война. Паттерсон поступил подпоручиком (то есть лейтенантом. – М. В.) в британскую кавалерию, проделал всю затяжную войну и вышел в отставку с чином подполковника. После этого он жил в Индии, объездил полсвета, пережил несколько бурных эпизодов, о которых по сей день ходят по лондонским клубам легенды, создавая Паттерсону друзей и врагов, – жил жизнью, которая в передаче звучала бы, как роман, и притом не из нашего прозаическаго столетия. «Букканер» называет его бывший его приятель, генерал Алленби: так звали двести лет тому назад и больше тех удальцов, что сломили власть Испании на островах Караибского моря и помогли – может быть, против собственной воли – превращению Атлантического океана в английское озеро. А в конце этой красочной карьеры стал он предводителем Zion Mule Corps в Галлиполи, потом командиром одного из еврейских батальонов в Палестине и не услышал за то пока спасиба ни от евреев, ни от христиан. Но он говорит, что не жалеет[408]408
Жаботинский В. Е. Слово о полку. С. 52.
[Закрыть].
В «Слове…» Жаботинский уже очень настойчиво увязывает приключенческий типаж протестанта-сиониста с Библией. Делается это с ассоциативной опорой на давнюю «Фабулу»: как там Ветхий Завет сопрягался с британскими военно-морскими триумфами XVII столетия, так и здесь к подобным победам, через образ «букканера», подключается современный завоеватель Святой Земли. Но фигура Паттерсона и напрямую соединяется с Библией. «Есть англичане, – прибавляет он, – которые, когда уезжают в далекое путешествие, берут с собой в дорогу только два томика: Библию и „Людоедов на р. Саво“». В страну Библии Жаботинский отправится вместе с самим Паттерсоном.
Портрет подполковника возвращает нас и к теме здорового британского антипсихологизма, который в статье противопоставлялся тягучей и бесплодной рефлексии. И как в «Фабуле», этот энергичный, действенный, жизнерадостный антипсихологизм тоже соотносится с Ветхим Заветом и его героями. Паттерсон на равных введен в их сакральный круг. Это высокий, тонкий, стройный человек с умными и веселыми глазами: воплощение того, что англичане полуворчливо, полувосхищенно называют ирландским charm-ом – но без единой капли другого отличительного признака ирландской психологии: уныния, рефлексии, болезненной охоты углубляться в самого себя – всего, что мешает ирландцам жить по-настоящему, не в меньшей мере мешает, чем русским. У Паттерсона этой самоотравы нет. Зато есть у него – изумительное знание Ветхого Завета. Гидеон и Самсон для него – живые образы, приятели, чуть ли не члены его же кавалерийского клуба на Пикадилли[409]409
Там же. С. 53. Кстати, в этом же описании охотничий подвиг Паттерсона, совершенный в Уганде, Жаботинский многозначительно привязывает к истории сионистского движения. Он называет Уганду «нашей», напоминая о шестом Сионистском конгрессе, на котором обсуждался недолговечный угандийский проект, вскоре отставленный в пользу прежней программы возвращения евреев в Сион. Ср. там же: «Лучший сионист из всех (в легионе. – М. В.) был сам полковник. Его аргументы назывались: Эгуд, Гедеон, Девора и Варак, царь Давид, Армагеддон, луна в долине Айялонской» (с. 99).
[Закрыть].
Собственную фигуру мемуарист трактует куда менее пафосно. Когда он рассказывает затем об их совместной поездке из Каира в Палестину (весна 1918 года), его автопортрет, перекликающийся со старой темой еврейской беспочвенности, несет в себе печальные аллюзии на образ вечного скитальца-еврея, запечатленный в заглавии чеховского рассказа «Перекати-поле». Иное дело – Паттерсон. Роли контрастно перераспределены: сионистский мечтатель при виде Суэцкого канала космополитически размышляет об инженерных достижениях современности, а британский инженер – грезит о древнем Израиле. Библия, как когда-то в «Фабуле», отзывается для него величественной «сказкой»:
Всю ночь в поезде оба мы не спали. Не потому, что взволнован был я: взволнован был полковник [вернее все же, подполковник]. Нашему брату – перекати-полю без почвы и традиций трудно представить себе, что значило для его протестантской души «переживать» такие имена, как Синайская пустыня, Газа, Иудея. Еще в детстве он по воскресеньям тихо сидел у огня, когда отец читал благоговейно притихшей семье очередную главу из английской Библии. Суэцкий канал? Для меня это тоже грандиозная вещь – в смысле инженерного достижения. Но для Паттерсона это было личное воспоминание, кусок его собственного детства, отголосок первой из первых волшебных сказок. <…> Для него это было расступившееся Чермное море, Моисей-пророк с длинной бородой и рогатыми лучами на лбу, фараоновы колесницы в волнах, столпы огня и дыма.
Луна, заря, солнце – а кругом все то же, пустыня с редкими кочками зелени. Потом несколько больше зелени: это Газа. Серая, запыленная, запущенная арабская трущоба в моих глазах, но для моего полковника это город могучего Самсона и веселых филистимлян[410]410
Там же. С. 102–103.
[Закрыть].
Несомненно, Жаботинский, по своему обыкновению, скромничает, отступая в привычную тень. «Могучему Самсону и веселым филистимлянам» он, еще до «Слова о полку», успел посвятить целый роман – тот самый, что «не из нашего прозаического столетия». Печатался он в парижском «Рассвете» в 1926–1927 годах, отдельным изданием вышел в 1927-м, но работа над ним, по данным И. Шехтмана, началась еще в 1919-м, то есть вскоре после Палестинской кампании и этой совместной поездки. Думается, именно Паттерсон в немалой степени сделался для него современным прототипом романного Самсона, представленного таким же любителем экстремальных похождений, как и сам подполковник. Их сближает общая склонность к «веселью» (увязанная в романе с филистимскими симпатиями богатыря), бесстрашие и охота на львов. Самсона, как и Паттерсона, за избавление от страшного врага боготворят туземцы:
Обращение к библейской романтике, задействованной в романе, стало для Жаботинского как бы программой национального оздоровления, спаянного с духом действия и фабулы. Но он воплотил ее в образе английского офицера – подобно тому, как его герой свою бодрость, жизнелюбие и государственную мудрость почерпнул в филистимском стане.
Рихард Вагнер, Франц Кафка и Александр Грин
Метаморфозы «Летучего голландца»
Публикуемые заметки ответвились от эссе, заказанного мне организаторами Вагнеровского фестиваля в Байройте. Речь шла о «Летучем Голландце» – ранней опере Вагнера, созданной в 1841-м в Париже и без особого успеха поставленной им в Дрездене на Новый, 1843 год. Сам он называл ее, правда, музыкальной драмой. Композитор, претендовавший также на лавры поэта, сочинил к ней либретто. О его тексте мне и предложили написать – с учетом моей специализации в качестве русского филолога (безнадежно далекой, впрочем, от музыковедения). Я от души благодарен госпоже Елене Верес, инициировавшей это приглашение и на протяжении работы для Байройта оказывавшей мне самоотверженную поддержку, особенно весомую с учетом того, что наше время не благоприятствует библиотечным разысканиям. Г-жа Верес щедро помогала мне ценными советами и поправками, снабдила меня своим собственным, исключительно точным подстрочником[412]412
Оттуда я беру и все последующие русские цитаты из либретто.
[Закрыть] и релевантной музыковедческой информацией, отобрав ее из необозримой библиографии по Вагнеру. Здесь я, однако, позволю себе существенно отойти от первоначально-байройтовской темы, сосредоточившись вслед за ней на некоторых ее отзвуках в двадцатом столетии. Получился своего рода триптих.
1. Рождение Холокоста из духа музыки
В целом вагнеровский текст опирается на знаменитую легенду XVI–XVII веков, впервые напечатанную лишь накануне XIX столетия и воодушевившую романтиков – Колриджа, Гауфа, Гейне. Однажды, во время страшных штормов, голландский капитан, жестокосердый грешник и богохульник, бросил вызов самому дьяволу. Он поклялся обогнуть мыс Доброй Надежды (либо мыс Горн), даже если ему придется плыть до Судного дня, – и тогда с неба раздался глас: «Да будет так: плыви!» Иногда рассказывали, что раз в десять лет Голландцу позволяется сойти на берег, чтобы найти ту, которая захочет выйти за него замуж и разделить его судьбу.
У Вагнера прототипический сюжет попал в сбивчивую зависимость от многоразличных влияний. В предисловии к своей книге «Музыкальные драмы Рихарда Вагнера» К. Дальхауз упоминает «неопределенную эклектику 1830-х гг.», отличавшую тягу его соотечественников к «романтической опере» в традиции Э. Т. А. Гофмана, Вебера и Маршнера; при этом сама немецкая опера оставалась слабой. В 1839-м, спасаясь и от кредиторов, и от рутинного прозябания, Вагнер через Лондон бежит из Риги в Париж, эту «столицу девятнадцатого столетия»[413]413
Dahlhaus C. Richard Wagner’s Music Dramas / Trans. by M. Whittall. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. Р. 2–3.
[Закрыть], где ему тоже суждено будет испытать, однако, тягостное чувство невостребованности.
В либретто написанной там программной оперы – «Летучий Голландец» – он никуда не уйдет от привычной эклектики, а лишь усугубит ее. Несмотря на новаторские претензии, Вагнер неряшливо стянет здесь воедино разнородные тенденции, осложнив хаос добавочными несуразицами. Склейку катализирует, в сущности, как раз осуждавшаяся им французская общекультурная ситуация тех лет, в которой тоже господствовала позднеромантическая эклектика, только несравненно более размашистая, чем в Германии, – «неистовая» эклектика помпезно-мелодраматического, развлекательного и авантюрно-исторического толка.
Многократно говорилось, что образчик для «музыкальной драмы» Вагнеру дал знаменитый парижский эмигрант Генрих Гейне – точнее, его повесть 1834 года «Из мемуаров господина фон Шнабелевопского»[414]414
Ibid. P. 7–10.
[Закрыть] или, еще точнее, ее вставной сюжет. К концу 6-й главы странствующий гейневский нарратор вспоминает, как «однажды ночью увидел проходивший мимо большой корабль с распущенными кроваво-красными парусами, походивший на темного великана в широком огненно-красном плаще. Был ли это Летучий Голландец?» А следующую главу он открывает самой легендой, слышанной им еще в детстве. Десятилетние матримониальные испытания Летучего Голландца мемуарист сжимает до семилетних, а его надежды на верную супругу преподносит с сарказмом: «Бедный Голландец! Он частенько радуется, избавившись от брака и своей избавительницы, и возвращается снова на борт корабля».
По прибытии в Амстердам рассказчик якобы увидел там пьесу о Голландце. Действие ее происходит в Шотландии. Алчный купец заочно сватает богатому мореходу свою дочь Катарину. Дома у них на стене висит портрет красивого и «опасного» моряка, каким он запечатлен был «сто лет назад», – и с тех пор из рода в род переходит «предостережение, по которому женщины из этой семьи должны опасаться оригинала». Трепещущая невеста сразу узнает гостя – а тот, иронизируя, старается сперва развеять ее страхи, но потом все же рассказывает о своей горестной судьбе в третьем лице, что не скрывает истину от Катарины. На его вопрос о будущей супружеской верности она отвечает: «Верна до смерти!» Но как раз в этот момент описание спектакля у Шнабелевопского прерывается картиной его собственных эротических злоключений с некой «голландской Мессалиной», начавшихся прямо в театре и еще более настраивающих его на скептический лад. Затем он все же снова посещает театр и узнает завершение пьесы: «Супруг любит героиню, но хочет покинуть, чтобы избавить от гибели, и открывает ей свою ужасную судьбу и тяготеющее над ним страшное проклятие», – и тогда «верная жена бросается в море, и вот наступает конец проклятью <…> он спасен, и мы видим, как корабль-призрак погружается в морскую пучину». Глава подытожена моралью мемуариста, комически предостерегающего женщин от летучих голландцев, а мужчин – от самих женщин, которые «даже при самых благоприятных обстоятельствах» несут им гибель[415]415
Гейне Г. Из мемуаров господина фон Шнабелевопского / [Пер. Е. Лундберга] // Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. Л.: Гослитиздат, 1956–1959. С. 442–446.
[Закрыть].
Через семь лет именно эта версия легенды была утилизована композитором – с сомнительного согласия автора[416]416
Dahlhaus C. Op. cit. Р. 9–10.
[Закрыть] – вместе с «кроваво-красными парусами» и семилетними интервалами. Заемному сюжету Вагнер придаст, однако, надрывное разрешение. По язвительному выражению Э. Ньюмена, «здоровый цинизм» Гейне, «с улыбкой взирающего на сентиментальную развязку», Вагнер вытеснит «тевтонской серьезностью» и «твердым убеждением, что в конце оперы «он сообщает нам нечто доброе и полезное для наших душ»[417]417
Newman E. Wagner as Man and Artist. London: John Lane, The Bodley Head, 1925. Р. 18–19.
[Закрыть].
По пути домой судно норвежца Даланда укрылось от яростного шторма в скалистой бухте – куда под своими кроваво-красными парусами врывается и корабль Летучего Голландца. Из его исповедальной арии мы узнаем, что «пречистый Ангел Господень» открыл ему условия спасения – но, увы, они недостижимы, и страдалец помышляет о гибели всего мира и о своей собственной, о переходе «в Ничто» – «in Nichts vergehn!» Тем не менее в последующем диалоге с Даландом он просит у него приюта, предлагая ему взамен свои несметные богатства, – ведь он все еще жаждет обрести наконец родину и по-настоящему верную жену. Позарившись на его сокровища, норвежец незамедлительно обещает выдать за него свое «верное дитя» – Сенту. Мощный ветер устремляет оба корабля к близкой гавани.
Пока что в доме Даланда девушки, ожидая его возвращения, поют за прялками, но взор Сенты, как всегда, прикован к портрету, запечатлевшему какого-то бледного и угрюмого моряка, т. е. самого Голландца. Его историю очень давно поведала ей Мари, кормилица, которая теперь, однако, бранит непослушную Сенту: «Ты всю свою молодую жизнь промечтаешь перед лживым изображением?» Подтрунивая над нею, девушки говорят, что беззаветно влюбленный в нее охотник Эрик «подстрелит в гневе соперника со стены!». Тогда она поет им ту балладу о вечно странствующем корабле, которую так часто певала ей неосмотрительная Мари. Оказывается, каждые семь лет его капитан выходит на берег, дабы отыскать ту поистине верную подругу, что избавит его от мучений, – но всякий раз терпит неудачу. Девушки потрясены, а сама Сента клянется: «Это я, я спасу его своей верностью! Пусть Ангел Господень меня ему покажет!» Клятва ужасает вошедшего Эрика, и он рассказывает ей о своем страшном сне: с чужого корабля спускаются Даланд и тот самый незнакомец с портрета, а Сента бросается им навстречу, чтобы обнять его. На тревожные вопросы Эрика об уже назначенном с нею бракосочетании она отвечает уклончиво. Охотник в смятении выбегает – а его сон тут же сбывается: в дом входят Даланд с Голландцем. Потрясенная Сента мгновенно узнает оригинал, а гость чувствует, что это именно та, кого он так долго искал.
Следует праздник вернувшихся домой норвежских матросов и, отдельно, беснование голландских мертвецов, – под их дикое пение и раскаты чудовищной бури, вселяющих ужас в мирных норвежцев. Ошеломленный же Эрик, узнав о назначенной помолвке, понапрасну напоминает возлюбленной о ее былых объятьях и горестно уличает ее в неверности. Между тем Голландец, случайно услышав его попреки, скоропалительно заключает, что он ошибся и в Сенте, как во всех ее предшественницах. Навсегда изверившись в Боге, он возвращается на свой корабль под кроваво-красными парусами – но тут Сента воочию доказывает ему свою верность, бросившись со скалы в море. «В то же мгновенье корабль Голландца распадается на обломки [вместе с экипажем, конечно]. Вдали из воды поднимаются Голландец и Сента, оба преображенные, он обнимает ее».
В черновике, как установил Х. С. Чемберлен[418]418
Чемберлен Х. С. Рихард Вагнер / [Предисл. и пер. с англ. С. Ф. Никитина.] СПб.: Владимир Даль, 2016. С. 396, примеч. 2.
[Закрыть], вагнеровская драма разыгрывалась тоже в Шотландии – хотя биограф-антисемит, вскользь отметивший этот, именно гейневский, след, предусмотрительно забывает о самом Гейне. Потом композитор предпочел Норвегию, сообразно переделав имена персонажей.
Ближайшая память фарсового жанра оставила у него непреднамеренные семантические и мотивные лакуны, разъедавшие текст и интриговавшие комментаторов. Некоторые нестыковки давно перечислил Э. Ньюмен в книге «Вагнер как человек и художник»:
В умах критиков всегда была неразбериха по поводу того, поклялась ли Сента в своей любви Эрику или нет; а совершенно ясно, что все прочтение ее характера и мотивов в последнем акте зависит от ответа на этот вопрос <…> Эрик вообще слишком бледная фигура, а Даланд просто «оперный отец» в чистом виде. Я и сам никогда не мог понять, как это может быть, чтобы Сента, только взглянув на Голландца, сразу узнала в нем оригинал портрета, висящего у них дома, а отец ее не замечает никакого сходства, хотя Голландец при первой встрече поведал ему и о своей несчастной судьбе, и о желании найти женщину, которая его полюбит. И наконец, мне всегда хотелось бы знать, что случилось с командой корабля Голландца, когда Сента бросается в море, и корабль тонет со всеми матросами[419]419
Newman E. Op. cit. P. 20.
[Закрыть].
Вместе с тем комизм ситуации не ощущался самим Вагнером, лишенным чувства юмора и самоиронии, несовместимой, видимо, с его мессианским нарциссизмом. Все же он задним числом ссылался в свое оправдание на музыкально-метафизический субстрат, который якобы сам по себе сшивает происходящее на сцене (оправдания, подхваченные впоследствии Томасом Манном): «В „Летучем Голландце“ я прежде всего старался дать действие в его простейших чертах, исключить ненужные детали…» («Музыка будущего», 1861[420]420
Вагнер Р. Избр. работы / [Вступ. статья А. Ф. Лосева.] М.: Искусство, 1978. С. 525.
[Закрыть]). Увы, главной из них оказался здравый смысл, потребный и в минималистских пределах оперных жанров, пусть даже притязающих на новаторство. В этом смысле «Летучий Голландец» послужил заставкой ко всей истории его житейского и теоретического сумбура.
Вероятно, излишним было бы напоминать здесь, что излюбленным героем романтики был – и навсегда остался, при всех ее сегодняшних модификациях, – человек, духовно либо физически отторгнутый или же сам отторгшийся от постылой земли, – то есть моряк, путешественник, одинокий воитель, охотник, скиталец, бродяга. В раннем и высоком романтизме ему соответствовала героиня, пассивно ожидающая еще неведомого ей, как правило, суженого на берегу – в прямом или, гораздо чаще, переносном смысле. Оба они, по существу, чужды нашему убогому бытию, по слову Лермонтова в «Демоне»: «Господь из лучшего эфира / Соткал живые струны их. / Они не созданы для мира, / И мир был создан не для них».
В наиболее традиционном раскладе преобладающие, хотя и не обязательные, приметы обоих – томная худоба, вдохновенный взор и бледность – подспудно указывают на их потустороннее происхождение и, по сути дела, роднят с мертвецами. Распространенной кульминацией их первой встречи было взаимное узнавание (память душ), усвоенное и преемниками романтизма наподобие Достоевского вместе с сонмом других авторов. Вместе с тем герой почти ex officio соотносился с Иисусом, а его возлюбленная – с нежной и попечительной Мадонной (в силу кое-каких богословских парадоксов латентно связанной со Спасителем брачными узами). При случае эти привязки слегка камуфлировались метафорическим псевдонимом ангел, относимым то к одному, то к другому партнеру.
При более витальной обрисовке героя его странствия – прослеживаемые к античному эпосу – сочетают в себе байроническую тягу к экзотике (горы, дальние страны и пр.) с влечением к бурям (лермонтовский «Парус»). Романтик бросает им вызов, который знаменует его готовность к героическому преодолению бытия или к метафизической бесконечности. Такой типаж, давно доминировавший в западной авантюрной словесности, в николаевской России был пока довольно редок, но его метафизическая компонента акцентирована, например, у Теплякова, талантливого поэта 1830-х годов:
Матрос! Что вдалеке твой взор распознает?
Что с мачты видишь ты? – Я вижу бесконечность!
Неудивительно, что и Вагнер в своем «Произведении искусства будущего» (1849, изд. 1850) превозносит романтические штормы и испытания, взыскуемые дерзновенным человеческим естеством[421]421
Вагнер Р. Избр. работы. С. 180–181.
[Закрыть] (понятым у него тогда еще по Фейербаху). Здесь композитора вдохновляли уже не депрессивные страдальцы вроде Голландца, а иные герои, захваченные неутолимым жизнелюбием, страстью к приключениям и всеядной любознательностью. Вместе с тем подобная версия selige Sehnsucht решительно противостояла старой церковной аллегорике, тоже помянутой Вагнером и живописующей плавание души по бурному морю страстей к спасительной гавани – Небесной родине, она же загробная Земля Обетованная.
При положительно-эротическом настрое сюжета романтическая беспредельность достигала, однако, счастливого предела – земного адеквата Небесного отечества, – вне зависимости от того, бежал ли герой от любви или, казалось бы, в нее больше не верил. Как морское, так и прочие странствия – либо даже внешне бесцельное перемещение, – венчались встречей с заветной подругой, чей облик уже смутно предугадывался его душой. Олицетворяемый героиней приют заменит ему Небесную пристань, а обретенная возлюбленная – Невесту Христову (= метафорический «ангел»). В принципе, однако, романтик мог вместе с нею вернуться к захватывающим путешествиям как адеквату духовного восхождения – и именно такое решение мы найдем в «Алых парусах» Грина, о которых речь пойдет ниже. В любом случае его маршрутом управляет таинственный магический зов – песня, музыка – и/или некая потусторонняя сила, маскируемая под случайность и порой олицетворяемая полуволшебным помощником. Все вместе заменяет либо дополняет для него ветер, несущий в себе семантику «духа Божия», но в иных, негативных изводах темы не лишенный и демонологических коннотаций. Бывают, конечно, и разочарования, вызванные мотивом соблазна, неверности либо неодолимых социальных барьеров, – и тогда сюжет смещается в мартирологическое русло.
Вагнер, как мы видели, развертывает в либретто другой, но смежный и тоже адаптированный романтизмом нарратив, попутно прихватывая иные фабульные мотивы, слабо увязываемые с центральным действием. По облику (бледность и пр.) романтических антигероев типа Голландца легко спутать с безвинными страдальцами, если б не «огненный взгляд» и кое-какие добавочные приметы, в отдаленной ретроспективе роднящие их с мятежным Люцифером. За ту или иную вину преступник, подобно своим земным предшественникам – Каину, Пилату или Агасферу, – осужден на изнурительно-безостановочное движение и мечтает лишь о прощении и покое (правда, в лице Байрона, весьма почитаемого композитором, эпатажный романтизм восславил и неукротимых богоборцев). У сюжета есть как положительные, так и отрицательные трактовки, и вторые по возможности подтягиваются к первым, хотя оптимистическая перспектива предусматривалась далеко не всегда. Заслуженно претерпеваемые грешником страдания парадоксально ориентируют его собственный образ тоже на Иисуса – как на парадигматического мученика, – хотя по понятным причинам сходство напрямую не декларируется. Более того, и гонимым злодеям (а порой – просто безумцам) зачастую тоже приходит на помощь заместительница попечительной Мадонны – влюбленная девушка, готовая ради них к благородному самопожертвованию[422]422
Имелся, впрочем, и популярный симметрический ход, заданный евангельским прецедентом с блудницей и отозвавшийся в ориенталистской окраске у Гете: это «Бог и баядера» (1798) – вещь, оказавшая сильное влияние на романтические сюжеты о спасении падшей женской души; упоминает ее и Вагнер в книге 1851 года «Опера и драма». Случалось, правда, что доверчивая грешница сама становилась жертвой бесчеловечного обмана и надругательства.
[Закрыть].
Теоретически тут допустима определенная конвергенция нарративов о любви, мечтательном страннике, безвинном страдальце и наказанном преступнике. Вагнер же склеил и тем самым деформировал эти варианты, а для технической мотивировки действия ввел в него инородные жанровые ходы, не слишком озаботившись согласованием целого.
Романтический ветер, приведший героя к Сенте, – отнюдь не веянье благого Духа. Направляясь домой – уже вместе с Голландцем, – капитан Даланд говорит, что попутный штормовой ветер «дует из чертовой дыры» и что тот, «кто полагается на ветер, полагается на милость Сатаны». Зато страшная команда призраков радуется этому вихрю, наполняющему их кроваво-красные паруса: «Ха-ха-ха! <…> Сам Сатана нам их надувает!» Именно с ним отождествляет Голландца и охотник Эрик, силясь отговорить любимую от союза с пришельцем: «Ты в когтях Сатаны!» Действительно, хотя никакой особой вины, кроме вызова, – причем брошенного им вовсе не Богу, а именно дьяволу, – за ним тут не числится, «черный капитан» (как называет Голландца его команда) и сам отнюдь не лишен бесовской окраски – на то он, собственно, и ходячий, вернее плавающий, мертвец. Чело его «помрачают муки» – характерный для романтизма реликт Каиновой печати. Заимствованный из Гейне портрет, с детства околдовавший героиню («мерзкий портрет», «лживое изображение» по гневному определению кормилицы), тоже, вопреки претексту, получает в либретто отчетливо инфернальный привкус, скоординированный, как указывалось в литературе, с общеизвестной англо-готической традицией.
Клишированно романтическая бледность Сенты, оставаясь намеком на ее потустороннее происхождение, на сей раз сама по себе сближает ее с мертвенным Голландцем: так от метафизического канона Вагнер на балладный манер перескакивает к некрофилии. Межжанровый и межмотивный сумбур захватывает и прочие фрагменты либретто. С одной стороны, моряк одержим понятной ностальгией, с другой – для него пригодна любая «родина». Не имея ничего общего с церковным раем как чаемой гаванью мучеников, она, однако, поставлена в ассоциативное родство с ним: «Здесь он нашел родину, здесь его корабль в надежном порту!» – ликует девушка. Соответственно аллюзионно-романтической традиции, хотя тут и не слишком уместной, инфернальный мореход одновременно ассоциируется с Иисусом, возопившим с креста: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27: 46). Вагнеровский скиталец тоже горестно взывает к «ангелам, что оставили меня когда-то» – очевидно, тем самым, которые воплотятся теперь в Сенте. Мариологически-попечительный мотив примет в ее лице направление, далекое от гейневского претекста. У Вагнера сострадание героини явственно отдает поэтикой pieta или же духовным опытом визионеров. «Он стоит предо мной, – восклицает девушка, – с полными страдания очами, он выказывает мне свою неслыханную скорбь». Но перед нами лишь очередной инерционный реликт, пустой отголосок романтико-лирической схемы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.