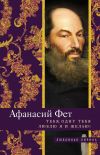Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
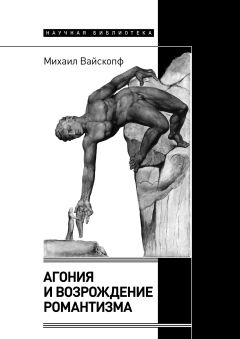
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
– Вы куда же теперь? – спросил Болдырев, прощаясь. – В «Бристоль» не советую: там хоть дешевше, но от клопов спасу нет. А в «Лондоне» почище будет и чай не спитой. Да вы ко мне завтра загляните, сделайте милость, я с вас портретик на память сниму. Магазин-то мой рядом, на Дворянской…
На следующий день, управившись с делами, я завернул на Дворянскую – до ночного поезда оставалось несколько часов. День уже угасал – сносный, но сероватый. Солнце щурилось из-за туч, грязь немного подсохла. Дома, светившиеся в темных лужах, выглядели чище и ярче своих замызганных оригиналов.
В роскошном по местным понятиям магазине Болдырев встретил меня с шумным радушием. Он уже побывал в церкви на отпевании, а затем на похоронах Николая Константиновича и даже успел опохмелиться.
– Народу, знаете, была тьма-тьмущая, как-никак видное лицо, городской архитектор. Сынок-то хорош, насилу к руке покойника приложился, аж скривился…
– Не понимаю я все-таки, воля ваша, Еремей Пахомыч, за что он его так возненавидел?
– Ну как же, он же почитал его сугубым убийцею.
– Помилуйте, что ему-то было до этого самого Ольховского – ни малейшего касательства!
– Э, не скажите. А лучше я вам сейчас ихние портретики покажу – сами, поди, проникнетесь… Их еще покойный господин мастер Фогель делал, то-то был умелец, таких теперь нету…
С почтением перелистав тяжелый красный альбом, Болдырев отыскал свадебный снимок Криницыных. Из тумана выступила фигура миловидной и болезненной женщины с темными печальными глазами; рядом с ней возвышался надменный блондин с одутловатым лицом, огороженным колючими бакенбардами.
– А вот, господин хороший, и тот самый Ольховский, убиенный магометами.
С картона отчужденно взирал на меня статный новобранец – смуглый юноша со строгим, чеканным лицом и глазами вразлет – точная копия или, скорее, оригинал Валерьяна Николаевича Криницына… Сходство было до того разительным, что я замер в недоумении.
– Это как же понимать? Да этот ваш Валериан Николаич – просто дитя любви!
– Никак нет-с. Никакого, извините, адюльтера.
– Да вы почем знаете?
– А по срокам-с. Родился-то Валериан Николаич аж через год с лишним после того, как господин Ольховский на Магомета собрались и потом на военный театр живот свой возложили.
Болдырев победоносно взглянул на меня – и тут же осекся. Помолчав с минуту и глядя куда-то вбок, он вдруг пробормотал чуть слышно, почти шепотом:
– Есть тут только одна загвоздочка. Как я доподлинно знаю-с, родился Валерьян Николаевич ровно через девять месяцев и пять дней после того ночного виденья, что было у матери-то, Татьяны Евгеньевны. То бишь через девять месяцев после того, как убили на войне господина Ольховского…
К ночи погода прояснилась, но подвывал ветер – холодный, напористый. Луна серебрила распутицу. Казалось, все дома и все люди были вылеплены кем-то из этой лунной грязи, из сырой одури сновидений, и оттого они так легко смешивались между собой и снова разделялись, то выходя из осеннего морока, то возвращаясь в него. Поезд набирал скорость, и стук колес отдавал у меня в ушах заупокойной молитвой. Чьи-то темные, безвестные лики заполонили окно, и все они сливались в общее лицо ночи, конвоировавшей наш поезд – и меня самого в моих безоглядных и иллюзорных странствиях.
Барон Прозен
За стеной
Каспар Штерн, двадцатилетний поэт и студент богословия, поселился весною на краю городка, в домике фрау Кунц, вдовы вахмистра, женщины важной и строгой, зато отличной хозяйки. Сердце у него было слабое, он быстро уставал, и, прослушав его, университетский врач присоветовал ему спокойную, размеренную жизнь на лоне природы. У вдовы было тепло и уютно, и к завтраку она подавала кофе со сливками. Свою скромную мебель фрау Кунц украшала вышивкой; под окнами у нее росли крокусы и резеда, а снаружи – тутовые деревья. От соседнего дома двор отделяла высокая каменная ограда, откуда по ночам доносился собачий лай. Кто жил там, студент не знал. В двух шагах возле дома по камням змеился ручей, а вдали, к западу от города, тянулся лес, где, по слухам, водились олени и даже волки. На закате все сильнее пахло яблоневым цветом – видно, из соседнего сада, где за стеной бушевал соловей, и когда Каспар глядел на густеющее небо, ему совсем не хотелось заниматься греческим.
В мае начались грозы – в вышине над деревьями расхаживал кто-то праведный и гневливый, но рык его перемежался цезурами ливня и тишины. Наконец, усталое небо прояснялось, и тогда, сидя в беседке у самой ограды, студент слышал доносящиеся из сада легкие шаги и порой какие-то женские речи, до того тихие, что слов он не мог разобрать. Голос, однако, был юный. От лени и праздности Каспара одолевало любопытство. Отправляясь на предписанную ему прогулку, он всегда проходил мимо невысокой железной двери, врезанной в известняк, и однажды – это было уже в сыром и душном июне – он увидел, как оттуда появилась патлатая старуха с кошелкой. Была она в застиранном клетчатом переднике, с седыми прядями над бесцветными глазами – кажется, без зрачков – и в сопровождении пуделя-брюнета – аккуратно, даже франтовато подстриженного, словно в укор хозяйке. Странное дело: когда она приоткрыла дверь, Каспару почудилось, будто там, за нею, ничего не было – то есть ни зелени, ни самого сада: вообще ничего. Старуха заперла дверь и хмуро покосилась на Каспара. Он поклонился – та молча кивнула. Потом студент не раз встречал ее, когда соседка возвращалась из города – с кошелкой, наполненной овощами, но уже без собаки. Он предлагал ей донести ношу, но старуха неизменно отказывалась – любезно и сухо, – хотя видно было, что ей тяжело. В разговоры она не вступала. Дважды Каспару довелось приметить и высокого худого старика, подходившего откуда-то сбоку к железной двери с мотыгой и лейкой.
Тщетно пытался он выведать что-нибудь у своей хозяйки. Фрау Кунц не хотела, да, возможно, и не могла отвечать на его путаные вопросы. Да, там кто-то живет, но кто именно, ей неизвестно: не в ее правилах интересоваться чужой жизнью, с нее достаточно собственной, да и та утратила всякий смысл после кончины господина вахмистра. Теперь таких людей больше нет – откуда им взяться, да и кому они теперь нужны? К оставшимся она относилась с пристойной и сдержанной антипатией; по-настоящему раздражали ее лишь бесстыдно растущие цены на кофе. По вечерам, при свечах, она искусно вышивала собственный мир – лебедей, арфы и мельницы. Иногда Штерн, от нечего делать, сопровождал ее в походах на рынок (вдова экономила на прислуге). Ее житейская любознательность исчерпывалась проницательными взорами, которые она обращала на картофель, брюкву и самих торговок – ибо свои гастрономические наблюдения вдова увязывала с физиогномическими; и, глядя на нее, Каспар убеждался, что тайная гармония сочетает людей с овощами.
Ночью, когда шумел ветер, ему все чаще чудилось, будто кто-то грозный идет по вершинам тутовых деревьев – а потом в соседнем саду кто-то другой, слабо вторя ему, идет по земле. Там, должно быть, отцвели яблони – теперь их аромат забивала резеда, и, когда поднималась луна, Каспар, внимая шелесту шагов, слышал из-за стены чье-то пение, до того неуловимое, что оно казалось ему прекрасным и трогательным.
Позднее, это было почти осенью, его посетил сон, в котором голос обрел живую плоть и наполнился словами, проступившими из самой музыки, словно ее условный перевод – с ангельского на человеческий. Голос пел про любовь в сени зеленых ветвей, про уже совсем созревшее счастье, про тяжесть смелых плодов, готовых упасть на землю, чтобы наконец воссоединиться с нею, – и сквозь этот голос студент вспоминал, что похожую притчу он уже встречал в какой-то книге – быть может, переводе с еврейского. Но у слов уже были уста, было лицо, прекрасное девичье лицо, озаренное серым сиянием, смотревшим Каспару прямо в сердце. Глаза эти, будто отделяясь от ее лица, все приближались к нему – и когда уже почти сомкнулись с его собственными зрачками, он проснулся.
Придерживая сердце ладонью, Каспар вышел из дома. Над лесом нависал туман, но уже чуть подсвеченный каймою зари. Где-то за стеной, совсем рядом, он услышал все тот же голос – но слова удалялись, и опять, как наяву, он не мог разобрать их. Тогда, хрипло дыша и ободрав в кровь пальцы, студент взобрался на стену и начал вглядываться в белесую муть. В ней обозначились какие-то ветви, невидимый голос скользил между ними в предрассветном тумане – и вдруг под одной из тяжелых от плодов яблонь студент различил силуэт девушки в белом платье. Она говорила с кем-то невидимым, будто отвечала на вопросы или возражала – ветер доносил только клочья и лепестки слов. Словно привлеченная его взглядом, она обернулась, – тогда Каспар узнал абрис девичьего лица, и на мгновенье его ослепил серый луч. Все сразу исчезло, туман спрятал деревья и придавил сад. Каспару стало холодно, он спрыгнул на землю и вернулся к себе.
Проснулся он очень поздно, от какого-то неприятного шума, доносившегося из-за садовой стены, – казалось, будто в соседский дом вселился грубый и хлопотливый жилец. Студент вышел за ворота – и вдруг заметил, что железная дверь распахнута настежь, а внутри толпятся какие-то люди. Наконец оттуда вынесли гроб, за которым шел бородач с черным крепом и уже знакомые Каспару старуха со стариком; к ним прибавились еще какие-то непонятные, совсем безликие спутники. Потрясенный Каспар молча увязался за шествием. Никто не говорил ни слова. Никто и не плакал. Он заглянул в гроб – и застыл в горестном страхе. Там лежала та самая девушка в белом платье – он сразу узнал ее, хотя глаза ее были закрыты.
Каспар не пошел ни в церковь, ни на похороны. Вместо того он вернулся к железной двери, и, чуть помедлив, распахнул ее. Никакого сада там не было. Не было вообще ничего – и, схваченный ужасом, он упал лицом в пустоту.
Очнулся Штерн только к ночи. У постели сидел дружелюбный городской доктор, обставленный микстурами. Он прихлебывал кофе со сливками, окуная в него печенье.
– Сердце! – возгласил он. – Сердце, молодой человек. Грешно так пренебрегать своим здоровьем.
– Вот и я говорю, – помавая стальными спицами, прогудела фрау Кунц из недр старого кресла. – Господин студент слишком переволновался из-за чужой кончины.
– А вы были на похоронах? – спросил ее Каспар. Он приходил в себя очень медленно. Лицо домохозяйки распадалось в вечерних огнях; тени от спиц сновали по стене.
– Конечно, нет, это не в моих правилах. Я никогда не хожу к незнакомым покойникам.
– Зато я хорошо знал бедняжку, – возразил доктор, – а потому присутствовал вместе с ее родными на отпевании. Увы, очаровательная Катарина Фогельмайер не дожила и до двадцати. Сиротка была наследницей людей состоятельных, однако, при всей своей редкой красоте, никакой радости от жизни так и не получила. Я пользовал ее несколько лет, но, по правде сказать, в лечении не было особого проку. А теперь она скончалась… Поправляйтесь, молодой человек. Вам нужен покой. Как справедливо утверждают поэты, жизнь – лишь мимолетная иллюзия, а потому до́лжно заботиться о ее продлении. Рецепты на столе, и фрау Кунц проследит за тем, чтобы вы вовремя принимали лекарства.
На следующее утро совсем еще слабый Каспар робко постучался в железную дверь, чтобы выразить соболезнование родне Катарины. Его встретила все та же нелюдимая старуха, которая без всяких расспросов повела студента в дом. Штерна вновь поразило то, что никаких яблонь и вообще никаких деревьев тут не было – на сей раз он увидел во дворе только редкие клумбы, словно пестрые островки на вялой траве. Возле одной из них, не обращая на него никакого внимания, копался в земле тощий старик – тот же самый. Введя гостя в гостиную, старуха усадила его на диван возле столика, над которым висела неведомая картина – возможно, портрет умершей, закрытый полотном, как и зеркала в этом доме.
– Вам придется подождать, пока вернется господин Иммерих. Он отлучился в город, но, скорее всего, ненадолго. Это кузен фройлейн Катарины.
– Я даже не знал ее имени, – смущенно сказал Каспар. – Но мне часто доводилось слышать ее чудесное пение, когда она вечерами прохаживалась в саду…
– То есть как? – внезапно оборвала его старуха. На ее деревянном лице, как на палимпсесте, проступило изумление, окрасившее его на мгновение человеческими тенями. – Простите меня за резкость, но все это какой-то вздор. Прежде всего, я отнюдь не стала бы величать это место садом. Во-вторых, петь она просто не могла – несчастная девушка была немой. А в-третьих, как это – «прохаживалась»? Я ведь несколько лет прослужила сиделкой при Катарине, и уверяю вас, ходить она вообще не могла. Еще в раннем детстве она перенесла ужасную травму, навсегда осталась калекой, и по вечерам я сама выгуливала ее в кресле-каталке. По совести говоря, эта страдалица, при всей своей красоте, не была человеком – скорее его жалким подобием. Да вот, извольте взглянуть. Это портрет Катарины, который год тому написал ее кузен, художник. Уверяю вас, это очень точное изображение, ибо Всевышний, в щедрости Своей, даровал господину Иммериху талант, официально засвидетельствованный Мюнхенской Академией художеств.
Старуха сняла завесу с полотна. Обхватив подлокотники тонкими слабыми руками, в кресле сидела очень бледная, но невыразимо прекрасная девушка в белом – та самая, что когда-то явилась ему во сне. Она, не отрываясь, глядела на него – пронзительно серыми, серыми глазами.
[А. П. Розенгартен] [698]698
Фамилия автора указывается на конверте, подколотом к письму хранителем архива. Сочинитель начал было писать свой обратный адрес «Коломна, Мучной переу…», но, очевидно, передумал посылать письмо, почему и не указал ни номера своего дома, ни адреса Госпожи Икс.
[Закрыть]
Письмо госпоже икс
Милостивая Государыня! Покорнейше Вас прошу простить мне столь безличное обращение. Увы, мне неизвестны имя Ваше и отчество, а равно и Ваша фамилия. Более того, у меня нет никаких оснований утверждать, что Вы сочли нужным обзавестись ими.
Буду с Вами до конца откровенен. То немногое, что я о Вас знаю, вообще не дает мне права безоговорочно постулировать самое Ваше существование. Простите мне невольный и плоский каламбур, рожденный растерянностью: в сущности, я не знаю, есть ли у Вас сущность. Быть может, я всего лишь бестактно навязываю ее Вам? С другой стороны, ведь и сами эти мои извинения обусловлены верой – пусть даже совершенно бездоказательной – в Ваше бытие. Если я заблуждаюсь, примите, М. Г., мои искренние и глубокие извинения.
Быть может, Вы возникли из недр моего собственного воображения? Но тогда неизбежен вопрос: как Вы в них очутились? Неужели (лестная надежда!) Вы соблаговолили проникнуть в них самочинно? Или же мои разрозненные впечатления сами по себе порой стягиваются в нечто, хоть отчасти на Вас указующее? Обозначают ли они, либо, напротив, искажают Вашу истинную природу, если только Вы изволите обладать ею? Помогите мне разобраться в этой мучительной загадке, умоляю Вас. Ведь Ваше присутствие носит до того мимолетный и почти эфемерный характер, что при всей частоте Ваших появлений я никак не могу связать их прочной нитью, и какую-то отраду нахожу разве что в шатких домыслах касательно их источника. Но я уже не могу обойтись без Вас.
Нет, не так. Я уже не могу без Вас жить.
Как видите, мое послание состоит из сплошных извинений. Прибавлю еще одно.
Дело в том, что в университете я изучаю физико-математические науки, а подобные занятия неизбежно настраивают мысли на строго логический порядок. Воображение мое, страстное от природы, пребывает с ним в противоестественном союзе, который я нахожу, однако, плодотворным для сообщения с Вами. К сожалению, научные навыки все же придают моему эпистолярному слогу неуместную сухость, к которой, как я надеюсь, Вы отнесетесь снисходительно.
Если Вы, М. Г., представляете собой лишь плод моей фантазии, то почему Вы так властно подчинили меня своей воле? Если же Вы предпочитаете существовать сами по себе, то откуда и зачем Вы ко мне явились? Знал ли я Вас до того? Иначе говоря, связывает ли нас пресловутое родство душ, их, так сказать, предустановленная гармония? Верите ли Вы в нее, сударыня, или же почитаете такую веру смешным предрассудком, доставшимся нам в наследство от старомодного романтизма? Изволите ли Вы вообще обладать душою или отвергаете ее как атавизм? Ах, я был бы счастлив узнать Ваше мнение. Все эти вопросы давно не дают мне покоя, а кроме Вас, разрешить их некому.
Впрочем, я ведь ничего не знаю о Вашем характере, как, собственно, и о том, располагаете ли Вы таковым. Ведь Вы все еще не оформились для меня в целостный образ – при том, что все его отсветы несут на себе печать некоего высшего единства. Я угадываю его всякий раз, хотя всякий раз Вы знаменуете свое присутствие по-иному, чем прежде.
Хорошо помню, что все началось с Вашего голоса – невнятного, но светлого голоса, который внезапно зазвучал в моей душе, заполнив давнишнюю пустоту. С тех пор я всегда узнаю его, хотя он тоже всегда звучит как-то иначе, – узнаю по какому-то чуть уловимому акустическому абрису (на более точное определение я неспособен, будучи профаном в музыке). Не пойму при этом, меняются ли сами слова, с которыми Вы ко мне обращаетесь, – я ведь так и не сумел их разобрать. Мне часто казалось, что Вы хотели окликнуть меня по имени – но не решились, считая, быть может, это неприличным для особы Вашего пола. Не исключено и другое: поскольку я Вам до сих пор не представлен, Вы просто не знаете, как меня зовут. А зовут меня Андреем Петровичем. Если же Вы предпочтете имя Андрей, я буду несказанно счастлив. Как мне снискать Вашу доверенность?
Иногда мне кажется, что Вы робки и застенчивы: так мгновенно Вы исчезаете из поля моего внутреннего зрения. Я успел, правда, заметить, что Вы несколько бледны (и меня встревожило состояние Вашего здоровья), – но однажды я разглядел румянец на Вашем лице. Впрочем, лицо я упомянул совершенно напрасно: самого лица-то я ни разу не видел, а уловил разве что его очерк и какое-то общее выражение, не поддающееся, увы, описанию, – по скудости и моего слога, и моей эмоциональной палитры. Больше всего меня поразили Ваши глаза, но ни цвета их, ни формы я тоже не смог бы описать. То же – и с Вашим одеянием. Мне кажется, Вы нередко наведываетесь ко мне в белом тончайшем платье, до того прозрачном, что оно как бы тает и рассеивается в собственном его свечении. Однако и нагота Ваша – простите мне эту рискованную жалобу – для взоров недоступна. Вместе с тем я убежден, сударыня, что Вы обладаете телесными формами, – в противном случае, на что бы Вы надевали свой наряд?
Ваш приход обычно предваряется легким дуновением – правда, Вы как-то навестили меня во время грозы и бури. Порою Ваше присутствие возвещает некий сладостный аромат – не то это ландыш, не то сирень, а возможно и роза: не берусь об этом судить, ибо, признаться, совсем слаб в ботанике. Не исключено, что это просто парфюм неизвестного смертным происхождения.
Быть может, сударыня, Вы суккуб? Или же Вы не разделяете веры в их существование? А если Вы все же из породы суккубов, то почему Ваши появления удручающе неосязаемы? Ах, если бы Вы согласились хоть раз воплотиться, чтобы развеять терзающие меня сомнения!
По чести говоря, сударыня, Вы удостаиваете меня своими визитами совершенно бессистемно, чем иногда ставите меня в затруднительное положение. Помните ли Вы, как однажды пожаловали ко мне во время экзамена? Я был тогда так ошеломлен, что чуть не провалился на испытании, – но потом Вы навеяли мне решение трудной задачи, и в итоге я сдал экзамен превосходно. Откуда, сударыня, так хорошо знаете Вы векторную алгебру и дифференциальное исчисление? Все ли вообще Вам известно? Если да, то, умоляю Вас, откройте мне, что будет далее с нами? Следует ли мне умереть, чтобы встретиться, наконец, с тою, которая безмерно дорога мне? Или это был бы опрометчивый шаг, могущий разлучить нас навеки?
Я люблю Вас, ах, я люблю Вас, кем или чем бы Вы ни были! Ваши приходы и исчезновения только разжигают мою страсть, не суля ей исхода. Вчера я вновь увидал Вас – в обрамлении зыбких ветвей, в проеме вечернего неба. Вы сливались с сумраком – нет, Вы и сами были этим сумраком; Вы были бледным дождем, пением иволги, кромкой над нежной бездной.
Заклинаю Вас, отзовитесь на мое письмо – любым из тех бесчисленных способов, которыми Вы владеете. Не зная ни здешнего, ни тамошнего Вашего адреса, я решил воспользоваться самым надежным. Завтра я брошу письмо в камин – его жертвенный дым дойдет до Вас, как фимиам доходил некогда до богов. Дождусь ли я ответа еще в здешнем мире? Или Вы ответите позже?
Ваш верныйАП.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.