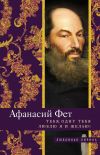Текст книги "Агония и возрождение романтизма"
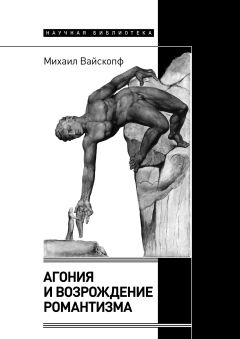
Автор книги: Михаил Вайскопф
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 33 страниц)
Венчающее «Приглашение на казнь» ликование личности в ином, истинном мире тоже связано скорее с Платоном («Федон»), чем с Упанишадами, – но встречается оно и в Веданте, когда субъективное начало отождествляется в ней с антропоморфным пурушей (что характерно для философии «санкхья»): Атман «поднимается из этого тела и, достигнув высшего света, принимает свой образ. Он – высший пуруша, он двигается там, смеясь, играя <…> не вспоминая об этом придатке – теле»[696]696
Упанишады. С. 371, 461; ср.: 580.
[Закрыть]. Однако в целом в индуистско-буддийской метафизике решительно преобладает, как известно, идеал безличного слияния с абсолютом – естественно, столь же чуждый онтологическому персонализму Набокова, как и шопенгауэровски-вагнеровски-фетовская мечта о блаженном ничто.
На фоне исчезающего псевдобытия финальное освобождение его героя (= «снятие засова» в ведийской терминологии) сперва означено тем же одиночеством, которое дано было в «Брихадараньяка упанишаде»: «Он оглянулся вокруг и не увидел никого, кроме себя». Но Цинциннат среди этой безлюдной пустоты направляется в царство свободных и счастливых, хотя пока еще невидимых ему душ – «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».
Солидарный читатель, вместе с ним покидающий книгу, смутно верит, что и сам он состоит в каком-то родстве с этими существами.
Приложение. Пропащая грамота
Галилея
Сюжет этого рассказа (его прежнее название – «Гостиница»), в отличие от последующих стилизаций и пародий, развертывается в Израиле, что требует хотя бы минимальных вступительных пояснений. Написан он был в 1981-м, а время его действия приурочено к осени 1974 года, когда после армейской службы я еще довольно долго разъезжал по Израилю в военной форме. К тогдашним реалиям относятся «старшина» (потом его вытеснит ивритский аналог слова «прапорщик») и генерал-кибуцник: социалистические поселяне пока еще составляли армейскую элиту. Свиную отбивную портье вполне мог есть на Фаворской горе, поскольку неподалеку оттуда расположен свиноводческий кибуц Мизра. С другой стороны, любой израильтянин без труда увидит мистификацию в «университете Афулы» – вообще-то это город вроде Кинешмы. А Кфар-Нахум – это евангельский Капернаум.
– Какую свиную отбивную ел я на Фаворской горе! – сказал портье. – Вспомнишь – плакать хочется. Слышь, солдат, в Иерусалиме нет, видать, таких ресторанов – у вас там сплошной кошер, никакой жизни, одни ортодоксы да чиновники. А здесь, в Галилее, народ добрый, приветливый. Ты вот на меня посмотри.
Он стоял в проеме, как веселая кариатида, подпирая косяк мохнатой рукой; подмышки благоухали деодорантом. Лицо его, оживленное мелкой асимметрией – намек на флюс, легкое косоглазие, – гармонировало с фасадом этой маленькой гостиницы, правое крыло которой сдвигалось в галилейскую полумглу, поросшую кустами. Запах цветов смешивался с его деодорантом. Сумерки настигли меня в пути, ближайший Солдатский дом находился в часе езды отсюда, в Тверии, а где тут поймаешь попутку! Номер стоил шестьдесят шекелей, но портье (отставной старшина, уважавший армию) взял с меня двадцать, пообещав уладить это дело с хозяйкой.
– У нас тут постояльцы не чета тебе – солидные люди, – похвастался он, когда мы поднимались по темной лестнице. – На днях гостил профессор, археолог из Университета Афулы, за обедом столько всего нам наплел! Сказал, совсем неподалеку, в Кфар-Нахуме, Иисус ходил пешком по воде и ловил рыбу руками. А может, гои и врут. Слышь, солдат, оказывается, кого только в нашей Галилее не было – и финикийцы, и греки, и римляне, и хрен знает кто. Это еще до арабов было. Такую погань тут расковыряли, не поверишь – каменные херы, размером с огнетушитель, только без яиц. Весь край в развалинах – красота! Хочешь – любуйся ихней Венерой или Богородицей, не хочешь, посети могилы праведников, благословенной памяти. Я тебе говорю, мы люди радушные, это тебе не ваш Иерусалим.
За что он так взъелся на мой город, я так и не понял. Наверху тоже было темно, сломался выключатель, а окно в конце коридора заслонял широкий стенной шкаф, стоявший спиной ко мне – прямо у двери в мой номер. Постель, покрытая свежим бельем, симулировала девственность. На стене светилась фотография начальника Генштаба (суровый берет, задумчивые глаза, усы военного цвета), а напротив рекламно синел Кинерет в фате утреннего тумана. Торшер произрастал между креслом и письменным столом, пригодным для аграрных мемуаров. На столе пузырилась зеленая пластмассовая ваза с разномастной флорой.
Снаружи к дому сползались холмы, усаженные серебряными валунами, над которыми тяжело кружилось рваное галилейское небо с подтеками заката. С приземистой оливы взлетали вороны, а поодаль, сквозь мглу, нежно розовело иудино дерево. Все это я уже видел, видел в одном из прежних странствий – и увижу еще не раз.
Приняв душ, я погасил свет и лег на кровать, до пружинных судорог заезженную туристскими парочками. Почти сразу меня обступили зыбкие, бессюжетные сны – в них, ликуя, журчала вода, светившаяся изнутри каким-то кобальтовым свечением, пахла травой и влажными камнями – вероятно, смешанный эффект душа и плаката с Галилейским морем. Кто-то бедный и безликий окликал меня – но не по имени, а как-то иначе. Зов был тихий, тревожный, ночная душа спряталась от него в явь – вскоре я проснулся.
Ветер, задрав занавеску, наотмашь бил по окну, в конусе абажура плясала лампочка, и ее тени с шуршанием носились по потолку, мешаясь с бликами истлевающей предрассветной луны. Простые киббуцные очи начальника штаба сверкали сухим пистолетным блеском, усы топорщились. По полу, разливая воду, катилась пластиковая ваза с припадочным громыханием.
А за стеной с озером сквозь шум струились странные и милые голоса. Казалось, переговаривались мать с дочерью, и дочь что-то торопливо и сбивчиво рассказывала, а мать перебивала ее восклицаниями, – веселое недоумение, не может быть, неужели, – и обе изнемогали от смеха. Потом я услышал, как вода лилась там в кувшин – с таким звуком, будто кувшин был каменный, и в этой воде снова плескался и расходился со стеклянным звоном летучий смех, и девушка все болтала и смеялась, и все это походило на быстрый лепет маленького римского фонтана, выбрасывающего тонкие струи в каменный бассейн с бронзовыми львятами. Я совсем не различал слов, порой они напоминали мне греческий, иногда испанский или ладино, чуть-чуть итальянский, но все это было не то, какой-то другой язык, который я, быть может, слышал в детстве – но в каком, в каком детстве мог я его слышать? Только одно слово уловил я, и это было мое собственное имя, но прозвучало оно иначе, другое, забытое мною имя, беглый контур души. Я не сразу его опознал и не успел отозваться, имя прошелестело уже так тихо и невесомо, словно его назвали напоследок, как пароль, уходя от меня в неведомый легкий путь. А потом все смолкло, и затих ветер.
В окне я увидел торопливую киноварь зари, мельхиоровые камни громоздились на холмах, как черепа неведомой и бессчетной родни, как светлые кости отринутых поколений, готовые пробудиться к текучей и беспечальной жизни. Под самым окном, на голос невидимой свирели, выступали гомеровские овцы, облезлые овцы цвета хаки. Комната уже успела восстановить свою безличную гармонию, вчерашняя ваза с цветами как ни в чем не бывало стояла на письменном столе. Генеральское лицо больше не отделялось от стены, и зазывно синел Кинерет.
Внизу в вестибюле завтракали портье и хозяйка, вялая женщина в потрепанной кофте со спелыми пуговицами. Они пили кофе, отставив мизинцы.
– Садись с нами, – сказал портье, подвигая ко мне баночку йогурта и тарелку с каким-то гербарием. Хозяйка налила кофе.
– Что это у вас там за постояльцы, какие-то женщины в последней комнате справа?
– Женщины? – портье озадаченно взглянул на хозяйку, которая слизывала простоквашу с указательного пальца. – Да нет там никого. И никого быть не может.
– Но ведь я слышал голоса…
– Господи, это ж надо, – вздохнула хозяйка, сдвинув слегка брови. – Не знаю, что ты там слышал, только там нет никакой комнаты. Твой номер крайний, угловой. Не пойму, как таких чудиков на службу берут.
– Погоди, ты где, собственно, служишь, парень? – привстал со стула портье. – Где твоя часть? В каких ты войсках?
Не ответив, я поднял рюкзак и вышел в галилейское небо, подбитое травой и камнями. Долгая, изнурительно долгая служба досталась мне, Бог весть, когда она кончится, но я не откажусь от нее, потому что не знаю большего счастья, чем с рюкзаком за плечами и в солдатских ботинках идти по Галилее.
1981
Ферапонт Промокашин
Капля меда[697]697
Найдено в архиве газеты «Северная пчела». (Примеч. сост.)
[Закрыть]
Гг. редакторам «Северной Пчелы»
Милостивые Государи мои!
Не могу совладать с пламенным желанием рассказать вам об изумительном происшествии, случившемся со мною по вине вашей газеты. Прочитав нумер от 13 января сего 1834 года с отчетом о балаганах и пленившись оными сообщениями, живописующими непостижимую ловкость рук и тела, вознамерился я посетить сие позорище. Одна из причин, побудивших меня к тому, была скорбь – не удивляйтесь! да, да, именно скорбь – которую испытал я после кончины любимого дяди моего Евстахия Скоропацкого. Сей дядя мой за три недели пред сим, в самый Сочельник, скоропостижно скончался от горячки вследствие неумеренного мытья в бане с присовокуплением горячительных напитков. Ибо дядя мой, суворовский инвалид, допекаемый геморроидальной болезнью, намеревался избавиться от оной, пользуясь для того самыми решительными средствами.
Чувствительная скорбь, которую ощутил я по кончине достолюбезного дядюшки, отчасти заменявшего мне отца, побуждала меня искать рассеяния в безобидных утехах. Поэтому сами можете судить, м. гг., с каким удовольствием и интересом прочел я в отделе «Смесь» достопочтенной газеты Вашей любопытнейший отчет о балагане г. Лемана. Вы, несомненно, помните его:
Первое место принадлежит Леману. Мы были бы слишком несправедливы, если б не признали, что Леман имеет чудесный дар предупреждать наших драматургов. Все, что теперь влечет нас в Театр, все это мы давно уже видели у Лемана в балагане. Вам нравится извержение Везувия – Леман показывал его за два года прежде; вас ужасает скелет – Леман выставлял его в 1830 году; вы восхищаетесь красным огнем в «Волшебном стрелке», – но это изобретение Лемана; это его секрет: вот уже пять лет, как Леман освещает красным огнем свои храмы, своих богинь, амуров, волшебниц… Леман добр по природе, и потому, если убьет кого-нибудь, то через минуту опять воскресит; если оторвет у Пьерро голову, то, из жалости, опять возвратит ее туловищу; если разорвет Арлекина на части, то немедленно склеит их; если черти посадят Панталона в клетку, то Леман, по добродушию, отопрет ее. Из всех его убийств ни одно не огорчает, а все заставляют смеяться…
Не скрою от Вас, что более всего вдохновило меня не столько восхитительные зрелища и не чудеса ловкости и силы, явленные на представлении, сколько те таинства и превращения, коими столь одолжил публику г. Леман. Привлеченный Вашими живописными излияниями, отправился я на горы, где происходило гуляние, в надежде обрести некоторое забвение от вышеупомянутой горести. Натурально, многое развеяло меня, особенно ловкость рук и других членов, которую показала нам несравненная m-lle Фергюсон, а также итальянские мимы из самого Неаполя. Плясание г-жи Ла Манш на канате превосходит всякое воображение человеческое. Но изумление мое возросло до поистине неимоверной величины, когда увидал я итальянских чародеев.
М. гг.! все, что писали вы в своей газете, истинная правда, но и она бледнеет пред виденным мною. На глазах моих г. Чумарозо вынимал из правого уха мраморный шарик, вложенный им до того в левое ухо; а потом тот же самый шарик доставал, ко всеобщему восторгу, из самой пасти пуделя. Другой же артист и коллега его по ремеслу, г. Карамаджо, с величайшей непринужденностию выпускал из пройм жилета своего белоснежных голубей, а из панталон извлекал кролика, который чудесным образом оказывался потом в лифе m-lle Фергюсон, где производил шумное шевеление. Зрители много рукоплескали этим чародействам.
Но все чудеса померкли перед воистину ошеломительным зрелищем, оценить которое из смертных возмог только я один. Не скрою от вас, м. гг., что порою меня обуревали весьма противуречивые чувствования, ибо некоторые из лицедейств этих пребывали на самой грани допустимого в христианском общежитии. Судите сами: г. Леман представил нам воскрешение мертвых. Поначалу он умертвил своего пуделя стрельбой из пистолета, так что в собаке этой, по прозвищу Артемон, неприметно было никакого движения, а желающие прощупать пульс его с легкостью убеждались, что оный и вовсе не дает себя знать. К пасти пса подносили зеркало, на коем не обозначалось никакого дыхания. А после всего этого г. Леман стрелял в воздух из того же пистолета и восклицал «Wienerschnitzel!» – и пес немедленно вскакивал на все четыре лапы и заливался радостным лаем.
Захваченный этими кунштюками, я потерял всякий счет времени и пребывал в забвении. Как вдруг на глазах моих Артемон в глубине балагана начал ластиться к одному из услужающих, который трепал его с заметным добродушием. Каково же было изумление мое, м. гг., когда в оном служителе, треплющем Артемона, я признал дядю моего Евстахия Филипповича Скоропацкого, скоропостижно скончавшегося три недели тому! Свет перевернулся в глазах моих. Никакой ошибки быть не могло. Я узнал его клочковатую голову и незабвенный нос крылечком, и перламутровый шарф покойного, который связала ему любезнейшая покойница Прасковья Осиповна! Я перекрестил видение, но оно не исчезло. «Дядюшка!» – вскричал я отчаянно. На вопль мой многие обернулись, кое-кто с негодованием, а г. Леман распорядился послать за будочником. Дядя же, насколько я мог примечать, поворотил ко мне голову из глубины помещения, но вместо того, чтобы кинуться в объятия к племяннику, попятился в тень и совершенно исчез из виду. «Куда девали вы дядю моего Евстахия Филипповича?» – грозно возопил я, подступая к Леману. Но коварный чародей не смутился. Окинув меня высокомерным взглядом, он отвечал мне на крайне дурном русском языке: «Вы ищете ваш дядя? Дядя ваш Herr Скрапапоцкий у меня в шляпе!» С этими словами он приподнял свой цилиндр, и оттуда проворно выскочил родной дядя мой, Евстахий Филиппович, уменьшенный до размеров кролика, ранее там скрывавшегося. Приплясывая на припомаженной голове г. Лемана, дядя мой начал предерзко раскланиваться с публикой. Тщетно простирал я к нему родственные объятья… «Злодей! – закричал я Леману. – Зачем ты заколдовал его? Неужто не страшишься ты, чужеземец, гнева Божия и самих законов нашей империи?» А между тем дядя мой, будто не слыша слов этих, продолжал отплясывать трепака с тою же злоехидною миною. Злодей же, взмахнув красным носовым платком своим, возгласил заклинание: «Ein, zwei, drei! Ding an sich!» – и тогда весь свет предо мною заволокло туманом…
Я очнулся на постеле в обширном помещении, где вокруг меня сновали люди странного вида, одетые в неопрятные халаты. Одни скакали, другие смотрели куда-то в одну точку, иные вышивали. Почтенный чиновник с бакенбардами лез на стену с криком: «Господа, спасите луну!»
С ужасом догадался я, что нахожусь в доме умалишенных. Кто-то из них участливо осведомился: «Сударь, осмелюсь спросить: что делали вы сегодня ночью в императорской кунсткамере? Ведь вас нашли при утреннем обходе близ чучела – у ног достославной кобылы Лизетты, на которой езживал некогда сам государь Петр Великий. Служитель известил нас, что вы забрались на Лизетту и, видимо, пытались на ней ускакать куда-то, но упали и сильно расшиблись».
Я никак не мог удовлетворить любопытство сего мнимого безумца, оказавшегося доктором, ибо все подробности ночного путешествия непостижимым образом изгладились из моей памяти.
«Доктор! – жалобно возопил я. – Умоляю вас, не будем терять времени. Едемте немедля в балаган Лемана, который, уверяю вас, вовсе не лицедей, а сущий демон во плоти, ужасный некромант, похищающий мертвецов и возвращающий их к жизни себе на потеху!»
Но лекарь скептически покачал головою, пощупал мой пульс и сказал чрезвычайно уветливо, ни громко, ни тихо, а голосом истинно магнетическим: «Любезный друг мой! В нынешнем состоянии вашем, поверьте, только покой принесет вам исцеление, покой и холодные ванны!» Напрасно втолковывал я сему Эскулапу, что я не безумец, а жертва злого чародейства. В Больнице Всех Скорбящих продержали меня три месяца, а потом сдали на поруки директору моего департамента, человеку доброму и сострадательному.
Вышед на свободу из стен желтого дома, спешно кинулся я к балагану г. Лемана, но оного, как и растаявших гор, уже и след простыл – сказывают, что он отбыл со своею труппою на гастроли в Трансильванию.
И теперь, м. гг., прибегаю к покровительству вашему, ибо впервые узнал я о г. Лемане именно из «Северной пчелы», где вы живописали его как добродушного Филантропа! Подумать только, филантропия г. Лемана! Увы, я не обнаружил ее ни пяди.
Умоляю вас, помогите же мне сыскать пропавшего посмертно дядю моего и наказать вышеозначенного некроманта Лемана, буде тот дерзнет вновь, как и в прежние годы, объявиться в Северной столице отечества нашего.
Присовокупляю к сему еще одну покорнейшую просьбу: растолкуйте доктору Егору Антоновичу Пробиркину, что я нахожусь в здравом уме и твердой памяти, порукой чему то обстоятельство, что я уже много лет являюсь усердным читателем Вашей превосходной газеты.
Прошу напечатать письмо мое, яко и мою лепту меда, принесенную в улей «Северной пчелы».
Титулярный советник Ферапонт Промокашин
Иван Кологривов
Лунная грязь
Публикуемый текст я обнаружил в одной из лавочек на Блошином рынке в Яффо. Рукопись, вместе с двумя женскими письмами весьма интимного содержания, хранились в ларце из какого-то простого дерева – кажется, кипариса.
Автор, Иван Кологривов, мне не известен, но, судя по всему, рассказ был написан им где-то к концу девятнадцатого века; письма же его датируются январем и мартом 1919-го. Возможно, ларец попал в Яффо вместе с каким-то пассажиром парохода «Руслан», прибывшего из Одессы летом того же года.
Неотложные дела вынудили меня выехать в город Калинов, что в Н-ской губернии. День занимался неохотно, понурый и промозглый. По вокзалу слонялись одутловатые люди, еще не воскресшие ото сна, и рельсы тупо поблескивали под уже ненужными утренними фонарями, наводя на мысль об Анне Карениной (помнится, я только что перечитал тогда этот chef d’ oeuvre нашего знаменитого соотечественника).
В купе второго класса со мною разместились двое. Один – статный и смугловатый артиллерийский капитан со строгим, точеным лицом и узковатыми, летящими как бы вразлет глазами. Вторым был говорливый пожилой купец в тройке и хромовых сапогах. Звали его Болдырев; офицера же, как я вскоре узнал за чаем, – Валериан Николаевич Криницын. Купец долго возился с уютным кожаным саквояжем, охаживая его, как коня на водопое, и клацал замками. Обменявшись приветствиями, мы с Криницыным молча смотрели в окно, на согбенные ландшафты, отцензурованные осенним туманом. По оврагам расползались бледные деревни, будто охвостья облаков, приникающих к земле. Стекали куда-то бревенчатые избы, заборы, дровяные склады и кладбищенские кресты. Все это было тоскливо, как некрасовские покойнички, расставленные вдоль полотна. Предстал на миг и сиротский полустанок с палисадником, тучным жандармом и девушкой – кажется, даже хорошенькой – в наивном синем ватерпруфе и шляпке с бумажными цветами. С косогора вдогонку послала свой запоздалый зов сельская колокольня – и призрак ее благовеста долго дрожал в купе, смешиваясь с дребезжанием ложечки в пустом стакане.
– А не угодно ли, господа, для одоления дурной природы?.. – воззвал к нам купец, доставая коньяк из саквояжа.
– Благодарствуйте, Еремей Пахомыч, – отозвался мой сосед. Оказалось, были они давнишними знакомыми и земляками – оба из Калинова. Купец там и посейчас живет, держит магазин фотографических принадлежностей. Теперь он возвращался домой со свадьбы племянника.
– И хорошая, знаете, партия, – гундосил он, приглашая меня разделить свадебное ликование. – Солидная такая барышня, степенная, даром что дочка аптекаря, Карлы Ивановича Шустерлинга. Оно хоть и немка, да дом у них православный, все по-русски, по-нашему, только порядок, извините, ихний: всюду цирлих-манирлих, чистота и строгая экономия. А обсчитать кого – ни-ни! Ну нет, конечно, этой нашей славянской широты – русского, знаете, душевного размаха – да и то сказать, на кой ляд этот самый размах в аптекарском деле?
– А вы, Валериан Николаевич, – полюбопытствовал я, – вероятно, тоже к родным решили наведаться?
При этих моих словах Болдырев почему-то заерзал и снова завозился со своим саквояжем.
– Вроде того, – усмехнулся Криницын. – Впрочем, я все же по другой оказии, – прибавил он глухим голосом. – Давеча известили меня телеграммою о кончине батюшки.
– О, простите великодушно! Примите, господин капитан, глубочайшие мои соболезнования. Мне, право, совестно, что я так неловко затронул ваше…
– Полноте, – оборвал он меня довольно бесцеремонно. – Все в порядке. Я, признаться, давно, давно уже свыкся с этой мыслью.
Темный смысл его фразы смутил меня. Но тут Болдырев лихо разлил коньяк по чайным стаканам. Я предложил было помянуть покойника, однако Еремей Пахомыч возразил, что до похорон это не принято. Выпили вместо того за здоровье молодоженов. Потом захмелевший купец, разувшись, задремал в углу, а Криницын достал французский роман. Читая, он недоверчиво хмурился либо, наоборот, приподнимал брови, вглядываясь в книгу, словно в чье-то знакомое, но позабытое лицо. Какая-то мысль, видимо, отвлекала его: он все чаще откладывал книгу и переводил взор на тусклое окно, подпирая пальцем чуть подрумяненную коньяком щеку и морща бледный лоб, перечеркнутый черной прядью. За стеклом все набухала предсмертная стынь, слезившаяся гнилыми дождями; под низкими тучами тяжело кружились вороны, как виньетка над чьей-то прожитой жизнью, и паровоз, казалось мне, силился уйти навсегда от этой склизкой, осязаемой мги, от липкого, назойливого тумана – и оттого кричал почти человечьим голосом, будто хотел докричаться до кого-то одушевленного, настоящего в этом бесчувственном мороке, где нельзя было никого опознать.
– Позвольте спросить вас, сударь, – вдруг резко обратился ко мне Криницын. – А приходилось ли вам выказывать, так сказать, особый решпект лицу, заведомо вам неприятному? Более того, лицу ненавистному?
– Нет, Валериан Николаевич, как-то не припомню. Хотя, каюсь, случалось иногда подличать малость по службе – выхода не было. А и доселе вспоминать тошно…
– Да я ведь не о том. Кто Богу не грешен, царю не виноват…
Он замолчал, рассеянно теребя ус, в котором уже серебрилась легкая проседь. Лязгая дверью, вторгся однорукий кондуктор с разбитым и наполовину притушенным фонарем.
– Подъезжаем к Уклееву, господа, – сказал он. – Душевно рекомендую здешний буфет. Семга, ваше благородие, – отнесся он к Криницыну, – у них отменная, икорка всегда свежая, грибочки – волшебная игра природы, нега и утешение… Стоим долго – двадцать минут.
Болдырев, внезапно очнувшись, нацелился ногами в свои сапоги, стоявшие у входа.
– Я мигом, – просипел он. – Одна нога здесь…
– Я, собственно, вот о чем, – снова и так же резко заговорил тогда Криницын. – Не приходилось ли вам, милостивый государь, ненавидеть родного отца?
– То есть как это? Виноват, о чем вы изволите толковать, я вас не совсем понимаю…
– Да я все о себе, – продолжал он зло и отрывисто. – Дело в том, что я, говоря по совести, отца своего ненавижу. И всегда, всю жизнь, ненавидел. Заметьте притом – человек я верующий, знаю, что великий грех, и по Писанию, и по законам человеческим. Да что поделаешь! Сегодня вот, как видите, собрался с ним попрощаться, – сказал он с кривой улыбкой. – Поклониться, так сказать, драгоценному праху, отдать последний долг… Как это там еще у вас называется… Не лицезрел его лет уж этак пятнадцать и не тосковал ничуть. Теперь, выходит, свидимся…
– Позвольте осведомиться: он что же, вас сильно тиранил в детстве, притеснял нестерпимо?
– Ничуть. Холодность, правда, была с его стороны, холодность ледяная, мертвая, того я не отрицаю. Но бить – боже упаси, не бивал никогда! Дома у нас и розог-то не водилось. Не припомню и никаких таких грубостей, брани. А я все равно его ненавидел, всею душою своею, до самой смерти… Сколько сам из-за того настрадался, вспомнить страшно! Теперь мне вроде и каяться впору – а раскаяния у меня вовсе нету, то есть ни малейшего! Вот ведь что огорчительно.
Я не успел ответить: громыхая сапогами, воротился Болдырев, обремененный чайником и кульками.
– Семгу-то еще с утра истребили, – доложил он, встряхиваясь, как пудель после купания. – И икру слопали, черти драные. Спасибо, хоть водочка осталась… А еще персидская халва у них сказочная – прям-таки царица небесная Савская, прости господи. Нет лучше, как буфет Пантелеева! Я у них и хорошую газетку прихватил – «Новое время». Люблю, грешный, воспарить, так сказать, мыслию по дереву, понаблюдать оттуда за прогрессом цивилизации… Ведь чего турки эти вытворяют, читали? Просто справедливый ужас и негодование! Приобык я, знаете, к газетам еще сызмальства. Я ведь, господа, мальчонкою еще в скобяной торговле начинал, у Бурундукова, купца второй гильдии. Фирма, кажись, солидная, а на деле…
Коньяк и станционная водка повергли его в умиление. Старик расстроился, вспоминая об отроческих мытарствах.
– Ох, родненькие, и натерпелся же я там мучений всяческих! Врагу лютому не пожелаю! Ежели б за каждый подзатыльник или затрещину мне приказчики по гривеннику платили, я бы уж через год мог ссудную кассу или лонбард открыть. Умываюсь, бывалыча, слезою чистою, яко агнец в пещи огненной или ослица вавилонская, влекомая на заклание. Спасибо, нашелся в этом содоме гоморрском благодетель, вечная ему память, господин Фогель – столп и утверждение истины. Был он мне заместо отца родного, на ум меня, младого юноша, наставил и обучил фотографическому искусству.
Криницын, которому болдыревское житие было досконально известно, снова воззрился в книгу, откинувшись на красный валик дивана. А Болдырев, прослезившись, все предавался воспоминаниям:
– Вразумил меня Господь, наставил. Прикопил я деньжат – и фотографию свою открыл. А дело-то новое, а город-то у нас уездный, благочестивый весьма, даже сверх меры. Фотографии моей сперва сильно пужались, от магазина шарахались. Верите ли, красного петуха чуть не пустили! Дьякон Гермоген, дружок мой, задражнил – как выпьем, он меня все Лукою нерукотворною кличет: ты, говорит, тоже лики без касания кисти творишь! Господи, твоя воля! Я, признаться, спервоначалу жителям даже бесплатные делал портреты, чтобы их к тому приучить – так сказать, за ради боготворительности. И все равно боялись в силу невежества. Но тут, благодаря Создателю, началась война за освобождение Шипки от Магомета. Господа офицеры ко мне и зачастили – образ свой сберечь, а за ними и барышни и прочие партикулярные лица – кто на свадьбу, кто на крестины… Я много тогдашних портретиков себе на память оставил. У меня-то они все будто живые…
Болдырев долго еще урчал, пока я не задремал. Проснулся я уже в самом Калинове. Время было к полуночи. На станции Криницына поджидала пролетка. Он молча махнул рукою, прощаясь, а мы с купцом сели на извозчика и двинулись по ночной жиже туда, где светились редкие огни.
– Странный какой-то человек этот ваш, Валерьян Николаевич, – сказал я Болдыреву, когда мы наконец въехали на мостовую, не чиненную со времен Александра Благословенного.
– Это вы в рассуждении того, что он родителя покойного не почитал? Да о том весь город знает, будьте благонадежны, всегда о том судачили.
– Да за что же он, смею спросить?
– Как вам сказать… Это вообще-то долгая история. Истинно сказано: шаршеляфам. Матушка ихняя, Татьяна Евгеньевна, извольте видеть, еще в девицах влюбившись была без памяти в одного местного юноша, Валерьяна Юрьича Ольховского. Он тут преподавал математику в реальном училище. То есть ни кола ни двора, без царя в голове, и человек к тому же безнравственный, девиц с толку сбивал – уж больно пригожий был, статный… Ну а он в нее обратно влюбившись – со своей то есть стороны. Дело уже шло к обручению, ну да только ейные родители порешили иначе – выдать ее за покойника, значит, за Николая Константиныча: помещик, генеральский сын, жених солидный, с капиталом и уже на архитектора обучен. А она, то есть, до того влюблена была в Ольховского, что чуть руки на себя не наложила. Надо вам сказать, девица она была бледная, чувствительная и подвержена была мерехлюндии. Тогда еще в моду вошел этот, как его – спиритизм этот самый. И она им тоже прельстилась: видения ей бывали, голоса… То есть не подумайте худого: в рот она ни капли – только блюдца вертела… Я ведь все знаю от ихней горничной Марфы-с: у меня с этой Марфой нежные чувства происходили – да спасибо, уберег Господь от венчания… Ну вот, а матушка ихняя, Татьянина значит, помирала от черной жабы – и на смертном одре кончины взяла с дочери слово при образах: замуж только за господина Криницына! Однако Ольховский, хоть и шантрапа, а человек был с амбицией: вызвал даже Криницына на дуэлю, да дело как-то замяли. А тут бац – свобождение Шипки от Магомета. Он и ушедши на войну добровольцем – от разочарования, значит, и патриотизма. Ко мне в ателье заходил запечатлеться на память. А Татьяну-то Евгеньевну выдали замуж, согласно собственноручной воле покойницы. И вот, сказывала мне горничная ихняя, ночью пронзительный крик по всему дому – это молодая жена со сна голосит: убили его, мол, убили! Образ евонный ей во сне явился, в сиянии, погонах и мученическом венце. И вскорости по телеграфу – подтверждение: действительно, такого-то числа в ночном сражении геройски погиб на театре военных действий, защищая свою батарею. Возложил, словом, живот свой на алтарь воинской славы…
Болдырев вдруг как-то засопел и хмуро прибавил:
– Но главное, говорят, в том, что к этому самому алтарю живот-то его приладил Николай Константиныч. Приладил через отца своего, генерала: на самое погибельное место его и определили. Я, правда, слыхал разное. Иные болтают, что убили его на реквизиции фуража у болгарских мужиков… Дело темное, да и не в том соль. А только с той поры она будто обмерла: с мужем законным – как лед, а все свои чувства вскорости устремила на невинного младенца. И даже имя ему дала – Валериан, в память убиенного. Вот отец-то, Николай Константиныч, к мальчонке, видать, и возревновал смертельно. Татьяна Евгеньевна через три годика сама скончалась от мерехлюндии, а он с сиротою – совсем, знаете, как с чужим… И так на всю жизнь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.