Текст книги "Синухе-египтянин"
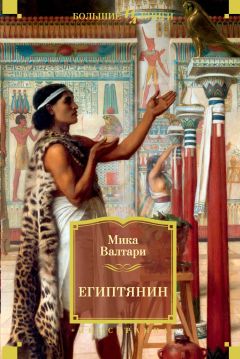
Автор книги: Мика Валтари
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 49 (всего у книги 61 страниц)
Эйе потер рукой рот и погрузился в размышления. Размышлял он долго, но постепенно на лице его начало проступать все большее довольство: он нашел способ держать Хоремхеба в своих руках. А я все сидел на полу, слушал их разговоры и дивился человеческим сердцам – эти двое бойко пристраивали венцы, в то время как фараон Эхнатон жил и здравствовал в соседних покоях. Наконец Эйе сказал:
– Ты ждал царевну долго, скрепись и подожди еще некоторое время. Тебе еще предстоит тяжелая война, а в военную пору не до свадебных приготовлений. Да и благосклонности царевны вдруг не добьешься, она ведь смотрит на тебя с великим презрением, как на всякого рожденного на навозе. Но у меня – заметь, именно у меня! – есть средство, чтобы склонить ее к согласию, и я клянусь тебе именами всех египетских богов, что в тот день, когда я возложу на свою голову красный и белый венцы, я своими руками разобью между вами горшок и ты, Хоремхеб, получишь царевну. Больших уступок ты от меня ждать не можешь, потому что я и так окажусь у тебя в руках.
Но Хоремхеб устал от торга. Он сказал:
– Пусть будет так. Теперь остается довести это вонючее дело до конца. Надеюсь, что ты не станешь без толку строить козни: ты ведь всерьез жаждешь венцов, этих детских побрякушек!
В своем возбуждении он совсем забыл обо мне, но вдруг, оглянувшись, заметил меня и ошеломленно воскликнул:
– Синухе, ты что, все время был тут? Тебе не повезло, ты слышал вещи, которые не предназначались для твоих ушей. Боюсь, мне придется убить тебя, хоть мне это будет очень неприятно – ведь ты мой друг!
Его слова показались мне забавными; они тем более были смешны, потому что два этих недостойных человека, Эйе и Хоремхеб, занимались дележом царства в моем присутствии, – перед ними на полу сидел, быть может, единственно достойный и законный наследник по мужской линии великого фараона, в чьих жилах текла священная кровь. Я не мог сдержаться и стал хихикать, прикрывая рукою рот, – как старая баба. Смех мой глубоко возмутил Эйе, который сказал:
– Не годится тебе смеяться, Синухе! Речь идет о серьезных вещах, да и вообще смех сейчас не в пору. Мы тебя, конечно, убивать не станем, хоть ты этого и заслужил, но, пожалуй, даже хорошо, что ты все слышал и можешь быть свидетелем в нашем деле. Говорить о том, что ты слышал, ты никому не будешь, ибо ты нам нужен, и мы тебя привяжем к себе, привяжем прочнее, чем любой клятвой. Надеюсь, ты понимаешь, что фараону Эхнатону самое время принять смерть. Так что тебе, как его врачу, надо будет сегодня же вскрыть его череп и постараться, чтобы твой нож проник достаточно глубоко и он смог умереть в соответствии с добрым обычаем.
Хоремхеб сказал:
– Я в это дело ввязываться не стану, я и так замарал свои руки в дерьме, общаясь с Эйе. Но он прав. Фараону Эхнатону придется умереть, иначе Египет не спасти. Другого пути нет.
А я все хихикал, прикрывая рукою рот, и не мог остановиться. Наконец я успокоился и сказал:
– Как врач, я не могу вскрывать его череп, ибо для этого нет достаточных причин и законы моего ремесла не позволяют мне этого. Но можете не волноваться: я по дружбе составлю ему доброе снадобье. Когда он выпьет его, то заснет, а заснув, больше не проснется, вот так я привяжу себя к вам и вам не придется опасаться, что я стану говорить про вас что-нибудь дурное.
С этими словами я достал горшочек из цветного стекла, данный мне когда-то Херихором, и в золотом кубке смешал свое снадобье с вином; в запахе напитка не было ничего неприятного. Я взял кубок в руки, и мы все трое отправились в покой фараона Эхнатона, где он лежал на постели с серым лицом и воспаленными глазами, сняв со своей головы венцы и положив их рядом с жезлом и бичом. Эйе подошел поближе, с любопытством дотронулся до венцов, взвесил на руке золотой бич и сказал:
– Фараон Эхнатон, твой друг Синухе смешал тебе доброе снадобье. Выпей его, тебе станет лучше, а завтра мы спокойно обсудим все неприятные дела.
Фараон сел на постели и взял из моей руки кубок. Оглядев нас по очереди, он остановил свой усталый взор на мне. Его глаза пронизали меня насквозь, так что по спине у меня пробежала дрожь. Он спросил:
– Больному зверю оказывают милость палицей. Ты хочешь смилостивиться надо мной, Синухе? Если так, благодарю тебя, ибо вкус разочарования горше смерти для меня, а смерть кажется мне ныне сладостней мирры.
И я сказал ему:
– Пей, фараон Эхнатон, пей ради своего Атона.
И Хоремхеб сказал:
– Выпей, Эхнатон, выпей, мой друг. Выпей, чтобы спасти Египет. Я укрою твою слабость своим платьем, как когда-то в пустыне близ фиванских стен.
И фараон Эхнатон поднес кубок к губам. Но рука его задрожала, и часть напитка выплеснулась ему на подбородок. Тогда он обхватил кубок обеими руками и осушил его до дна, а потом вытянулся на постели, опустив голову на деревянный подголовник. Мы смотрели на него, все трое, но он ничего не говорил нам, глядя прямо перед собой, в свои видения, затуманенными, воспаленными глазами. Спустя какое-то время его тело начало содрогаться, словно от озноба, и Хоремхеб снял со своих плеч одежду и укрыл его. А Эйе взял венцы и водрузил их двумя руками на голову, примеряя.
Так умер фараон Эхнатон. Я напоил его смертью, и он выпил ее из моих рук. Но почему я сделал это, не ведаю, ибо не дано человеку знать свое сердце. Думаю все же, что я поступил так не из одной только заботы о Египте, но из-за Мерит и Тота, который был моим сыном. И не столько из любви к фараону, сколько из горечи и ненависти ко всему злу, принесенному им с собой. Но прежде и вернее всего я сделал это потому, что так было предначертано звездами, – чтобы положенная мне мера стала полной. И, глядя на его смерть, я думал, что эта мера полна, но не дано человеку знать свое сердце, сердце его ненасытимо, ненасытнее крокодила в потоке вод.
И вот, убедившись воочию в смерти фараона, мы покинули Золотой дворец, запретив слугам беспокоить царя, который спал. Только на следующее утро они нашли его тело и подняли великий вой. Вой и плач заполнили Золотой дворец, хоть многие, я думаю, испытали большое облегчение, узнав о его смерти. Одна царица Нефертити стояла у ложа фараона без слез, и по ее лицу нельзя было понять, что она чувствует. Прекрасными руками она дотрагивалась до тонких пальцев Эхнатона и гладила его щеки – так было, когда я явился, чтобы, в соответствии со своей должностью, препроводить тело царя в Дом Смерти. Золотой дворец и Дом Смерти были в Ахетатоне единственными обитаемыми домами. Я выполнил эту свою обязанность и в Доме Смерти препоручил тело обмывщикам и бальзамировщикам, чтобы они приготовили его для вечной жизни.
А затем, в соответствии с законом и обычаем, фараоном должен был стать юный Сакара. Однако разум его от горя совсем помутился, он смотрел вокруг себя бессмысленным взором и не мог выговорить ни единого слова, привыкнув слушать и произносить лишь слова фараона Эхнатона. Эйе и Хоремхеб говорили с ним и пытались втолковать ему, что должны поспешить в Фивы, чтобы принести жертву Амону, если он хочет сохранить трон за собой. Но он не верил им, ибо был еще ребячлив и грезил наяву. Вот почему он сказал:
– Я сделаю так, что все народы узнают свет Атона; я построю храм своему отцу Эхнатону и буду служить ему как богу в его храме, ибо он был велик и не было среди людей, ему равных!
О ребячливости Сакары рассказывали еще такое: когда отряд стражников в боевом порядке покидал пределы проклятого города, Сакара побежал следом за ними, со слезами умоляя их вернуться ради фараона, говоря: «Вы же не можете вот так покинуть ваши дома и ваших жен с детьми!» На что сарданы и сирийцы ответили громким хохотом и насмешками; а один из младших военачальников обнажил свое детородное оружие и показал его Сакаре со словами: «Где он, там и дом, и жена с детьми!»
Вот так в своей ребячливости Сакара наносил урон царскому достоинству, клянча и умоляя наемников вернуться.
Что касается Эйе и Хоремхеба, то они, поняв его неразумие, оставили его. А на следующий день случилось так, что Сакара отправился с копьем на рыбную охоту, на воде его тростниковая лодка перевернулась, и он угодил в пасть крокодилам, которые его съели. Так говорили. Как было на самом деле, я не знаю. Но я не верю, что его убил Хоремхеб. Скорее, это было делом рук Эйе, которому не терпелось вернуться в Фивы, куда его манила власть.
После этого происшествия Эйе и Хоремхеб направили стопы к юному Туту, который, по своему обыкновению, играл, сидя на полу, в куклы, изображая похоронную церемонию, и его супруга Анхесенатон играла вместе с ним. Хоремхеб сказал:
– Эй, Тут, давай подымайся со своего пола, ты теперь фараон.
Тут послушно поднялся и, усевшись на золотом троне, сказал:
– Я фараон? Это меня не удивляет. Я всегда знал, что я лучше других людей, и это правильно, что я стал фараоном. Моим бичом я буду наказывать всех, кто поступает плохо, а моим жезлом я буду пасти послушных и хороших.
Эйе сказал:
– Не болтай ерунды, Тут! Ты будешь делать все, что я тебе скажу, и без всяких разговоров. Во-первых, мы поедем в Фивы для праздничной церемонии, и там ты поклонишься Амону в большом храме и принесешь ему жертву, жрецы помажут тебя священным маслом и возложат тебе на голову красный и белый венцы. Ты все понял?
Тут задумался на мгновение и спросил:
– Если я поеду в Фивы, мне построят такую же прекрасную гробницу, как всем великим фараонам? И жрецы положат туда игрушки, золотые кресла и прекрасные ложа? А то могилы в Ахетатоне слишком тесные и некрасивые, и мне не нравится, что там только рисунки на стенах, я хочу, чтоб у меня были настоящие игрушки и еще мой чудесный синенький ножик, который мне подарили хетты, – пусть его тоже положат со мной!
– Конечно, жрецы построят тебе прекрасную гробницу, – заверил Эйе. – Ты умный мальчик, Тут, раз первым делом заботишься о своей гробнице, став фараоном. Умнее, чем даже сам думаешь. Но прежде всего тебе надо сменить имя. Жрецам Амона имя Тутанхатон будет неприятно. Отныне пусть твое имя будет Тутанхамон.
Тут не возражал против нового имени, только хотел сразу научиться его писать – он не знал знаков, которыми изображается имя Амона. И так впервые в Ахетатоне было начертано это имя. Однако Нефертити, услышав, что фараоном стал Тутанхамон, а про нее словно забыли, облачилась в прекрасные одежды, умастила волосы благовонным маслом, а тело – душистыми притираниями, презрев, таким образом, свое вдовство, и отправилась на корабль к Хоремхебу, которому сказала:
– Смеху подобно, что несмышленого ребенка делают фараоном! Этот негодяй, мой отец Эйе, вырывает его из моих рук и собирается править Египтом от его имени, но ведь есть я – Божественная супруга и мать! Мужчины смотрят на меня с вожделением и называют прекрасной, самой прекрасной в Египте, но это, конечно, преувеличение. Взгляни на меня, Хоремхеб, хоть печаль и затуманила мои глаза и согнула мои плечи. Взгляни, ибо время дорого! У тебя есть копья, ты и я, мы вместе сумеем все устроить к вящей славе Египта. Говорю с тобой так прямо, ибо пекусь лишь о благе Египта, а мой отец, этот негодяй, этот алчный глупец, несет один только вред и разрушение стране!
Хоремхеб внимательно смотрел на нее, и Нефертити распахнула свои одежды, жалуясь на жару, и употребляла всевозможные приемы, чтобы соблазнить его. Откуда ей было знать о тайном сговоре Хоремхеба с Эйе! И даже если она, как женщина, догадывалась о вожделении Хоремхеба к Бакетамон, она полагала, что своею красотой легко добьется победы и вытеснит царственную недотрогу и гордячку из его мыслей. Она привыкла к легким победам в Золотом дворце, где без труда склоняла любого и каждого к оплевыванию фараонова ложа.
Но на Хоремхеба ее красота не действовала. Он холодно оглядел ее и сказал:
– Достаточно я уже измазался в дерьме в этом треклятом городе и не хочу мараться еще больше, связываясь с тобой, прекрасная Нефертити. К тому же мне нужно диктовать писцам срочные депеши касательно военных приготовлений, и у меня просто нет времени для возни в постели.
Все это рассказал мне позже сам Хоремхеб, наверняка приукрашивая свой рассказ, но в основном он был правдив, ибо с того времени Нефертити люто возненавидела Хоремхеба и вредила ему, как могла, очерняя его имя и заведя в Фивах дружбу с царевной Бакетамон, отчего Хоремхебу был великий урон, о котором я расскажу позже. Так что он поступил бы мудрее, если бы не оскорблял ее, а сохранил ее дружбу и утешил ее в печали. Но ради фараона Эхнатона он не стал совершать этого, не стал плевать на его тело, он – как это ни удивительно – продолжал любить фараона, хоть и отдал распоряжение счищать его имя со всех надписей и уничтожать его изображение на всех росписях, и повелел разрушить до основания храм Атона в Фивах. Однако в подтверждение своих слов скажу, что одновременно Хоремхеб приказал своим верным слугам тайно перенести тело фараона Эхнатона из гробницы в Ахетатоне в фиванскую гробницу его матери и укрыть там, дабы оно не попало в руки жрецов. Жрецы были не прочь сжечь тело Эхнатона и развеять прах по воде, чтобы обречь его на вечные скитания в бездне преисподней. Хоремхеб опередил их, велев спрятать тело Эхнатона. Впрочем, все это случилось много позже.
6Получив согласие Тутанхамона, Эйе с великой поспешностью стал снаряжать для отплытия в Фивы корабли, на которые поднялся весь двор, так что в Ахетатоне не осталось ни единой живой души, если не считать обмывщиков и бальзамировщиков в Доме Смерти, которые готовили тело фараона Эхнатона для вечной жизни и погребения в гробнице, вырубленной по его распоряжению в восточных горах. Так покинули Небесный город последние жители, и покидали они его торопливо, забывая оглянуться назад, оставляя на столах в Золотом дворце неприбранной посуду, а на полу игрушки Тута – вечно играть в одну и ту же игру погребения.
Ветер пустыни сорвал оконные щиты, песок засыпал пол, по которому блестящие утки пролетали в вечнозеленеющих тростниковых зарослях и радужные рыбы плавали в прохладных водах. Пустыня вернулась в сады Ахетатона, рыбные пруды пересохли, оросительные каналы засорились, фруктовые деревья погибли. От стен домов отвалилась глина, потом обрушились крыши, и город превратился в руины: шакалы выли в пустых залах и устраивали себе лежбища на мягких постелях под расписными потолками. Так уничтожился город Ахетатон, уничтожился еще быстрее, чем был воздвигнут по воле фараона Эхнатона. Никто не осмеливался прокрасться на его руины, чтобы поживиться дорогими вещами, втуне пропадавшими под слоем осыпавшейся глины, ибо земля эта была вовеки проклята и Амон иссушал ногу всякого, дерзнувшего ступить на нее. Так исчез Ахетатон, словно его и вовсе не бывало, исчез как сон или мираж.
Впереди судов, сопровождавших Тутанхамона, вверх по реке ринулись, подобно ураганному вихрю, боевые корабли Хоремхеба – усмирять земли по обоим берегам потока. В Фивах Хоремхеб тоже навел порядок: разбой прекратился и людей перестали вешать на стенах вниз головой, – Хоремхеб нуждался во всяком человеке, способном носить оружие. Эйе украсил Аллею овнов стягами нового фараона, а жрецы устроили ему пышную встречу в главном храме. И я, Синухе, был свидетелем того, как его несли в золотом паланкине по Аллее овнов и царица Нефертити с дочерьми Эхнатона сопровождала его, так что победа Амона была полной. Жрецы помазали нового фараона перед изображением Амона со всеми подобающими священными действиями и возложили на его голову в виду всего народа красный и белый венцы – венцы лилии и папируса, Верхнего и Нижнего Египта, и тем показали народу, что фараон получил власть из их рук. Головы их были выбриты наголо, лица лоснились от священного масла, а фараон приносил на жертвенник Амону богатую жертву – ту, что впопыхах успел собрать Эйе с обнищавшей страны. Херихор, однако, условился с Хоремхебом, что Амон ссудит свои богатства для ведения войны, ибо из Низовья приходили дурные вести, которые Хоремхеб нарочито раздувал, дабы возбудить в народе ужас перед хеттами.
Народ Фив ликовал, приветствуя Амона и нового царя, хотя тот был всего лишь ребенком, – так неразумно сердце человека, что оно всегда готово надеяться и уповать на будущее, оно не хочет учиться на прошлых ошибках и мечтательно воображает, что завтрашний день будет лучше нынешнего. Поэтому народ, теснясь по обеим сторонам Аллеи овнов и во дворах перед святилищем, восторженно приветствовал нового фараона и осыпал его путь цветами; если же кто-то не кричал, а стоял молча с угрюмым видом, воины Эйе и Хоремхеба живо втолковывали ему древками копий, что такого поведения они не потерпят.
Но в гавани и в квартале бедноты еще тлели развалины, от них поднимался едкий, чадный дым, а река пропахла кровью и трупами. На коньках храмовых крыш с урчанием вытягивали шеи вороны и стервятники, не в силах взмахнуть крыльями от обжорства, а крокодилы, столь же объевшиеся, ленились шевельнуть хвостами и валялись на берегу с разинутыми пастями, позволяя мелким птичкам выклевывать остатки их ужасной трапезы, застрявшие между зубами. Там и сям бродили среди развалин и пепелищ испуганные женщины и дети, рывшиеся на местах своих бывших жилищ в поисках какой-нибудь хозяйственной утвари, а дети убитых рабов и носильщиков бегали за царскими боевыми колесницами, подбирая конский помет и выковыривая оттуда непереваренные зерна хлеба, ибо великий голод царил в Фивах. И я, Синухе, шел вдоль причала, где также пахло гнилой водой, смотрел на пустые корзины и суда, стоявшие без груза, и ноги сами несли меня к «Крокодильему хвосту», на пепелище, и я думал о Мерит и маленьком Тоте, погибших ради Атона и по моей глупости.
Ноги несли меня к развалинам «Крокодильего хвоста», и я вспоминал Мерит, сказавшую мне: «Я мягкое ложе для твоего одиночества, если не изношенный тюфяк под тобой». Я думал о маленьком Тоте, который был моим сыном, а я этого не знал; теперь же я видел его перед собой, его по-детски нежные щеки и ручки, которыми он обхватывал мою шею, когда прижимался ко мне лицом. Я шел по пыльной гавани, вдыхая едкий запах, и видел перед собой пробитое копьем тело Мерит, и залитое кровью лицо Тота, и пятна крови на его волосах. Вот что виделось мне, и я думал, что смерть фараона Эхнатона была слишком легкой. Я думал, что в мире не может быть ничего страшнее и опаснее царских сновидений, ибо они сеют кровь и смерть и тучнеют от них лишь крокодилы. Вот о чем думал я, проходя по пустынной гавани, в то время как до моего слуха доносились приглушенные вопли ликующей перед храмом толпы, приветствовавшей фараона Тутанхамона и воображавшей, что этот дурашливый ребенок, мечтающий о красивой гробнице, изгонит неправду и установит мир, покой и благоденствие в земле Кемет.
Я шел, куда вели меня ноги, и сознавал снова свое одиночество, сознавал, что в Тоте моя кровь иссякла и что этого не исправить; упований на бессмертие и вечную жизнь у меня не было, смерть казалась мне отдохновением и сном, она была подобна теплу жаровни в холодную ночь. Все мои надежды и радости были украдены богом фараона Эхнатона, теперь я знал, что все боги обитают в Темных чертогах, откуда никто не возвращается. Фараон Эхнатон выпил смерть из моей руки, но это не принесло мне облегчения, вместе со смертью он выпил милосердное забвение, а я жил и не мог забыть. Мое сердце было полно ожесточения, разъедавшего его, как зола, я чувствовал злобу ко всем людям, чувствовал злобу к народу, такому же тупому и бессмысленному, как и прежде, и ничему не научившемуся, который, как стадо, собирался перед храмом. Гаванские руины были подобны смерти, но вдруг от груды пустых корзин отделилась тень, и ко мне на четвереньках подполз человек. Это был маленький худой мужчина, чьи руки и ноги искривились еще в детстве от недоедания. Он облизнул губы почернелым языком и, глядя на меня безумным взглядом, спросил:
– Ты – Синухе, царский лекарь, перевязывавший раны бедняков во имя Атона?
Потом, поднимаясь с земли, он рассмеялся страшным смехом и, указывая на меня пальцем, сказал:
– Ты ведь Синухе, раздававший людям хлеб и говоривший: «Это хлеб Атона, берите и ешьте его во имя Атона». Раз так, дай-ка мне во имя всех богов преисподней кусок хлеба, а то я прятался много дней под самым носом у стражников и даже боялся спуститься к реке, чтобы попить. Во имя богов преисподней дай мне хлеба! Рот мой совсем пересох, а живот позеленел, как трава.
Но у меня не было с собой хлеба, чтобы дать ему, да он и не ждал этого, он вышел ко мне, чтобы поглумиться надо мной ради своего ожесточения. Он сказал:
– У меня была хижина, пусть убогая и пропахшая тухлой рыбой, но она была моя. У меня была жена, пусть некрасивая, изможденная, высохшая, но – моя. У меня были дети, и, хоть они голодали на моих глазах, это были мои дети. Где моя хижина, где моя жена, где мои дети? Твой бог забрал их, Синухе! Атон, всесветный разрушитель и губитель всего, забрал их, не оставив мне ничего, кроме вот этого праха, зажатого в моем кулаке. Я скоро умру, но меня это не огорчает.
Он опустился на землю передо мной, прижав сжатые кулаки к своему вздутому животу, и просипел:
– Синухе, а может, наши забавы все-таки чего-то стоили? Пусть я умру, как умерли все мои товарищи, но хоть память о нас останется в словах людей? Может, она останется в сердцах тех, кто работает своими руками и чьи спины привыкли к палочным ударам. Может, они будут помнить о нас даже тогда, когда вовсе забудут твоего Атона, а имя проклятого фараона сотрут со всех надписей. Может, смутная память о нас останется в душе народа и дети впитают ее с горьким молоком своих матерей и выучатся на наших ошибках. Тогда они с рождения узнают то, чему нам приходилось учиться. Узнают, что нет разницы между человеком и человеком, и что кожа богача и вельможи легко рвется, если ее вспороть ножом, и что кровь есть кровь, течет она из сердца голодного или сытого человека. Они узнают, что рабу и бедняку не след доверять фараону, или царским лекарям, или законам, или посулам знати – только крепким кулакам, чтобы с их помощью придумать свои законы! А тот, кто не принимает сторону бедняков, тот их враг, и в этом деле не может быть жалости и различия между людьми. Ведь ты в своем сердце, Синухе, был не с нами. Значит, ты был наш враг, хоть ты и раздавал нам хлеб, и сбивал нас с толку своими речами о царском Атоне. Все боги на один лад, и все фараоны тоже, и все вельможи, хоть сами они и не признают этого. Так говорю я, Мети, потрошильщик рыбы, мне нечего терять, потому что я скоро умру, и мое тело швырнут в воду, и оно уничтожится, и меня больше не будет. Но какая-то часть меня останется на земле, и ты узнаешь меня в неспокойных сердцах рабов, в тайной усмешке в их глазах, в горечи молока, которым истощенные матери будут вскармливать своих слабых детей. Я, Мети, потрошильщик рыбы, заставлю забродить все, пока тесто не заквасится и не будет испечен великий хлеб!
По его речи и глазам я видел, что горе и страх помутили его разум. Но он цеплялся за мои колени своими руками в рубцах, удерживая меня, и шептал:
– Ты, Синухе, который много учился и умеешь читать и писать, ты, конечно, считаешь, что потрошильщик рыбы не способен думать. Да, это трудно и требует многих усилий, но у меня есть время – дни и ночи, чтобы думать, пережевывая траву и обсасывая соленые узлы плетеных корзин из-под рыбы. Поэтому теперь я знаю, в чем была наша ошибка и почему нам пришлось умереть. Ведь у нас была власть и земля была нашей, но мы не умели пользоваться властью – мы научились грабить, ругаться из-за добычи и упиваться допьяна, так теша себя своим новым положением. Мы объедались и пили без меры, в то время как должны были убивать, убивать и убивать не переставая, пока не убили бы всех, кто был не с нами. А мы в своем убожестве не выучились этому ремеслу и, нищие и голодные, слишком высоко ставили человеческую душу, пока этот кот Пепитамон и черный Эйе не показали нам своего мастерства и не перебили нас всех. Но нам было уже поздно усваивать эту науку, зато, прячась среди корзин, я видел много снов об убийстве, и свои сны я оставлю в наследство потомству; сны мои, когда я умру, будут прокрадываться во мраке к спящим рабам и беднякам, так что пальцы на их руках и ногах начнут подергиваться и скрючиваться от моих снов, хоть меня самого давным-давно не будет.
Он смотрел на меня горячечным взглядом и держал мои колени своими руками в рубцах. Тогда я опустился в пыль рядом с ним, поднял руки и сказал:
– Мети-потрошильщик, я вижу, что ты прячешь нож в своих лохмотьях. Убей меня, если ты думаешь, что вина на мне. Убей меня, Мети-потрошильщик, ибо я устал от снов и радости во мне нет. Убей меня, если это порадует твою душу. Другой услуги я не могу тебе оказать.
Он достал из-за пояса рыбацкий нож и, вертя его в своих ладонях, покрытых шрамами, посмотрел на меня, потом глаза его увлажнились, он заплакал, отбросил нож и сказал:
– Убийство бесполезно, я понимаю это теперь; убивая, ничего не добьешься, ибо нож слепо бьет виноватого и невиновного. Нет, Синухе, забудь мои слова и прости мне мою злобу: человек, ударяющий ножом человека, ударяет своего брата, и, может быть, мы, рабы и бедняки, понимали это в сердце своем и не научились убивать. Поэтому, быть может, мы вышли в конце концов победителями, мы, а не те, кто убивал нас, – своим убийством они опозорили и погубили себя. Синухе, брат мой, наверное, наступит день, когда человек увидит в другом человеке брата и не станет убивать его. Пусть мой плач до того дня останется в наследство моим братьям, когда я умру. Пусть он, плач Мети – потрошильщика рыбы, прокрадывается в сны бедняков и рабов, когда я умру. Пусть под мой плач убаюкивают своих слабых детей матери. Пусть его всхлипы вечно слышатся в скрежете мельничьих жерновов, чтобы всякий узнавший его в сердце своем находил рядом с собой брата.
Он дотронулся до моей щеки, его горячие слезы капали на мои руки, а зловонный запах потрошильщика рыбы наполнял мои ноздри. Он сказал:
– Уходи, мой брат Синухе, чтобы стражники не убили тебя и чтобы тебе не причинили вреда из-за меня. Уходи, но пусть мой плач пребудет с тобою во всякий миг, пока глаза твои не отверзятся и ты не увидишь все то, что вижу ныне я, и тогда мои слезы станут для тебя драгоценнее жемчуга и каменьев. Ибо плачу сейчас не я – во мне плачут поколения порабощенных и битых из века в век. В моих слезах – тысячи и тысячи слез, состаривших мир и сморщивших его лицо. Вода, что течет в реке, – это слезы тех, кто жил до нас, вода, что падает на землю в иных краях, – это слезы тех, кто родится после нас в этом мире. Когда ты поймешь это, ты не будешь больше одинок, Синухе.
Он склонился к земле передо мной, его скрюченные пальцы зарылись в пыль, а слезы серыми жемчужинами скатывались на гаванские пыльные камни. Я не понял его слов, хотя и готов был умереть от его руки. Тогда я оставил его, вытерев влажную от его слез руку о платье и унося с собой неотвязчивый зловонный запах. И скоро забыл о нем, продолжая идти туда, куда несли меня ноги, и сердце мое было полно ожесточения, разъедавшего его, как зола, – ибо мое горе и одиночество казались мне огромнее горя и одиночества всех других. Вот так ноги принесли меня к бывшему дому плавильщика меди, и, пока я шел, мне попадались напуганные дети, прятавшиеся при моем приближении, и женщины, рывшиеся в развалинах в поисках утвари и закрывавшие от меня лица.
Бывший дом плавильщика меди стоял обгоревший, с закопчеными глиняными стенами, пруд в саду высох, а ветви смоковницы были черны и голы. Но среди развалин кто-то устроил навес, под которым я увидел кувшин с водой, и оттуда навстречу мне поднялась Мути – с вымазанными грязью седыми волосами, прихрамывая от увечья, так что мне показалось, что передо мной ее Ка, и я оцепенел в первое мгновение. Но она поклонилась мне, стоя на дрожащих ногах, и с усмешкой произнесла:
– Благословен день, приведший моего господина домой!
Больше она ничего не смогла сказать, потому что голос ее пресекся от горечи. Она опустилась на землю и закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на меня. На ее худом теле во многих местах были следы от Амонова рога, ноги были изувечены, но все раны уже затянулись, и я ничем не мог помочь ей, хоть и осмотрел все тщательным образом, несмотря на ее протесты. Потом я спросил:
– Где Каптах?
– Каптах умер, – ответила она. – Говорили, что рабы убили его, увидев, как он потчует вином людей Пепитамона и предает их.
Но я не поверил ее словам, я хорошо знал, что Каптах не может умереть, Каптах будет жить, что бы ни произошло.
Мути страшно разгневалась, видя, что я не верю ее словам, и вскричала:
– Тебе впору смеяться сейчас, Синухе, – все получилось так, как ты желал, и твой Атон торжествует! Вы, мужчины, все одинаковы! От мужчин все зло в мире, потому что они никогда не взрослеют, вечные дети! Дерутся, кидаются камнями, машут палками, расквашивают друг другу носы, и нет для них большего удовольствия, как приводить в отчаяние тех, кто их любит и желает им добра. Воистину, разве я не желала тебе всегда добра, Синухе? И вот мне награда – изуродованная нога, продырявленное рогом тело и горсть прелого зерна для каши! Но что я, на себя мне наплевать. Мерит, Мерит, которая была слишком хороша для тебя, потому что ты мужчина; Мерит, которой ты почти что своими руками воткнул нож в сердце! А маленький Тот, из-за которого я выплакала все глаза! Он был мне как сын, я пекла ему медовые пирожки и так старалась лаской умягчить его буйный мужской нрав! Но тебе это все безразлично, ты приходишь ко мне с довольным видом, весь потрепанный, с облупленной физиономией и размотавший все свое богатство, приходишь, чтобы спать под моим кровом, который я столькими трудами и усилиями возвела над своей головой на развалинах твоего дома, и еще, верно, хочешь, чтобы я тебя покормила! Бьюсь об заклад, что не успеет зайти солнце, как ты потребуешь себе пива, а наутро побьешь меня палкой, если я обслужу тебя не так скоро, и отправишь меня на заработки, чтобы самому отлеживать себе бока, – таковы мужчины, и я ничуть этому не удивлюсь, я уже ко всему привыкла, и никакая твоя новая затея не застанет меня врасплох.
Вот так она долго, с сердцем, выговаривала мне, не выбирая слов, пока ее бранчливая воркотня не напомнила мне дом, и мою мать Кипу, и Мерит, так что сердце мое переполнилось печалью и слезы хлынули из глаз. Увидев это, она всполошилась и принялась утешать меня:
– Ах ты, Синухе, отчаянный ты человек, ты же знаешь, что я не со зла говорю все это, а для твоего вразумления. И на самом деле у меня припрятана горсть-другая зерна, я сейчас быстро его смолю и сварю тебе вкусную кашу, а потом устрою тебе постель из сухого тростника здесь, среди этих развалин. Со временем ты начнешь заниматься своим делом, и мы выживем. А пока не беспокойся об этом: я хожу стирать в богатые дома, где много вещей, испачканных кровью, и этим зарабатываю на жизнь. Так что сейчас, чтобы ты немного потешил свое сердце, я вполне смогу одолжить жбан пива в увеселительном доме, куда на постой разместили воинов. Ну не плачь так горько, Синухе, мальчик мой! Слезами ничего не поправишь. Мальчишки есть мальчишки, им вечно надо что-то вытворять, от их безобразий страдают и сокрушаются сердца матерей и жен, но с этим ничего не поделаешь, так было, и так будет всегда. Все же мне совсем не хочется, чтобы ты притащил сюда еще каких-нибудь богов, – если ты сотворишь такое, тогда уж точно в Фивах камня на камне не останется! Я очень надеюсь, что этого не случится, хоть я, конечно, только простая женщина, старуха, и не мне учить мужчин. Но ведь я любила Мерит больше, чем любят дочь, – насколько я могу судить об этом, раз у меня не было детей. Я ведь всегда была уродлива и к тому же презирала мужчин. Так вот, она была мне дороже дочери, и все же я должна сказать: она не единственная женщина на свете, есть много других женщин, с которыми ты сможешь порадовать свое сердце, когда пройдет время и ты перестанешь скулить и успокоишься. Воистину, Синухе, время – самое милосердное снадобье из всех снадобий, и оно засыпет, как песок, твою печаль, и ты станешь замечать, что на свете есть другие женщины, которые неплохо смогут угомонить ту маленькую штуку, что скрыта под твоим передником, и ты снова ощутишь довольство и начнешь толстеть – для мужчин ведь нет ничего важнее этой их штуки. Ох, Синухе, господин мой, как ты исхудал, щеки у тебя совсем провалились, я просто не узнаю тебя! Ну ничего, сейчас я сварю тебе вкусную кашку, потушу рагу из молодых тростниковых побегов и одолжу для тебя пива – если только ты перестанешь плакать!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































