Читать книгу "Суринам"
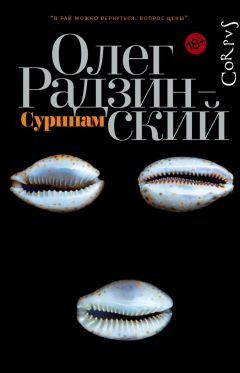
Автор книги: Олег Радзинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Соломон смотрел на нее и пытался улыбаться: он любил Алису чуть ли не больше, чем Летиция, и давно смирился с ее болезнью. Он упрашивал меня жениться и родить еще одного ребенка. Я всегда приходил к ним в пятницу, и мы садились вокруг праздничного стола, слушая Шуберта, и моя маленькая пятилетняя дочь, голая, с нерасчесанной копной волнистых черных волос, чиркала спичками о коробок, продолжая зажигать уже горящие свечи.
Она была очень красива – с темно-оливковой кожей и глубокими карими глазами с длинным разрезом, как у кошки. По вечерам она любила долго сидеть в ванне, и Летиция должна была поливать ее из игрушечного красного ведерка. Алиса никогда не вытиралась, выпрыгивала из ванны и мокрая бежала в постель.
После ужина в пятницу свечам давали догореть и зажигали еще одну длинную свечу, которую ставили в специальную тарелку с водой, оставляя на ночь. Это делали, когда Алиса засыпала, потому что она не позволяла ставить свечу в тарелку: она начинала плакать и рваться, чтобы вынуть подсвечник и поставить на стол.
Летиция уходила в спальню, а Кассовский и Соломон подолгу сидели в длинной темной гостиной и молчали обо всем на свете. Им было хорошо друг с другом. Они никогда не разговаривали в субботнюю ночь.
В тот вечер Кассовский хотел забрать Алису домой, чтобы провести с ней выходные. Алиса начала отбиваться, кричать и бросала на пол предложенное ей платье. Летиция уговорила его оставить Алису еще на одну ночь и прийти утром. Она пообещала сама умыть и одеть Алису к его приходу. Летиция сказала, что уговорит Алису пойти с ними в парк.
– Меня разбудили под утро, громкий стук в дверь с улицы. – Кассовский помолчал, улыбнулся. – Я помню свой сон в ту ночь, он часто мне снился. Когда внизу стали стучать, я не сразу понял, что это не во сне, и продолжал лежать, пытаясь найти обрывки своей ночной жизни. Затем я осознал, что стучат в дверь, и пошел вниз; там стояли двое полицейских и наш управляющий, старый Бастиан. Бастиан был весь мокрый и какой-то бледный, несмотря на черноту кожи. Он не мог ничего сказать, лишь открывал рот и снова закрывал. Он был похож на большую черную рыбу, которая пытается дышать воздухом.
Позже, когда проводили расследование, пожарные и полиция так и не смогли прийти к единому выводу. Скорее всего, решили они, свеча, стоявшая в тарелке с водой, упала на стол, загорелась скатерть, и так начался пожар.
Пожар тушили много часов, но паркет дома да Кошты был покрыт лаком, и в ту ночь сильный ветер с реки дул в их открытые окна, взбрасывая пламя высоко в безлунную ночь. Пожарные не могли подступиться к огню и сдались к утру, ожидая, пока сгорит все, что может сгореть. Удивительно, но пожар ограничился домом, и сад остался целым, лишь деревья еще целый год стояли черные от копоти и золы.
Они все сгорели в ту ночь: Летиция, Соломон, Патти и Алиса.
Кассовский остановился. Он говорил ровным тоном, пережив эти страшные слова много раз и много лет назад. Илья тоже молчал, не решаясь нарушить наступившую тишину. За окном начался дождь, ровный, несильный, на всю ночь.
– Я был единственный человек, кто знал, что случилось. – Кассовский сказал это неожиданно громко. – Летицию и Соломона, вернее, что осталось от них, нашли в их спальне на втором этаже. Патти тоже была у себя в постели, скорее всего, они так и не проснулись и задохнулись от дыма. Они все сильно обгорели, но там по крайней мере было что хоронить.
Кассовский снова остановился. Где-то в глубине дома стали слышны неразборчивые женские голоса.
– От Алисы же не осталось почти ничего: кучка обгорелых детских костей в гостиной, где начался пожар. Вы знаете, что она сделала? Я догадался сразу, когда мне сказали, где ее нашли. Она проснулась ночью и спустилась в комнату, где горела свеча. Она вынула подсвечник из тарелки с водой, поставила его на накрытый скатертью стол и стала чиркать спичками, роняя их на скатерть. Обычно, если ее не остановить, она изводила весь коробок. Скатерть загорелась, сквозняк из окна, много деревянной мебели, а потом огонь соскользнул на лакированный пол. Но Алиса не ушла, не убежала; она осталась с огнем. Я думаю, она делала то же, что делала всегда, когда видела пламя: она смеялась и танцевала, моя голая, нерасчесанная маленькая дочь, всегда ходившая по одной и той же стороне улицы. Она танцевала посреди огня, пока сама не стала огнем.
За окном надрывно, словно не могла вынести эту историю, прокричала ночная птица. Илья отчего-то знал, что эта птица белого цвета.
– Я снова остался один, – сказал Кассовский. – После похорон я целыми днями сидел в офисе и думал о боге. Я не мог его понять. Что двигает им и почему он так старательно наказывает меня и за что? Он отправил моих родителей в газовую камеру в Собиборе, Лагере № 3, он бросил меня в гайанских джунглях с разбитой в кровь головой, и теперь он сжег мою маленькую неразумную дочь и моих единственных друзей, что стали мне семьей.
Я сидел в офисе и вспоминал все людские несчастья, о каких знал. Я считал его ответственным за все.
Я помнил Тору: бог всесилен и благ. Если он всесилен, думал я, то все от него. Зачем тогда он допускает зло, несчастья, страдания? Значит, он не благ? Или это не от него? Или в мире есть другая, равная ему сила и это она душит людей в газовых камерах и сжигает маленьких детей? Но тогда бог не всесилен, тогда не все в его власти. Я сидел в офисе перед звонящим телефоном и пытался его понять.
Выходило, что бог или не всесилен, или не благ. Он не мог быть и тем, и другим и допускать то, что допускалось на земле. В любом случае, решил я, на него больше нельзя рассчитывать. Наверное, он знает что-то важное, что заставляет его убивать детей и допускать людские страдания. Наверное, если не уничтожить миллионы людей на никому не нужной войне, то через двести лет растают льды и нас всех затопит. Наверное, он знает эту связь, что невидима, неведома нам. У него, должно быть, есть свой план, свой замысел, но он забыл поделиться им с людьми. И лично со мной. И потому я отказываюсь оставаться частью замысла, о котором мне ничего не известно.
Я решил, что сам стану богом.
Кассовский посмотрел на Илью; в его взгляде читалось ожидание вопроса. Илье было нечего спрашивать: он хорошо понимал, что хотел сказать старик.
Кассовский решил, что не может больше рассчитывать на чужую, верховную волю и теперь будет сам отвечать за гармонию на земле, в меру собственных сил и ресурсов. Ему больше не надо было думать о повседневной жизни: у да Кошты не оказалось родственников, и весь бизнес остался ему как совладельцу. У него теперь было больше денег, чем он когда-либо рассчитывал заработать. И никаких личных потребностей.
– Моя идея была простой: я буду по мере сил помогать всем, кому нужна помощь. Я начал с детей. Было ясно, что я должен начать с детей, после того, что случилось с Алисой.
Я купил большой дом на Джессурунстраат и открыл приют для беспризорников. Дом стоял у моста через канал, и я назвал наш приют “Мост надежды”. На голландском De Brug van Hoop. Скоро все в городе стали звать его просто – De Brug, мост.
Ома появилась на следующий день после похорон Алисы. Ее не было на похоронах, хотя Йинг и Махсури пришли. Махсури громко плакала и прятала красивые глаза с горячим туманом в зрачках за черной кружевной вуалью. Йинг, как обычно, с прямой спиной, без слез в раскосых рысьих глазах все короткие похороны простояла молча, не сказав мне ни слова. Перед тем как уйти, она повернулась ко мне и склонила голову, сложив вместе ладони и прижав к груди. Я тоже поклонился в ответ. Потом я узнал, что китайцы всегда молчат на похоронах детей.
Утром другого дня я проснулся, и в доме была Ома. Она приготовила завтрак и дожидалась меня у стола. Она ничего не сказала про Алису. Она вообще ничего не сказала, словно не было трех лет разлуки. Мы мало говорили, но с тех пор она всегда была рядом, всегда.
Однажды вечером, когда я вернулся домой, я не нашел Ому на кухне, где она обычно меня ждала. Я поднялся по лестнице на второй этаж и увидел, как Ома собирает игрушки Алисы в прямую линию на полу, где прежде была маленькая голубая кроватка. Она точно помнила порядок, в котором Алиса выкладывала свои игрушки. Потом Ома села на пол, спиной к дверям, где стоял я, и долго смотрела на эту прямую линию, словно пытаясь понять, куда та ведет.
Я тихо закрыл дверь и спустился вниз, к давно остывшему ужину. Был сезон дождей, и струйки воды за окном просились в закрытое тепло кухни.
С той поры как Ома вернулась, между нами ни разу не было любви. Все ночи мы спали отдельно, но дни, дни мы были вместе. Утром Ома приходила в приют и оставалась там до вечера. Она купала детей, кормила их, помогала убирать комнаты и вообще помогала всем и везде.
Я появлялся в De Brug только после обеда, когда были приняты все деловые решения о перевозках товаров и можно было оставить офис на строгого Бастиана. Он следил, чтобы наши баржи шли, куда надо, и привозили оттуда, что нужно. Он держал наших капитанов в страхе бесконечных проверок и знал по имени начальников всех портов в Суринаме. Я мог спокойно оставить на него выполнение заказов и идти в приют, где жили собранные нами по городу дети.
Детей было не так много: в основном те, что жили вокруг рынка. Мы их кормили, лечили и учили читать и писать, дотягивая до уровня их школьного возраста. Затем они начинали ходить в нормальную школу, но по вечерам к ним приходили частные учителя, которым я платил отдельно.
Я хотел, чтобы наших детей учили музыке и рисованию, и сам учил их английскому. Я хотел, чтобы они не просто получили то, что не смогли получить из-за его равнодушия, а больше, больше. Я ведь был богом, благим и всесильным.
Кассовский занялся больными детьми. Он ходил по городским больницам – их было всего четыре – и объяснял врачам, что готов платить за лечение детей, которых те не могут лечить.
Это были по большей части дети с врожденными дефектами – церебральным параличом, тяжелым костным туберкулезом или умственно отсталые. Детей приносили в приют только из Парамарибо и окрестностей: если такой ребенок рождался дальше от города в джунглях, то долго не жил. Таких детей не лечили, и кормить их было накладно. Они лежали в своих маленьких лесных хижинах, глядя на мир, где им было не суждено жить. Им не дали шанса, но Оскар Кассовский был богом, благим и всесильным.
Он хотел помочь всем.
Маленькая дверь в углу комнаты отворилась, и доктор Алонсо прошел к своей низенькой скамейке и сел, отдельный от всего в комнате, мир в себе.
– Чем больше я отдавал, – продолжал Кассовский, – тем больше было нужно отдать. Несчастья копились, и через какое-то время я осознал, что причина страданий – плоть. Наша плоть страдала от болезней, с которыми мы не могли бороться, от голода, который не могли насытить, от желаний, которые было не дано удовлетворить. Когда в приюте умирали тяжелобольные дети, все радовались их смерти как избавлению. Нанятые воспитательницы просто говорили: “Отмучился” – и спешили помочь другим, еще живым, которым пока не так повезло.
Он начал читать гностиков и нашел, что искал. Этот мир был проклятием, ловушкой, и единственная возможность избежать страданий таилась в отказе от его материальности. Кассовский, благой и всесильный, мог облегчить страдания некоторых, но не мог помочь всем. Это означало, что он не так уж всесилен и нет у него власти над счастьем и несчастьем даже тех нескольких, что были рядом, в пределах досягаемости его ресурсов. Каждый день он должен был решать, делать выбор: содержать ли безнадежно парализованного ребенка или потратить эти деньги на воспитание здорового беспризорника. Его решения означали жизнь и смерть.
Он стал богом, но перестал быть благим.
Больше всего он злился на умственно отсталых детей: они были физически здоровы и могли жить бесконечно долго, отказываясь умирать. Они не страдали, не болели, но их нужно было кормить, обмывать и держать под присмотром в течение всей жизни. Они требовали времени, денег, сил и оставались безнадежно привязаны к этому миру, не желая его покидать. Он не мог их оставить, но и не мог их любить.
– Понимаете? – Было неясно, кого Кассовский спрашивает: он смотрел в сторону. – Понимаете – так и бог. Он должен с нами возиться, и мы для него как эти несчастные идиоты, что тянут свое бессмысленное, никому не нужное существование в этом мире. Бог не любит нас, поверьте. Я знаю: я был богом.
Все в комнате молчали. За сеткой окна зудели москиты, жалуясь, что их не пускают внутрь. Вдоль коридора прошелестели шаги легких босых ног.
– Наконец-то. – Доктор Алонсо встал. – Это моя жена, сейчас будем ужинать.
Дверь отворилась, строго очерченный квадрат света без тени и жалости.
– Илуша. – Адри улыбнулась и, помедлив, сначала подошла к Кассовскому. – Здравствуй, папа.
Коппенаме Ривер 4
Первый раз – по-настоящему – Илья дрался в пятом классе. До этого все стычки во дворе и школе оканчивались возней, пока один не сдавался. В лицо старались не бить из страха. Бить в лицо – означало перейти черту, за которой тебя ждал взрослый мир. Там жили по другим правилам, и никто особенно туда не стремился.
Первого сентября – мальчики в серых формах, жарких не по погоде, – они пришли в школу после лета и на торжественной линейке обнаружили, что с ними будет учиться Юра Конкин. Его все знали: Конкин был хулиган, которого постоянно наказывали и обсуждали на педсоветах. Конкин уже однажды учился в пятом классе, но учителей это не убедило, и его оставили на второй год. Конкину было все равно: он водился с большими ребятами и курил.
На третьей, длинной перемене Конкин собрал всех мальчиков. Он был не выше остальных, но как-то шире в плечах. Его форма была старой, прошлогодней, и от нее пахло. Конкин не носил пионерский галстук: он был исключен из пионеров.
– Значит, так. – У него был хрипловатый, приятный голос. – Всем на обеды деньги дают?
Давали всем, кроме Саши Капитаненко: его мать была алкоголичка, и Сашу в школе кормили по специальному талону, который он получал в учительской раз в неделю. Остальным давали по сорок копеек: пятнадцать на суп, пятнадцать на второе и десять на компот и булку.
– Значит, так. – Когда говорил, Конкин немного брызгал слюной. – Сегодня ешьте, а завтра все принесли мне по десять копеек. Соберу на большой перемене.
– На что? – поинтересовался один из них, длинный и худой Ермолаев. – На что собираем?
– Ты чо, мудак, что ли? – Конкин не понижал голос, когда говорил матом, как делали другие мальчики в классе. – В ебло захотел? Сейчас оформлю.
Ермолаев не хотел. Другие тоже решили не интересоваться и разошлись тихо, размышляя, от чего лучше отказаться – от супа или от компота.
Илья не совсем понял, что произошло, и решил посоветоваться с отчимом, Маратом. Он звал его “папа”. Папа Мара.
Тот не удивился и выслушал все спокойно. Он оглядел Илью как-то по-новому и затем, подставив открытую ладонь, попросил Илью ударить в нее со всей силы.
– Зачем? – не понял Илья.
Обычно они обсуждали, где находятся какие столицы, какая страна с кем граничит, или говорили о любимых и не очень писателях. Все интересы семьи, как и профессии его родителей, были связаны с литературой и театром. Раньше в их семье никто никого никогда не бил по ладоням.
– Хочу посмотреть, какой у тебя удар, – сказал Марат.
Илья замахнулся и ударил. Получилось звонко и как будто сильно.
– Плохо, – сказал папа Мара. – Будем учиться.
Марат рос во время войны, и когда его отца – известного советского инженера – расстреляли в конце тридцатых, а мать отправили в лагерь, он попал в детский дом для детей врагов народа. Нравы там мало отличались от тюремных, и Марат выжил, потому что научился драться, и драться жестоко.
Он показал Илье, как правильно ставить ноги перед ударом, как отталкиваться и разворачивать бедро, чтобы ударить всем весом, а не просто рукой. Он учил его бить коротко и без замаха. Он учил его бить куда больнее.
– Завтра, – сказал Марат, – когда ваш второгодник подойдет к тебе за деньгами, ты ему скажи, что от тебя пусть денег не ждет. Он начнет качать, – это Илья не понял, но слушал внимательно, – и тут сразу бей. Старайся попасть в подбородок, чтобы он потерял равновесие, а потом в нос, чтобы в кровь. Бей, не бойся; с мамой я поговорю.
Илье почему-то казалось, что матери Марат так ничего и не сказал.
Утром перед школой Илья стал нервничать. Он не хотел драться и надеялся, что Конкин не придет в школу. Потом Илья решил, что проще не ходить в школу самому. Он пришел в родительскую спальню и сказался больным.
– Глупости. – Мать потрогала его лоб сухими со сна губами. – Ничего у тебя нет. Абсолютно здоров.
Илья пошел на кухню, и туда сразу вышел Марат. Он сел напротив и молча смотрел, как Илья ест гречневую кашу с молоком.
Затем Марат сказал:
– Не бойся, все через это проходят. Если сейчас побежишь, всю жизнь будешь бегать.
Илья не понял, что он хотел этим сказать.
На большой перемене все собрались вокруг Конкина в дальнем углу и сдавали ему по десять копеек. Ермолаев отдал первым и остался стоять рядом, кивая каждый раз, когда очередной мальчик протягивал деньги. Илья не пошел. Он ушел в другой конец коридора, ближе к учительской, и надеялся, что Конкин про него забудет.
Тот отыскал его сам. Он был в хорошем настроении и не собирался конфликтовать.
– Гони гривенник, – сказал Конкин, не глядя на Илью. – Я после географии сваливаю.
– Нет. – Илья не услышал свой голос.
– Чего – нет? – удивился Конкин. – Тебе что, на обед не дают?
– Мне дают. – Илья поставил ноги параллельно и чуть согнул колени, как учил папа Мара; он понимал, что отступать некуда. – Это я тебе не даю.
Конкин наконец на него взглянул. Он стоял в фас, чуть сбоку, удобно под правую руку. Он смотрел на Илью и не знал, что сказать. Илья не мог больше ждать.
Он ударил прицельно, точно в центр подбородка с правой руки, правильно перенеся вес на левую ногу; он вчера отрабатывал этот удар больше часа. Затем Илья ударил слева боковым и снова с правой прямым, но оба удара ушли в воздух. Илья остановился: он не понял, что произошло.
Конкин лежал на полу. Он упал после первого удара и стукнулся затылком о пол. Илья не знал, что делать: такую возможность они с Маратом не обсуждали. По плану Конкин должен был оставаться на ногах, чтобы в него можно было бить сериями, сдвигаясь влево после каждых трех ударов, чтобы тот терял время на разворот. Но Конкин лежал на полу и никуда не разворачивался.
Их уже обступили, и где-то совсем недалеко были слышны голоса взрослых.
Конкин медленно поднялся на ноги, странно помотал головой из стороны в сторону и молча бросился на Илью. Он сбил его с ног, и они покатились по полу. Конкин старался освободить руки и ударить в лицо, но Илья цепко держал пальцы замком, не давая тому вырваться. Затем их обоих – за воротники пиджаков – поднял учитель физкультуры, и все кончилось.
Илью особенно не ругали и ни о чем не спрашивали: всем в учительской было ясно, что виноват, как всегда, Конкин. Тот грозил Илье кулаком за спиной. Илья старался этого не видеть. Его скоро отправили в класс, а Конкина оставили до прихода завуча. В классе все глядели на Илью с удивлением, а Ермолаев крутил у виска пальцем.
Они ждали его после уроков, на узкой тропинке, что вела от школьного двора к гаражам. Их было трое: Конкин, худой шестиклассник по кличке Аким и Ермолаев. Когда Илья их увидел, он хотел – он еще мог – свернуть в сторону и пройти между домами. Но он вспомнил слова Марата и решил не бежать. Все равно завтра в школу.
Ему мешал портфель. Илья думал, куда деть портфель. Конкина он теперь не очень боялся, но их было трое. Он решил, что портфелем можно будет закрыться как щитом.
Первым его ударил шестиклассник. Этого Илья не ожидал: он ждал нападения справа, от Конкина. Они набросились на Илью и стали бить с двух сторон. Илья успел ударить в ответ пару раз, но не сильно, без прицела, мажа и не причиняя вреда. Конкин и Аким прижали его к стене гаража, держа за руки, и Конкин кивнул Ермолаеву. Тот всю драку прыгал вокруг и махал длинными руками, выкрикивая что-то на выдохе.
– Давай, – сказал Конкин. – Дай ему, Ермола.
Ермолаев съежился и, странно взвизгнув, ударил Илью по лицу раскрытой рукой. Аким засмеялся.
Конкин плюнул Илье на портфель и сказал:
– Еще раз дернешься, изуродую, блядь. Ты мне теперь рубль должен.
Вечером, когда мать начала допытываться, Илья соврал что-то про велосипед. Мать хотела намазать его зеленкой, но Илья не дал. Ему было больно, но с зеленкой на лице он не мог пойти в школу.
Марат пришел с работы, как всегда, поздно; Илья уже лежал в постели. Марат сразу прошел к нему в комнату и сел на кровать. Они помолчали в темноте, потом Марат протянул руку и включил свет.
Марат осмотрел Илью и спросил:
– Он один тебя так?
Илья рассказал, и Марат стал смеяться. Илья не понял: он ожидал жалости.
– Глупый, – обнял его Марат. – Он же тебя испугался, сразу. Вставай, будем тренироваться.
В тот вечер Марат научил его бить носком ноги под колено, а потом серию из двух боковых. И они выработали план.
На следующее утро Илья пошел за школу, где курили. Там уже стояли ребята постарше, пряча окурки в кулаках, и с ними Конкин. Илья оставил портфель за углом и пошел прямо к курящим. Он здесь раньше никогда не был: все в школе знали, что это место лучше обходить.
Конкин стоял к нему спиной, и другие не обратили на Илью внимания: он был никто и не мог им ничем угрожать. Они громко матерились между собой и о чем-то незлобно смеялись.
Илья подошел к Конкину сзади и позвал:
– Юр!
Конкин обернулся, и Илье показалось, что он чуть дернулся от неожиданности. Илья подождал, пока тот полностью развернется: он был нужен ему в фас. Он вдохнул и на выдохе ударил Конкина правым кулаком в лицо.
Их никто не разнимал. Они дрались молча, окруженные курящей шпаной, которая тоже молчала.
Конкин победил: он сбил Илью с ног и, сев на него, долго бил по лицу, пока Илья старался ловить его руки. Потом прозвенел звонок, и Конкин его отпустил.
Они бежали в класс, оба с разбитыми лицами, и Конкин, задыхаясь от злости, подвывал сзади:
– Рубашку, падла, рубашку порвал… Меня мать за эту рубашку убьет, сука… Измордую после уроков, блядь… Пиздец тебе, Кессаль…
Он оказался человек слова.
Так продолжалось неделю: Илья находил Конкина утром около школы и успевал ударить несколько раз. Конкин был сильнее и дрался лучше. Он обычно побеждал в утренней драке, но с небольшим перевесом, и все чаще Илье удавалось разбить ему нос или сильно ударить в челюсть. После уроков Конкин ждал Илью за гаражами с кем-то из своих, и они били его, сколько могли. Следующим утром Илья снова ловил Конкина, чтобы успеть ударить в лицо. Про деньги Конкин больше не заикался; он ничего не хотел от Ильи, только чтобы тот отстал.
На вторую неделю он начал от Ильи прятаться.
С тех пор Илья знал: бежать нельзя.
Но сейчас, в доме у синей горы на Коппенаме Ривер, Илья хотел бежать. Как тогда, в пятом классе, он вдруг перешел в другой, новый мир, где уже не толкали, а били в лицо. Здесь жили по другим законам и нужны были другие ответы. И рядом с ним больше не было никого, кто бы мог поставить ему удар.
Первый раз за много лет он хотел назад, в детство, и чтобы рядом был папа Мара. Илья даже оглядел комнату, словно ожидая его найти.
Ни тюремная жизнь, ни эмиграция не подготовили Илью к тому, что происходило вокруг: все, что казалось устойчивым, незыблемым, понятным, повернулось обратной стороной, и надо было заново учиться бить и быть битым в лицо.
И не бежать.
Адри смотрела на него ровным взглядом – без улыбки, приветливо, как на знакомого, но не больше.
Доктор Алонсо уже был в дверях, когда понял, что все остались на местах и не спешат идти ужинать. Кассовский держал Дилли за руку; другой рукой он обнимал Адри за плечи.
Илья вдруг осознал, что он единственный в комнате продолжает сидеть. Он встал.
– Пойдемте. – Доктор Алонсо кивнул в сторону двери. – Ужин готов.
Он повернулся, чтобы идти.
– Спасибо. – Илье еще казалось, что сейчас они рассмеются и все это окажется неправдой. – Я не голоден. Я не хочу.
Никто не смеялся. Доктор Алонсо посмотрел на Кассовского, потом на Адри. Он не понимал, почему кто-то может не хотеть ужинать.
– Я думаю, – сказал Кассовский, – будет лучше, если мы пойдем в столовую и оставим Илью и Адри одних. Может быть, позже Илья проголодается и присоединится к нам. – У него была манера чуть кивать в сторону того, чье имя он называл.
Доктор Алонсо сказал Дилли что-то на аравак, и та запрыгала к двери на правой ноге, высоко поджимая левую, словно странная одноногая птица. Дилли старалась соразмерять прыжки с шагами взрослых.
Они остались одни.
Адри продолжала глядеть на Илью; она не чувствовала себя смущенной. Илья решил не начинать разговор сам: он хотел, чтобы начала объясняться и оправдываться она. Но Адри стояла невдалеке от него, рядом с большой желтой лампой, и молчала. Илье хотелось ее обнять и чтобы все закончилось. Он хотел проснуться.
Далеко внутри дома запела женщина. У нее был высокий, но какой-то глухой голос, и песня, со странным ритмом – не европейская песня, – облетела дом и вернулась к той, что пела. Илья не мог разобрать слова: они были как вода, как река за окном. Илье казалось, что он знает этот голос, но не мог понять откуда. Он поморщился.
– Ома, – сказала Адри. Она всегда догадывалась, о чем он думает. Хоть это осталось неизменным.
– Ома? – Илья удивился: после рассказа Кассовского Ома стала для него чем-то вроде литературного персонажа, и он забыл, что есть реальная, живая Ома. И что она может петь здесь, в доме, где разрушился его мир.
– Ома? – повторил Илья. – Если Кассовский твой отец, то Ома должна быть твоей мамой. А ты той самой маленькой девочкой, которая погибла при пожаре. Это ты? – Он решил быть саркастичным. – Ты страдаешь аутизмом? И ты погибла много лет назад?
Адри не улыбалась. Она продолжала ровно смотреть на Илью, как если бы он ничего не сказал.
Затем Адри вздохнула:
– Нет, Илуша, погибла Алиса. Ей было пять лет, и она сгорела в доме да Кошты на Рузевелткаде. Там до сих пор пустое место, хотя прошло много лет. Там никто не хочет селиться, потому что в Парамарибо верят, что Алиса заколдовала сад и до сих пор там живет. Любой в городе тебе скажет, что знает кого-то, кто хоть раз проходил вечером мимо и видел маленькую голую девочку с горящими спичками в руках. Она чиркает ими о пустой коробок и смеется.
Она замолчала. Илья не знал, что сказать. Он хотел ее поцеловать. Он хотел быть вместе.
– Почему тогда ты зовешь его “папа”? – спросил Илья. На самом деле ему было все равно.
Адри кивнула:
– Мы, младшие, все его так зовем.
– Кто “младшие”? – не понял Илья. Он не мог понять, о чем она говорит. Какие-то младшие.
Адри села в кресло, где раньше сидел Кассовский. Она молчала, и Илья понял, что она ждет, чтобы он тоже сел. Он сел. Он был ей благодарен, что она не села на низкую скамейку, где до этого сидел ее муж.
– Мы – младшие kinderen van De Brug, – сказала Адри. – Дети De Brug.
Она посмотрела на Илью. Она ожидала, что он будет задавать вопросы. Илья не стал: он помнил про De Brug. Он просто решил уточнить.
– Ты тоже из этого приюта? “Мост надежды”?
Адри засмеялась. Илья любил ее смех и любил ее. Он никого никогда не любил – ни одну женщину. Он был влюблен пару раз в жизни, но то было другое: тяжкое, как болезнь, как горячая лихорадка, когда ты не в состоянии совладать с вирусом внутри. С Адри все было иначе: он был здоров и просто любил ее, не зная, как про это сказать.
– Мы все оттуда. – Адри сидела в своей обычной позе – глубоко в кресле, с поджатыми длинными голыми ногами. – Все, кого ты знаешь как Рутгелтов. И многие другие. Мы все – дети De Brug.
Песня вдруг остановилась на полутоне, и ее незаконченность повисла в тишине дома, как сломанная ветка. Было неправильно так прекратить петь. Было много всего неправильного вокруг.
– Мы – Кэролайн, Руди и я, – продолжала Адри, – мы – младшие. Эдгар и Микка были в самой первой группе детей, когда папа открыл De Brug. Алонсо принесли чуть позже, во второй год. Он был такой слабый, что не мог сам ходить. Ома не верила, что он выживет. Он не мог сам есть, и его кормили через резиновую трубку. – Она улыбнулась. – Я тогда даже еще не родилась.
Илья не хотел ничего слышать про Алонсо. Никакого Алонсо вообще не было. Они были только вдвоем.
Стало слышно, как за окном полил дождь.
– А кто твои родители? – спросил Илья. – Настоящие родители.
– Настоящие – это папа и Ома, – сказала Адри. – Хотя Ома никогда никому не позволяла звать себя “мама”. Никому, кроме Рони. Он родился без обеих ног и с одним легким. Он не мог дышать сам. Рони все время ползал по коридорам и таскал за собой свой кислородный баллон. Когда у него кончался воздух, он кричал: “Мама, мама”. Он звал Ому.
Они помолчали.
– Он умер. – Адри обняла себя за плечи, словно ей было холодно. – Знаешь, Ома никогда не простила папу, что он оставил Алису в ту ночь у да Кошты. Однажды она мне сказала, что на самом деле вернулась к нему тогда, после похорон, чтобы убить его ночью, пока он спал. Она хотела прийти к нему ночью, утомить любовью, а потом, когда он заснет покрепче, перерезать горло длинным узким малайским ножом. – Адри рассмеялась. – Я видела этот нож, она до сих пор хранит его в Хасьенде.
– Все еще хочет его зарезать? – спросил Илья. Он мог ожидать чего угодно от этих людей: они жили по другим правилам и дышали другим воздухом в другом, непонятном ему мире.
– Может, и так, – сказала Адри. – С нее станется. Но других родителей у меня нет, только папа и Ома. Я помню свою жизнь начиная с De Brug. До этого я только помню, как кусались крысы. Там была яма, у рынка, где я жила с другими детьми. Но я ничего не помню, только крыс.
Она говорила ровным, спокойным голосом, глядя Илье в глаза. Илья хотел, чтобы она к нему подошла. Он сам хотел подойти.
– Тех, кто проявлял склонность к учебе, посылали в частные школы в Европу. Когда мне было девять, меня отправили в Швейцарию, в коллеж Бо-Солей, где до этого учились Микка, Кэролайн и другие дети De Brug. Эдгар учился в Англии и до сих пор там живет. Он астрофизик, работает в Кембридже. В лаборатории Кавендиш.
Она посмотрела на Илью, словно это была важная информация. Илья не знал почему. Ему было неинтересно про Эдгара.
– А ты? – спросил Илья. – Кто ты? На самом деле?
Адри улыбнулась и покачала головой:
– Я – не студентка юрфака в Колумбийском. Это был обман, для тебя. Я даже не окончила коллеж, меня исключили в девятом классе. Выгнали.









































