Текст книги "Камень власти"
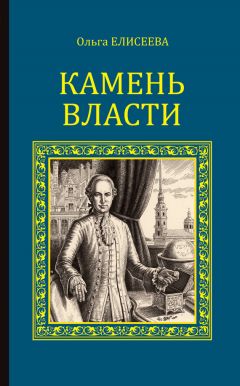
Автор книги: Ольга Елисеева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Глава 8
Левая рука
– Мерзавка! – Петр Шувалов тряс графиню Елену за подбородок. – Маленькая мерзавка! Вздумала обвести меня вокруг пальца?
Женщина стояла перед ним на коленях, склянки с нюхательными солями и пузырьки дорогих парижских духов были разбросаны по полу. Шелковая сорочка на ее груди разорвана, длинная кружевная оборка ночного чепца беспомощно свисала хозяйке на обнаженное плечо. Но вид столь соблазнительного безобразия ничуть не возбуждал свирепого покровителя. Что ему давала эта потаскуха? Светское прикрытие – и только. Он никогда не получал от нее должного удовольствия. Да и может ли вообще женщина дать хоть какое-нибудь удовольствие адепту, давно перешедшему за грань простого удовлетворения своих страстей?
Поверженная красота валялась у него в ногах.
– Тварь, – повторил Петр Иванович и пнул Элен коленом в грудь. – Знаешь, что я могу сделать со всей твоей родней? Знаешь. По глазам вижу, что знаешь. – Он отвернулся.
В щелку приоткрытой двери за господами тайком наблюдали слуги. Они и так-то боялись грозного фельдмаршала. «Ничего, пусть посмотрят, – не без раздражения подумал Шувалов. – Поймут, чего стоит их хозяйка. Это ей тоже наука. Будет себя помнить. С кем связалась? С неумытой солдатней!»
Граф вспомнил лицо Орлова и чуть не застонал. Этот юнец нужен был ему для дела. Вернее, для деланья. Великого Делания человеческой судьбы, которое всегда предполагает необработанный камень сердца, стремящейся к просвещению. Петр Шувалов готов был просветить Гришана, ввести его в особый круг, где очень давно не хватало «дикого камня» для продолжения братских работ. А то, что простаку-адъютанту предстоит великая будущность, не трудно было догадаться из его гороскопа. Предусмотрительный Шувалов всегда заказывал гороскопы на людей, которые начинали его интересовать. Один выкрест на Невском, бывший шинкарь из-под Могилева, а теперь содержатель чулочной лавки составлял для него отличные таблицы. Там звезда Орлова плотно шла рядом со звездами императорской фамилии. Может, он, Петр Шувалов, чего-то и не понимал, но такого человека следовало держать возле себя на коротком поводке… Сорвалось.
Что ж, пусть сгинет. А эта, граф грозно глянул на несчастную Элен, распростершуюся на холодном паркете, эта ему еще послужит. В последний раз.
– Сегодня вечером приедете по адресу… – Петр Иванович подошел к столу и, выбрав из пачки тонких итальянских салфеток одну, наиболее сухую, написал на ней помадой несколько слов. – Одна. Без сопровождения. В моей карете.
Елена испуганно кивала, подобрав полы разорванной рубашки, и не понимая, радоваться ей, что опасный любовник так быстро остыл, или страшиться надвигающейся ночи.
– Не вздумайте перечить моим распоряжениям, – сухо бросил Шувалов. – Вам надо еще выслужить прощение. «Как служит верная преданная собака, – мысленно добавил он, – выполняя любые приказы и не спрашивая хозяина: зачем?»
Сердце графини сжалось. Ей почему-то показалось, что сегодня от нее потребуют чересчур многого. Чего она, возможно, не в силах будет дать…
– Черная месса? – возмущенно воскликнул фаворит. – Это называется черная месса, братец. Не пытайся запутать меня многозначительными недоговорками. Обряд, который ты описываешь, у католиков очень известен. А у нас и слов-то таких не придумали.
Фельдмаршал пыхтел, лицо его наливалось кровью.
– Есть немало выезжих попов из Западной Малороссии, которые знакомы со всеми подробностями латинского обряда… – начал он, но по резким, отрицательным жестам брата понял, что фаворит в ужасе от его предложения.
– Я никогда не стану о такое мараться, – отрывистым шепотом произнес Иван Иванович. – Упаси меня бог больше играть в ваши игры! Тебе голов на крыше мало? Теперь еще и голую бабу в алтаре хочешь?
– Милостивый государь Иван Иванович! – резко одернул его фельдмаршал. – Не забывайтесь! Вы давали обед послушания старшим по ордену. И если я прикажу, не только «замараетесь» присутствием, но и сами послужите для меня таким алтарем.
– Не будет этого, – робкий фаворит бунтовал да и только. – Черные мессы служат за упокой кого-то из живущих. Я никому в гроб дорогу открывать не намерен. И с дьяволом в сношения вступать тоже.
– Да ты уже по уши в этих сношениях, братец! – раздраженно бросил фельдмаршал. – Кто к Брюсу ездил? Кто головы вопрошал?
– Оставьте его! – раздался сзади ровный спокойный голос.
Оба собеседника вздрогнули и обернулись. Им казалось, что в будуаре за спальней императрицы их вряд ли побеспокоят. Но на пороге стоял Роман Воронцов, бог весть как пробравшийся сюда, и строго смотрел на обоих.
– Вы кричите на весь дворец, – сказал он. – Ведите себя потише, юноша.
Иван Иванович сел. В одну минуту весь его праведный гнев улетучился, как залп от хлопушки. Ему очень не хотелось куда бы то ни было ехать и в чем бы то ни было участвовать. Но и сопротивляться душевных сил не осталось.
– Зачем вы заставляете его, Перт Иванович? – укоризненно обратился к фельдмаршалу Воронцов. – Вы же видите, путь левой руки для вашего брата невозможен. Как и для большинства наших братьев.
Петр только фыркнул.
– Он и так прекрасно служит на своем месте.
Фаворит бросил на Воронцова благодарный взгляд.
– Однако, молодой человек, – продолжал Роман Илларионович, – коль скоро вы узнали о предстоящем действе, вам придется присутствовать. – Он жестом прервал возмущенный возглас Шувалова. – Вы знаете, что такова элементарная предосторожность. Связав себя общим обрядом, братья уже не могут выдать друг друга. Не мы завели эти правила. И тем более странно будет, если люди столь высокого посвящения, как мы с вами, начнут нарушать святая святых ордена – его законы.
Иван Иванович склонил голову. Ему нечего было возразить. Воронцов прав. Но почему, черт возьми, он с каждым шагом увязает все глубже и глубже там, куда и наступать-то не собирался? Почему с каждым новым откровением о жизни братства, ему все сильнее хочется бежать, куда глаза глядят? Но нельзя. Уже нельзя. Слишком поздно.
«Господи! – мысленно взмолился Иван Иванович. – Да выведи же Ты меня отсюда!»
Воронцов хлопнул фаворита по плечу.
– Один раз, – ободряюще сказа он. – Больше вас к левой руке привлекать не будут.
Почему Шувалов знал, что это ложь?
Скромное здание лютеранской кирхи на Выборгской стороне давно облупилось. В нем не служили уже лет десять. Храм пришел в негодность да и был слишком мал для разраставшейся с каждым годом немецкой колонии. Протестантов в столице жило больше, чем православных и, если бы не двор и не гвардейские части, состоявшие в основном из русских, многие церкви в Питере пришлось бы закрывать.
Карета Шувалова подъехала уже поздно, перед самой полуночью. Государыня долго держала его у себя, и фаворит сомневался, что успеет к началу службы.
Действительно, судя по низкому протяжному пению, доносившемуся из-за закрытых дверей, месса уже началась. «Хорошо, что вокруг пустырь, – опасливо подумал Иван Иванович. – Не ровен час жители позвали бы полицию и тогда…»
– Тогда, друг мой, – услышал он справа от себя дружелюбный, чуть насмешливый голос Романа Воронцова, – любому из нас достаточно было бы снять маску, чтоб квартальный надзиратель молчал об увиденном навеки.
«Этим любым они бы сделали меня», – вздохнул Шувалов.
– Вся полиция давно спит, – подбодрил его встречающий. – А которая не спит, той заплачено.
Они вошли в неплотно притворенные двери храма. Изнутри он был тускло освещен. Лампад явно не хватало.
Старое ржавое паникадило, свешивавшееся с потолка, не зажгли. Для действа, которое сегодня совершалось братством, сумрак был лучшим другом.
На мгновение Иван Иванович остановился у двери. Перейдя от уличной темноты к комнатной, он ничего не мог различить в узком продолговатом чреве кирхи.
– Кто служит? – спросил фаворит.
– Иеромонах Платон, – отозвался Воронцов. – Очень образованный молодой человек. Скоро его рукоположение.
В груди у Шувалова защемило. Неужели братство имеет адептов и среди духовных лиц? Почему нет? Когда такое говорили о католиках или о лютеранах, это не казалось Ивану Ивановичу противоестественным. Все стремятся к просвещению духа. Но сама мысль о православном священнике-адепте выглядела дикой и оскорбительной. А ведь этого Платона не оставят внизу каким-нибудь нищим деревенским батюшкой. Ему приищут столичный приход, богатых покровителей, сделают духовником «большого вельможи», которых, кстати сказать, сейчас полон храм.
Шувалов оглянулся вокруг. В помещении кроме него находилось человек тридцать, не меньше. Братья первых трех степеней. Фаворит не верил, что всех их притягивает «левая рука». Скорее всего, большинство, как и он, было «приглашено» настойчивым приказом орденских начальников. Но даже если происходящее понравится далеко не всем, по окончании службы никто не осмелится гласно выразить протест. Будет нечто, что заставит их молчать. Как заставило когда-то молчать его самого.
Два года назад императрица стала заметно охладевать к Ивану Ивановичу и все больше внимания оказывать кадету Бекетову, скромному юноше без всякого покровительства. Вот тогда-то родные Шувалова впервые привели фаворита на такую мессу. Она служилась за упокой души восходящего царского любимца. Бекетов, конечно, не умер, но через неделю весь с головы до ног покрылся язвами неизвестного происхождения. Брезгливой Елисавет шепнули, будто он подцепил дурную болезнь, и бедняга был удален от двора. А императрица вернула свое расположение тихому Иван Ивановичу.
Впрочем, почему происходящее должно было не понравиться собравшимся? Не все же так щепетильны, как Шувалов. Запах жженого паслена, шедший от паникадил, указывал на то, что братья обрядоначальники позаботились о возбуждающих веществах, от которых реальность теряла жесткие очертания. У Ивана Ивановича уже начинало звенеть в голове. Что же говорить об остальных? Они вдыхали дурман куда дольше и уже впали в сладкий транс. Сизые струйки дыма скользили по церкви, сглаживая очертания молящихся.
Сипло звучал орган. Казалось, что его трубы простужены. Шувалов с трудом узнал в странной, противоестественно-медленной музыке кантату Баха, игравшуюся здесь на необыкновенно низких, утробных басах. Тоненькая флейта, вплетавшаяся в пение церковного инструмента, предавала музыке что-то неуловимо восточное. Сейчас фаворит не знал, точно ли ему неприятны эти звуки.
Он заторможенно следил за тусклым, пьющим взгляд действом, разворачивавшимся у него на глазах. Что бы ни произошло, Иван Иванович точно знал, что у него хватит сил только смотреть. Не думая. Не двигаясь с места.
В глубине зала стоял алтарь с положенным на него черным матрацем. Священник в вывороченной наизнанку рясе без рукавов вел службу на латинском языке. Сколько Шувалову хватало знаний, она была составлена из нескольких католических месс: Святого Духа, Ангельской и заупокойной.
Называлось какое-то имя, но из-за скороговорки фаворит не мог разобрать, чье. Подняв руки вверх, Платон зычным голосом провозглашал: «Даруй ему вечный покой, Господи!» А весь зал дружно подхватывал: «Даруй вечный покой!» Шувалову вдруг представилось, что служат по нему и, торопясь, произносят его имя. От этой нелепой догадки Иван Иванович развеселился и по противоестественности своей реакции понял, что дурман начал действовать.
При очередном выкрике из-за резных дверей за алтарем двое адептов в красных рясах вывели обнаженную женщину. Они помогли ей лечь на матрас, свесив согнутые в коленях ноги и запрокинув голову. В скрещенных руках она держала тонкие черные свечи. Платон поставил на ее впалый живот золотую дароносицу и начал освящение даров.
В его пальцах мелькнули кружочки теста черного и красного цвета. Иван Иванович вспомнил неприятные истории о том, из чего делались такие облатки. Желудевая мука, нечистая женская кровь, кал и мужское семя. Неужели правда? Впрочем, сейчас душа не испытывала никакого протеста. Человек идет по пути бесконечных посвящений к абсолютной божественности. Что же странного, если «тело и кровь» Господня оказываются элементами человеческих тел?
Причастие лежало на тонкой белой салфетке, покрывавшей гениталии женщины. Поклонение совершалось ее живородной силе, и всякий раз, когда Платон должен был целовать алтарь, он целовал согнутые колени своей прекрасной помощницы.
Ивану Ивановичу почудилось, что сквозь жалобное блеянье флейты слышится настоящее баранье: бе-е-е. Двое адептов в красном вывели на середину зала маленького белого ягненка и, вскинув его на руки, понесли к алтарю.
Платон поставил у ног женщины глубокую золотую чашу. Шувалов тотчас узнал ее. Это была посвятительная орденская чаша, называемая «Кровавой». В ней смешивали вино и несколько капель крови неофита во время принятия нового брата в ложу.
Длинным острым ножом священник перерезал горло барашку, и кровь толчками хлынула в сосуд. Высоко подняв его над головой, Платон провозгласил на всю храмину:
– Агнец, будь столпом силы нашей! Дай нам власть над духами! И заставь их исполнять наши желания! Да будет так!
После чего, макнув палец в чашу, он нарисовал на лбу, груди и коленях женщины по алому кресту и начал обходить зал, окропляя присутствующих.
– Да будет кровь Агнца на нас и наших детях! – хором отвечали все на его благословение.
Затем Платон повернулся к пастве спиной, взял женщину на алтаре за бедра, раздвинул их и решительно овладел ею.
– Теперь сподобьтесь и вы, братья, – провозгласил он, опуская рясу.
Вереница молящихся потянулась к причастию. Священник протягивал каждому черную или красную облатку, смотря по чину адепта, и вливал в рот с золотой ложки «вино», как обычный церковный кагор. Затем отступал от алтаря, пропуская каждого для «полного соединения с Богом».
Судя по движениям братьев, все они вели себя крайне сдержанно. Шувалов пристроился в самом конце. Он надеялся, что к моменту причастия дурман окончательно овладеет его головой, избавив от стыда и гадливости. Однако паслен – не самая сильная травка – его действие краткосрочно. Когда фаворит подошел к алтарю, мозги почти продуло. Платон на ложке протянул ему черный бесформенный «хлеб», размоченный в «вине». Проглотить все это без сильного горлового спазма было невозможно. Ивану Ивановичу показалось, что его сейчас вырвет, но стоявший рядом иеромонах обратился к фавориту с едва скрываемой усмешкой:
– Был бы ты холоден или горяч. Но как ты ни холоден, ни горяч, то изблюю тебя из уст своих.
Евангельские слова прозвучали здесь такой издевкой, что Шувалов едва справился с желанием разрыдаться. Он помнил, что жженая травка до нельзя обостряет чувства, и там, где раньше достаточно было поморщиться, сейчас хотелось устроить истерику с битьем мебели.
«Изблюй меня! Изблюй из уст своих! – взмолился Иван Иванович, в бессилии подняв голову к пустой крыше протестантской кирхи. Со штукатурных небес на него не смотрели ни Господь, ни ангелы. – Изблюй меня и отпусти. Сделай никем. Чтобы они больше не нуждались во мне. Оставили в покое. Забыли…»
Платон отступил, пропуская фаворита к женщине на алтаре. Ее лицо было закрыто черным газовым платком, но Шувалов все равно узнал графиню Елену, столько раз позировавшую художникам-пансионерам в его доме. Сейчас это совершенное тело, опрокинутое навзничь и опробованное тремя десятками адептов до него, не выглядело ни красивым, ни желанным. Никто из братьев не позволял себе вольностей – обряд есть обряд. Но тридцать, даже очень сдержанных, мужчин для любой женщины – сверх меры.
Уже по окончании мессы, стоя на ступеньках храма в сером предутреннем тумане, Шувалов спросил у Воронцова:
– Не знаете, чем графиня Елена досадила Петру?
– Так это Куракина? – удивился Роман Илларионович. – Вот уж не думал, что ваш кузен действительно готов поделиться с «братьями» своим имуществом.
На том и расстались. Карета Шувалова застучала по деревянной мостовой, а Великий Мастер еще немного постоял на крыльце и вернулся в кирху.
Там у выхода из восточного предела Петр Иванович держал уже одетую графиню Елену за шиворот. Ноги у женщины разъезжались. Голова клонилась на бок.
– Теперь можешь идти, – сказал, как выплюнул, фельдмаршал. – Мы квиты. – Он толкнул перед Куракиной дверь и почти вышвырнул ее на улицу.
Роман Илларионович видел, как дама обеими руками ухватилась за стену, чтобы не упасть. «Если она и доберется, то только до ближайшей канавы», – не без раздражения подумал Воронцов. Но вслух ничего не сказал. Петр Шувалов – опасный человек. Зачем ссориться с ним из-за какой-то шлюхи?
– Княгиня, – Иван Шувалов подхватил Элен под локоть и не без труда удержал на краю канавы. Весь пустырь за церковью был покрыт глубокими рытвинами, полными весенней водой.
– Здесь неподалеку моя карета. Я отвезу вас…
Куракина скользнула по его лицу невидящими глазами.
– Я не поеду домой. – Ее язык заплетался так же, как и ноги. – У меня теперь нет дома. – Она перешла на шепот. – Все будут смотреть, смеяться, показывать пальцами.
Острая жалость обожгла сердце Ивана Ивановича. А вместе с ней – чувство стыда и ощущение собственной подлости.
– Идемте, княгиня. – Он взял Элен за руку. – Я знаю безопасное место.
Она повиновалась. Без вопросов и возражений. Кажется, ее совсем не интересовало, что происходит вокруг. Шувалов накинул спутнице на плечи свой холодный плащ и подсадил в экипаж.
– В Дудергоф! – крикнул он кучеру.
Тот крякнул. Далековато. Да и за ночь на козлах, ожидая барина, он намерзся. Хоть бы домой на часок завернуть: обогреться, пожрать, опрокинуть рюмочку. Но, глянув в хмурое лицо Шувалова, слуга решил не спорить. Иван Иванович редко пребывал с такой черной меланхолии.
Ехали долго. По Петергофской дороге в сторону залива. Временами Шувалову казалось, что Элен задремывает от тряски. Но княгиня просто впала в оцепенение. По ее бледному лицу текли слезы. Она не унимала их. Вдалеке, за серым перелеском, мелькнула красная башенка Подзорного дворца.
Куракина вздрогнула, но Иван Иванович отрицательно покачал головой, показывая, что везет ее не туда. Княгиня глубоко вздохнула.
– Куда мы едем? – спросила она часа через полтора.
– В Юлианковскую церковь. Около Стрельны, – отозвался фаворит. – Там поблизости в лесу строят женскую обитель. Я знаю настоятельницу, мать Нектарию. Она укроет вас, пока вы не придете в себя.
– В монастырь? – Губы княгини насмешливо дрогнули. – А вам не кажется, дорогой граф, что эта старая праведница укажет мне на дверь прежде, чем я успею постучаться?
– Вы слышали о ней? – Шувалов поднял бровь.
– Нет. Но мне от одного имени противно. Некта-ария. – Элен икнула.
– Ее звали княгиня Наталья Борисовна Долгорукая. Урожденная Шереметева, – пояснил фаворит. – Пятнадцати лет она обручилась с Иваном Долгоруким, ближайшим другом юного императора Петра II. Всего неделя счастья у нее и была – покрасоваться при дворе невестой первого вельможи. Государь скоропостижно скончался. Оспа. При Анне Долгоруких сослали в Березов. Она сама там пряла, шила, ходила за скотиной. Родила двоих детей. Говорит, что отроду так счастлива не была, как на арестантском житье. – Шувалов вздохнул. – Через несколько лет дело Долгоруких доследовали. Ивана колесовали. Наталья Борисовна с детьми пешком добралась до Москвы. Постучалась к родным. Только те ее не слишком приветили. Держали как приживалку. Елисавет вернула княгине часть имущества. Не все, конечно. Но она и крохам была рада. Подняла детей, определила к службе, а сама подалась в монастырь. Больше десяти лет прожила в Киеве, а сейчас приехала под Питер, хочет основать обитель. Говорит, что здешняя земля изнутри черная, нужно ее долго отмаливать, чтоб русские люди смогли на ней жить.
Элен молчала. Ее брови были враждебно насуплены.
– А вы Долгорукую откуда знаете? – с недоверием спросила она. – Вы, граф, кажется, не особенно богомольны.
– Богомолен? – Шувалов хмыкнул. – Я уговорил Нектарию писать собственноручные записки о временах ее молодости. Пройдет лет сто, людям будет интересно…
Куракина фыркнула.
– Вот, что им будет интересно. – Она откинула край плаща и похлопала себя по голому колену. – Кому охота читать про чужое горе?
– Чужие страдания заставляют забывать о своих, – возразил граф. – Или хотя бы оценивать их иначе. Не так болезненно. – Он попытался ободряюще улыбнуться спутнице, но вышло как-то кисло. – Обещаю, в Ульянке вас не задержат дольше, чем вы сами того захотите.
Элен отвернулась к окну. На ее лице застыла гримаса крайнего безразличия.
– Взгляните. Какая чудная баба идет! – через минуту сказала она. – Вон, впереди, по дороге.
Иван Иванович выглянул из кареты.
Действительно, по правой обочине ковыляло какое-то пугало в драном платке и залатанном солдатском мундире, фалды которого волочились по земле, как шлейф. Ноги странницы были босыми и красными от холода. Под кафтаном с мужского плеча не угадывалось рубахи.
– Эй, тетка! – окликнул ее Шувалов. – Куда идешь?
Странница повернула к нему круглое лицо, сначала показавшееся фавориту испитым. Но потом граф понял, что оно опухло и потрескалось от пронизывающего ветра. Видно, баба ни один день провела в лесу. От нее смрадно воняло, из свалявшихся волос кое-где торчали веточки и хвоинки, но серые глаза под косматыми бровями смотрели задорно и весело.
– Здорово, еретик! Здорово, блудница! – беззлобно приветствовала она богатых господ в прекрасной английской карете. – В Ульянку иду, куда и вам дорога.
Граф несколько опешил от такой наглости.
– А вот я сейчас прикажу кучеру взгреть тебя как следует! – пригрозил он. – Будешь знать, как разговаривать с благородными людьми.
– Прикажи, батюшка! Прикажи, кормилец! – насмешливо отозвалась мундирная баба. – С меня не убудет. Только у Господа на весах моего терпения прибавится. Да и твои грехи потяжелеют.
Шувалов рассмеялся. Разговор с юродивой отвлек его от тяжелых мыслей. А Элен высунула нос за занавеску и с любопытством разглядывала смешную побирушку.
– Как тебя звать-то?
– Ксенией. – Баба упрямо не кланялась им.
– А чего солдатский мундир нацепила? – подначивал ее Иван Иванович. – Думаешь, примут в обитель караульным?
Странница потупилась.
– Мужа моего покойного одежа. Другой нету.
– Полезай, болезная, на запятки, – милостиво разрешил Шувалов. – Мы тебя подвезем. Авось Господь за такое доброе дело скинет с моих весов лопату другую тяжких прегрешений.
– А то как же. – Странница шустро вкарабкалась сзади на запятки. – На небе всему учет, как в Сенате. Ни одно дело не проходит без регистрации.
Иван Иванович вздохнул. На его месте братец Петр отходил бы юродивую плетьми. А он почему-то не мог плохо отнестись даже к тем, кто бранил и поносил его самого.
От Стрельны свернули на восток. Вдалеке за темной стеной елей уже маячили тесовые крыши новой обители. Элен совсем не так представляла себе православный монастырь. Крепкие белые стены. Золотые купола. Звон на зоре. Как в Лавре. Здесь все было иначе. Деревянные домики среди дремучего бора. Часовня. Два храма. Начаты. Артель олонецких плотников – бородатых мужиков самого разбойного вида – махали топорами прямо посреди женской обители, а инокини в грязных фартуках подтаскивали им доски.
– Вы только, батюшки, доведите нам второй венец, – командовала румяная осадистая ключница в платке, по-деревенски брошенном, а не повязанном на голову. – Рамы и двери мы сами сладим.
– Сами с усами! – шутил артельщик, и так и эдак примериваясь к ней. Баба-то была еще не старая и расторопная. Как раз по нему. – Вы тут, значит, плотницы?
– Мы и швеи, и плотницы, и на все руки работницы, – складно отвечала та. – Эй, поворачивай, поворачивай карету! В яму въедешь!
Кучер вовремя дернул вожжи. Экипаж заметно просел на бок.
– Ну и грязища у них, – поморщилась Элен.
– Дожди. – Граф соскочил с подножки. – Мне нужно видеть мать-игуменью, – обратился он к первой попавшейся чернице.
– Заходи, заходи, голубчик! – донесся до них голос с порога одного из длинных домов, похожего на трапезную. – Давно не бывал. А я-то уж Бога молила.
К гостям через двор шла полная высокая женщина с простодушным, еще красивым лицом. Ее рукава были закатаны, руки по локоть в квашне, а на переднике болталась приколотая булавкой записка. «С рецептом, – догадалась Элен. – Так делала maman». У Куракиной сразу отлегло от сердца. Нектария лучилась добродушием, пахла пирогами, печным углем – словом, чем-то невыразимо домашним.
– Я привез вам… – было начал Шувалов.
– Идемте, милая, – игуменья остановила его жестом. – Вам нужно отдохнуть. – Она улыбнулась графу, как бы говоря: потом, все потом, – и подтолкнула Элен вперед к одному из рубленых домишек.
Иван Иванович остался один посреди двора. Он знал, что Нектария скоро выйдет, только отдаст распоряжения насчет княгини. Граф оглянулся по сторонам. Со времени его последнего посещения здесь многое успели сделать. Баню, хлев, кузницу. Появился даже свой маленький погост. Не живут люди в этой сырости.
Вокруг стоял стук топоров. Плотники беззлобно переругивались с монахинями. Это их развлекало.
– Ну вы, бабочки, и нашли где монастырь строить! – потешался над сестрами лихой артельщик. – Венец-то мы вам положим и стену построим. Только все равно земля держать не будет. Зыбкая она тут, как болото. И злая. Поганая, одним словом, землица.
– Да где ж нам строить? – удивилась ключница. – Вроде берег сухой, от залива далеко. Не задувает.
– Не о том речь. – Артельщик свесился к ней с лесов. – Ехали бы в Киев, в Пустынь, на Волгу. Да мало ли православных мест? Хоть бы и у нас в Олонце. А здешний город из болота вышел, в болото и уйдет, как не было.
– Не правда! – Оба вздрогнули, услышав за спиной скрипучий голос юродивой, давно прислушивавшейся к их разговору. – Не правду говоришь, мужичок. – Ксения неловко сползла с запяток. – Еще много костей уйдет в эту землю, прежде чем она процветет святостью. Но уж святость ее будет, как золотой аршин. Всем иным святостям мерило.
Плотники очумело воззрились на полуголую странницу в мужицком кафтане.
– Ты это, тетка… того… поди, поди отсюда!
Но юродивую было не унять.
– И город этот явит такой подвиг, какой в других землях с фонарем не сыщешь.
– Ты ври, ври, да не завирайся! – одернул Ксению артельщик. – Ишь распугала кур, кликуша. Сказано: Петербургу быть пусту. – Он поднял вверх толстый палец, замотанный грязной тряпицей. – Пророчество, значит, такое. А вы тут монастырь городите.
– Чье пророчество? – фыркнула Ксения. – Царя Петра блудной женки? Евдокии? Да что она знала?
– А ты…
– Я видела, – оборвала странница всякие возражения, – как палки огнем плевались, а железные птицы горели в небе. Как люди, такие же дураки и дуры, как вы, поднимались на такую высоту, что им только с архангелами разговаривать. – Ксения зыркнула по сторонам глазами. – Я видела саночки с гробами и врага лютого, страшного, который по этой окаянной земле так и не прошел. – Она топнула босой ногой по разъезженной грязи. – И ежели вы тут по уши в болото себя не вколотите, тем людям не выстоять.
– Тьфу ты, привязалась! – плотник плюнул вниз. – А я видел, как бревно здесь на аршин в землю уходит. И как вода с залива деревья покрывает по самые верхушки.
Но Ксения уже не слушала его, она увлеклась синицей, присевшей на конек крыши, и широко разинула рот.
«А ведь это вполне может быть, – думал Шувалов. – Граница близко. Швед под самым носом ходит. Две войны было. Третья не за горами. Знал Петр Алексеевич, где столицу строить! Державный архитектор…»
– Эй, Ксюша! – одна из монахинь окликнула юродивую. – Мать-игуменья увидела тебя и велела истопить баню. Поди к нам. Мы тебе сушек дадим. И чаю.
– Чай для отчаянных, – отозвалась с поклоном странница. – А которые Богу служат, те и со студеной водицей не тужат.
Молодая монахиня смутилась, но продолжала приветливо махать Ксении рукой. Юродивая заковыляла к ней.
На полдороге она обернулась и бросила Шувалову:
– Прощай, еретик.
– А спасибо не хочешь сказать? – осведомился граф.
Странница скорчила ему рожу, расставила ноги и шумно помочилась в канаву, даже не приседая.
Иван Иванович отвернулся.
– Что? Срамно? – ухмыльнулась баба. – Нос в сторону воротишь? Я-то хоть нечистоты из себя извергаю. А ты сам, по доброй воле, ими умываешься!
– Шла бы ты отсюда, болезная. – На душе у графа и без нее было ненастно.
На крыльце вновь появилась Нектария и пригласила Шувалова в дом.
– В пост щи пустые, зато пироги густые, – сказала она, усаживая гостя за стол.
Иван Иванович еще в предыдущие приезды понял, что игуменья разделяет простонародное убеждение: кто мало ест, тот несчастный. На этот раз он не стал отнекиваться и, проголодавшись с дороги, проглотил чуть не два десятка пирожков с грибами, рыбой и капустой. Нектария удовлетворенно кивала, точно кормила непутевое набегавшееся дитя. По возрасту она и правда годилась ему в матери. Впрочем, как и Лиз. Но Лиз никогда ни о ком не заботилась…
Граф вкратце рассказал историю Элен, опустив, однако, события минувшей ночи. Только заметил, что брат был страшно зол и поглумился над любовницей.
– Я видела, она вся избита, – кивнула настоятельница.
«Не избита, а захватана», – мысленно поправил Шувалов.
Нектария похлопала огрубевшей ладонью гостя по руке.
– Не беспокойся. Я за ней пригляжу.
Получив от игуменьи записки, Шувалов собрался в обратный путь. Кучер тоже был сыт и весел. Граф уже взялся рукой за дверь кареты, когда услышал за спиной сиплый окрик:
– Ванька!
Он вздрогнул и обернулся, не понимая, кому бы могло прийти в голову так грубо к нему обратиться?
Привалившись к стене бани, сидела давешняя юродивая, уже вымытая и в чистой рубахе. Ее глаза в упор смотрели на него.
– Уходи оттуда, Ванька, – требовательно повторила она. – Пока не поздно.
– А не поздно? – Граф дернул щекой.
– У Бога на всякое дело есть прощение. – Ксения подалась вперед. – И тебе простится. Если уйдешь. А не уйдешь, будешь гореть в вечном пламени. Ты ведь только мизинчик обжег, а уже маешься. Подумай, каково целиком-то будет?
Иван Иванович с минуту смотрел на юродивую совершенно серьезными глазами.
– У меня не хватит сил, – выговорил он. – Да и не отпустят меня.
– А ты их кротостью, Ванечка. Кротостью, – с неожиданным участием прошептала Ксения. – По Писанию ведь сила кротостью побеждается. У тебя ее много…
– Хоть с кашей ешь. – Граф вскочил в карету и махнул кучеру рукой. – Поспешай! Затемно в столице надо быть. – «Лиз рассердится», – мысленно добавил он.
– Да подождет твоя корова! – гаркнула ему в след юродивая. – Тут о душе надо думать, а он о блядках!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































