Текст книги "Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма"
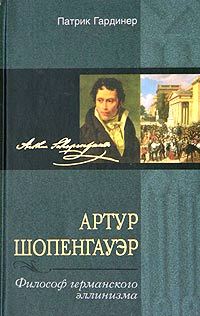
Автор книги: Патрик Гардинер
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Шопенгауэр и Витгенштейн
Отрывки, в которых Шопенгауэр обсуждает проявления моральной добродетели в поступках и характере, обладают напряжением, тонким чувством и, временами, любопытным поворотом мысли, так что только дословное цитирование может адекватно передать их смысл и обезоружить критиков. Более того, оказывается, что некоторые из его замечаний дают более реалистичную оценку природе многих моральных ситуаций и реакций людей на них, чем замечания многих философов, которые, то ли в интересах некоего теоретического материала, то ли по какой другой причине, рассматривают все моральные действия и решения, относя их к примерам универсальных максим и заповедей поведения: для обоснования вышесказанного совсем не обязательно обращаться к более крайним взглядам Шопенгауэра на роль правил в морали, которые выражены в его полемике против теории Канта.
Насколько сильно он действительно желал отстоять некоторые из предложенных им идей, остается неясным. Иногда кажется, что он подразумевает просто то, что поскольку возможно сформулировать и следовать общеморальным заповедям, при этом совсем необязательно признавать существование божественной воли, то такие заповеди не более чем систематизация нашей непосредственной или интуитивной реакции на отдельные ситуации, и исключительно они должны быть основой законности. В других случаях, несмотря на его явное разделение функций философа и моралиста, может показаться, что он выдвигает идеи близкие более определенной моральной точке зрения, в соответствии с которой хорошие поступки, совершенные спонтанно, должны оцениваться более высоко, чем любые другие, совершенные ради исполнения некоего абстрактного долга.
Однако, как бы то ни было, его общая точка зрения остается неизменной: согласно его теории, основной источник морального поведения остается в душе, в наивном, не проходившем никакого обучения, внутреннем бытии человека; и ни в коей мере невозможно внушить ни изнутри, ни извне искренние моральные чувства и отношения, выражающиеся в глубоком (даже, возможно, несформулированном) понимании внутренней природы вещей, причем это понимание необходимо отчетливо отличать от теоретических или специальных знаний, направляющих нас в нашем практическом повседневном соприкосновении с миром.
И этот взгляд, как и другие, ставит отношение Шопенгауэра к этическим вопросам в оппозицию ко всем общепринятым, «народным» теориям морали, то есть к таким теориям, которые подчеркивают социальную роль моральных устоев в гармонизации интересов и уделяют главное внимание предписывающим и регулирующим функциям моральных суждений, теориям, которые отдают приоритет прагматическим или утилитарным факторам при рассмотрении вопросов, относящихся к понятиям ответственности и вины.
Тем не менее, необходимо признать, что собственную формулировку Шопенгауэром его позиции также можно подвергнуть множеству критических возражений. Например, можно поспорить, что те проблемы, которые он обсуждает и решения которых предлагает, зачастую придуманы им самим. Так что одно дело – отрицать ту специфическую теорию, которую он ассоциирует с этикой Канта, в соответствии с которой «разум» представляется неким полубожественным законодателем или повелителем, или же как некая внутренняя движущая сила, противостоящая нашим желаниям и склонностям. И совсем другое дело – вызывать большие сомнения по поводу той роли, которую могут играть определенные знакомые формы разума для определения истинно морального поведения, и говорить о том, как будто общепринятые формы обучения морали, какими бы ни были их практические преимущества, скорее всего, неэффективны, когда речь идет о формировании и развитии «настоящего» характера человека.
Здесь, как мы видели, Шопенгауэр в значительной степени находится под влиянием своей теории размышления и роли «мотивов», а также своей метафизической теории «внутренней природы», которая определяет реакцию человека на разные типы побуждений. Более того, если отбросить те трудности, которые окружают эти конкретные доктрины, неужели действительно возникнет такое предположение, что представление, которое мы обычно имеем о себе как об отдельном индивидууме, должно неотвратимо и неизбежно складываться из эгоистичных действий? И что, например, разве возможно для человека бескорыстно помогать другому, если он не рассматривает себя как бытие, хотя и достаточно туманно «идентичное» другому человеку?
В действительности спорно, что подобные предположения сами по себе подразумевают веру в то, что только эгоизм, в конце концов, является эффективным источником поведения человека как морального, так и аморального, ввиду того что Шопенгауэр утверждает, что любовь к самому себе является основным решающим фактором даже в альтруистских и бескорыстных действиях, объясняя подобные действия с помощью метафизической схемы расширения понятия «я», охватывающего все человечество. И даже когда он объясняет проблемы с помощью своей собственной системы, тем не менее многие утверждения Шопенгауэра вызывают затруднения.
Например, возникает вопрос, каким образом можно понять волю, которая перед этим описывалась в бескомпромиссно нелицеприятных терминах и в то же время могла проявляться под видом личности, наделенной высокой моральной добродетелью, и иметь способность выходить за пределы всех индивидуалистических знаний. (Подобная сложность возникает при рассмотрении Шопенгауэровой теории гения в искусстве.) И далее, фактически остается таинственным все, что относится к вопросу связи между частной «волей» морально хорошего человека и «лучшим знанием» или пониманием, которым он обладает.
Сам Шопенгауэр открыто признает важность этих проблем, выражая надежду, что кто-то другой после него «прольет свет на эту темную бездну». Может показаться, что в его замечаниях по поводу морали имеется в виду определенный тип безгрешного характера, о котором можно сказать, что его даже невозможно вообразить, обладая повседневными мирскими этическими идеями. Поведение и реакция подобной личности будут брать начало из абсолютно иного понимания его отношения к другим людям, и, когда его поведение рассматривается с точки зрения общепринятых стандартов, оно может показаться крайне странным, даже донкихотским или абсурдным.
В то же время Шопенгауэр полагает, что, поскольку этика в своей основе рассматривает то, что лежит за пределами пространства и времени, за пределами форм феноменального представления, нет ничего удивительного в том, что в ней многое нельзя подвергнуть анализу, даже поверхностному; этика остается таинственной, по крайней мере, до тех пор, пока она непроницаема для нормального рационального понимания. Здесь Шопенгауэр напоминает о размышлении Левина в «Анне Карениной» Толстого о моральном поведении, которое нельзя объяснить и проанализировать «разумом», так как оно принадлежит тому, что лежит за пределами «цепочки причины и следствия», а также вне таких понятий, как следствие и вознаграждение. Об этом же, возможно, говорил и Витгенштейн.
Ранее мы уже упоминали, что произведения Шопенгауэра произвели сильное впечатление на молодого Витгенштейна, поэтому вполне уместно завершить эту главу, предложив несколько сравнений, хотя они неизбежно будут субъективными. Действительно, может показаться, что рассмотренный в целом «Трактат» имеет форму характерную для Шопенгауэра, где общая структура и границы, которые Шопенгауэр (следуя за Кантом) определяет как для повседневного, так и для научного размышления и знания, вновь появляются в работе Витгенштейна в качестве неизбежных ограничений на то, что является лингвистически выразимым[47]47
См.: Штениус Эрик. Wittgenstein's Tractatus (Трактат Витгенштейна). Особенно глава XI.
[Закрыть]. И несомненно, чтение записей, которые непосредственно предшествуют написанию «Трактата» Витгенштейном, делают очевидным, насколько глубоко проникли основные идеи Шопенгауэра в его мысли. Особенно эстетические доктрины Шопенгауэра и его видение человека как «микрокосма».
Так, Витгенштейн об искусстве и своем отношении к морали пишет следующее: «Произведения искусства – это объект, видимый с точки зрения sub specie aeternitatis; и хорошая жизнь – это мир, видимый sub specie aeternitatis. В этом заключается связь искусства с этикой. Обычно мы видим вещи как объекты среди объектов, а видение sub specie aeternitatis показывает вещи извне»[48]48
Notebooks 1914–1916 (Заметки 1914–1916).
[Закрыть]. Что же касается отношений «я» со всем миром, то здесь мы тоже находим некоторые результаты наблюдений, очень напоминающие результаты наблюдений Шопенгауэра; так, Витгенштейн замечает: «Есть только одна душа в мире, которую я для удобства назову своей душой, и только ее одну я понимаю как то, что я называю душой других». И позднее: «Это истина; человек – это микрокосм; я – это мой мир». И далее, когда в другом месте он обсуждает природу «волеющего субъекта» и пытается решить трудный вопрос: «почему люди всегда верили, что есть только один дух, общий для всего мира», он отвечает, по крайней мере, понимая, «что я тоже принадлежу всему остальному миру», причем в том смысле, что воля является общей для всего; но такая воля «в более широком смысле – моя воля», и что, «если мое представление – это мир, так же и моя воля – это мировая воля».
Что же касается «Трактата», то наиболее подвергнуты влиянию Шопенгауэра утверждения об этике и значении жизни, хотя и краткие, но имеющие глубокий смысл. Например, Витгенштейн называет этику «трансцендентальной» (в «Записках» – трансцендентной) и проводит различия между волей как «носительницей этического», о которой мы не можем говорить, и волей как «явлением», которая «представляет интерес только для психологии» (6.423). Это различие может напомнить нам теорию Шопенгауэра о различии между «умопостигаемым (интеллигибельным)» и «эмпирическим» характерами, и его настойчивое утверждение, что истинный источник природы человека находится в «акте воли», совершаемом независимо ни от пространственных, ни от временных факторов; хотя надо заметить, что, в то время как Шопенгауэр воспринимает феноменальную реальность, включая людей и их поведение, как непосредственное «внешнее» проявление «внутренней» воли, Витгенштейн (по крайней мере, в «Трактате») говорит о том, что все происходящее в мире никогда «не зависит от моей воли»: нет никакой «логической» связи между миром и волей, так что, «даже если все, что мы пожелаем, сбудется, – это будет, как говорится, судьбой (6.373–374). Госпожа Энскоум в своей книге о «Трактате» подчеркнула различие взглядов Витгенштейна и Шопенгауэра в этом вопросе и в то же время указала на связь между теорией Витгенштейна о «химерической» «воле», которая не оказывает влияния ни на что в мире, и его убеждением в том, что «хорошая воля и плохая… могут изменить только границы мира, но не реальность; не то, что может быть выражено посредством языка» (6.43)[49]49
An Introduction to Wittgenstein's Tractatus (Введение в «Трактат» Витгенштейна). 1959. Однако, как замечает госпожа Энскоум, в других местах «Записей в тетради» можно заметить и другую точку зрения, которая ближе к пониманию Шопенгауэром связи между волей и физическим поступком. Например, обсуждая вопрос, является ли воля отношением к миру, Витгенштейн пишет: «Очевидно, что невозможно проявлять волю без совершения акта воли. Акт воли – это не причина действия, а само действие. Нельзя выражать волю и при этом бездействовать». И далее он продолжает: «Желать – не значит действовать, а выражать волю – означает действовать… Суть в том, что если я выражаю волю, то совершаю поступки, а не в том, что я совершаю какие-либо поступки, которые являются причиной действия» («Заметки»).
[Закрыть]. Но в то же время, не отрицая вышесказанного, можно увидеть некоторое сходство мыслей Витгенштейна (когда он говорит, как было замечено выше, об изменении границ мира) и утверждения Шопенгауэра о том, что хороший человек понимает мир совершенно по-другому, чем эгоистичный индивидуум, «проникая за пелену представлений». И это предположение находит поддержку в непосредственном замечании Витгенштейна о том, что мир в таком случае должен полностью измениться, причем мир счастливого человека будет отличаться от мира несчастного человека. Как мы видели ранее, Шопенгауэр утверждает, что удовлетворение и спокойствие, которые очевидны в людях, отличают тех, у кого хороший характер, а отсутствие этих качеств свидетельствует о плохом характере. И в другом месте, где он рассуждает о всеобщем человеческом желании личного бессмертия и «лучшего мира», Шопенгауэр пишет, что большинство людей устроены так, что, в каком бы мире они ни находились, они никогда ни будут счастливы; таким образом, «…недостаточно одного лишь создания благоприятных условий для человека, чтобы он был перенесен в «лучший мир», необходима кардинальная перемена в нем самом… Быть перенесенным в другой мир и полностью изменить свою природу, по сути, одно и то же» (том III)[50]50
Также см. далее главу 7.
[Закрыть].
Дальнейшее сходство, также имеющее отношение к тому, что было только что сказано, замечено в идеях Витгенштейна о «смысле жизни», причем эти замечания впоследствии стали предметом различных интерпретаций комментаторов. Особенно мне запомнилось его утверждение, что «решение загадки о жизни в пространстве и времени лежит вне пространства и времени. (Конечно, не естественные науки должны решать эту проблему.)» (6.431–432, а также то, что он говорит далее, – 6.521–522):
«Решение проблемы жизни заключается в исчезновении этой проблемы.
(Разве это не причина тому, почему люди, к которым после долгих сомнений приходит понимание смысла жизни, не могут сказать, в чем этот смысл заключается?)
Это действительно невыразимо. Понимание этого являет себя; это нечто мистическое».
Далее, как было замечено ранее, Шопенгауэр проводит связь между неким внутренним пониманием (интуицией), проявляющимся в морально хороших поступках, и типом понимания, которое относится к «мистицизму». Посредством противопоставления его всем научным или повседневным знаниям он также допускает, что человек, владеющий подобным внутренним пониманием (интуицией), не всегда может сформулировать его теоретически, оно просто проявится в его поступках и чувствах. И это, можно сказать, представляет собой явную параллель с цитатами из Витгенштейна. Однако есть и заметное различие, так как для Витгенштейна этика (как нечто мистическое) всегда остается за пределами четкого вразумительного объяснения; таким образом, то, что можно выразить лингвистически, ни в коем случае не может быть истинным. Может существовать «правильное видение мира», но оно не может быть передано с помощью языка: «wovon man nicht sprechen kann, daruber muss man schweigen». С другой стороны, вряд ли можно сказать, что Шопенгауэр считал важным затруднение, с которым встречается человек, пытаясь объяснить и охарактеризовать свое внутреннее понимание морали, поскольку он сам пытался найти подобное объяснение и в конце концов нашел его, хотя объяснение его не совсем точно и полно.
Исходя из этого оказывается, что для него границы всех форм дискурсивного знания и мышления должны изначально проходить не здесь, а где-то еще. Этика имеет границы, и, только когда мы достигаем последней ступени системы Шопенгауэра, мы достигаем того предела, который Витгенштейн установил намного раньше. Конечно, эта теория «неплодотворна для этики»: то есть не теоретическое размышление заставляет человека поступать хорошо; он должен, так сказать, «чувствовать» изнутри (интуитивно), какое поведение считается хорошим. Оно также плодотворно в том смысле, что словесные формулировки и законы, как бы их ни внушали, бессильны сделать человека лучше.
Но нельзя сказать, что то, что понимают «интуитивно» и воспринимают в глубине морального сознания, не может иметь теоретического выражения. И все же в целом Шопенгауэр намекает, что в определенной степени это возможно. И тем не менее, Шопенгауэр не всегда последователен в своих рассуждениях, и можно найти отрывки, где он выражает другую точку зрения.
Так, в одном месте он пишет (том I), как будто знание, от которого происходит добродетель, не может быть выражено ни на одном языке: «просто потому, что оно не может быть извлечено и его нельзя высказать, а оно должно возникать в каждом»; оно находит свое истинное выражение «не в словах, а только в поступках, в поведении, в самой жизни человека». Далее, в более позднем сочинении[51]51
См.: Essays (Эссе).
[Закрыть], он начинает с утверждения, что морально хорошее сознание находится вне «теоретических рассуждений», и продолжает оспаривать: «Мы не можем ничего утверждать по поводу человека, который обладает таким сознанием, так как если бы рассуждали о таком человеке, то оказались бы в царстве разума; а поскольку мы вообще можем говорить только о том, что имеет место в этом царстве, то мы можем говорить о лучшем сознании, используя только отрицательные понятия».
Если все это соединить с определением, которое в этом контексте он дает «теоретическому размышлению» как единственному источнику, из которого происходит мое знание, то есть весь мир опыта, то на память приходит этическая доктрина «Трактата», которая, несомненно, является поразительной.
Глава 7
О мистическом
Принимая во внимание рассуждения, приведенные в конце предыдущей главы, возвратимся к проблеме, с которой начинается философская система Шопенгауэра и, в некотором смысле, заканчивается. Лежащая в ее основании картина мира, на основе которой он описывает жизнь человека, такова, что человек в ней представлен пленником, подобным птице в клетке. Это становится очевидным, когда он говорит о человеческой природе в двух ее аспектах – познавательном и практическом. С точки зрения познания мы ограничены его формами, обусловленными «пониманием и разумом», и попытки выйти за эти границы, выдвигая доводы априорного или рационалистического знания («догматическая метафизика»), приводят к полному отрицанию ограничений, которые в действительности присущи нашему пониманию мира.
C практической стороны мы ограничены законами, формирующими нашу сущность, как созданий «воли», как всех людей в целом, так и каждого человека в отдельности, и попытки отрицать это, апеллируя, например, к сомнительному интроспективному сознанию эмпирической свободы выбора, тоже приводят к значительным недоразумениям. Более того, два типа ограничений тесно связаны между собой; как наши возможности постижения и размышления о нашем опыте, так и то, как мы проживаем нашу жизнь и относимся друг к другу, оба они происходят из одного источника – из единой всепроникающей метафизической воли. Мы, как проявление воли, создаем (так сказать) «свой мир», который является нам в соответствии с формами, определенными principium individuations. Это объясняется тем, что мы осознаем этот мир именно в тех формах, которые приспосабливаем к власти воли в наших поступках и мыслях.
Возможно ли освобождение из этого плена, и если да, то как? Эту особенность своей философии, которая сразу же подверглась критике, Шопенгауэр развил таким образом, что, изначально преградив (как казалось) все возможные пути отступления, он постепенно сближает те глубокие расхождения, которые ранее были непреодолимыми препятствиями. Что первоначально казалось неизменной и жесткой границей, строго очерчивающей пределы всего человеческого знания, постепенно разрушается, где речь идет о самых важных моментах под давлением ряда радикальных антитез, причем они проявляются снова и снова на различных уровнях его системы: например, антитеза между абстрактным и интуитивно конкретным пониманием; между «разумом» (обладающим дедуктивными способностями и умением делать выводы) и «интуицией» или «мудростью»; между повседневным, практически ориентированным восприятием и созерцанием «без-воли»; между научным «понятием» и «Идеей» искусства; наконец, между теоретическим знанием, которое развивается в соответствии с законами или правилами, которые можно сформулировать и транслировать, и недискурсивным, или «непосредственным», знанием, которое возникает из внутреннего убеждения и «чувства» и на котором основывается этика.
И действительно, можно было бы думать, что своим объяснением «моральных добродетелей» Шопенгауэр исчерпал значение своей философии, насколько это касается обсуждаемой проблемы. Это, однако, не так, в процессе освобождения от оков, ограничивающих нас, существует еще одна стадия, которую необходимо рассмотреть.
Проникновение principium individuationis, который проявляется в различной степени в мировоззрении и поведении справедливого человека и человека, который не проявляет искреннего милосердия и сострадания, находит полное и окончательное выражение в том, что Шопенгауэр называет «отрицанием воли к жизни». Это проникновение осуществляется посредством «перехода» от моральной добродетели к аскетизму, так как нравственный человек, наблюдая сквозь призму principium individuationis бесконечные страдания других живых существ, принимает их как свои; он признает во всех существах «себя, находящегося глубоко внутри, сокровенного и истинного», в результате чужие страдания «так же близки ему, как собственная личность близка эгоисту»; поэтому он изо всех сил пытается облегчить боль всех окружающих.
Но следующая стадия наступает, когда это знание, которое добродетельный человек имеет «в целом» об истинной природе мира, становится «самым смиренным из всех проявлений воли» и когда сама мысль об утверждении жизни любым способом становится, по сути, неприемлемой. «Воля теперь отворачивается от жизни» и «в ужасе бежит от желаний, которые свидетельствуют об утверждении жизни». Таким образом, получается, что человек может достичь состояния, о котором идет речь, как предполагаемое «добровольное отречение, покорность судьбе, истинное самообладание и полное безволие» (том I).
Шопенгауэр утверждает, что для человека, чья воля таким образом превратилась в противоположность и «отреклась от собственной природы», больше недостаточно любить других и делать для них столько, сколько он делал бы для себя; он так глубоко овладевает пониманием своего собственного существования, которое является особенным проявлением той действительности, которую представляет феноменальный мир в целом, со всеми грехами и бедами, что жертва, которую он приносит, лишая себя удовольствий или имущества, больше не кажется ему имеющей ценность просто как средство для уменьшения лишений окружающих его людей. Напротив, она становится для него целью, чем-то желательным само по себе.
Однако нельзя сказать, что приверженность моральным добродетелям – справедливости и, более того, милосердию – не способствовала бы окончательному превращению воли, проявляющемуся в аскетическом образе жизни, поскольку тот, кто постоянно отказывается от удовлетворения своих потребностей и личного благополучия ради других, отождествляя себя с ними, вследствие этого куда более остро осознает природу человеческого состояния вообще, тщету всего существования. И в то же время он теряет интерес к мимолетным желаниям жизни из-за жертв, которые вынужден приносить постоянно; можно сказать, что «справедливость – это власяница, которая лишь изнуряет того, кто ее носит, а милосердие, отдающее все до последнего, ведет к постоянным постам» (том III).
Фактически, нет необходимости предполагать, что аскетизм, который в глазах Шопенгауэра отличает «святого» человека от просто добродетельного, должен принимать крайнюю форму умышленного стремления к страданиям или отвратительным видам самоумерщвления, как это иногда предполагается (там же). Безбрачие, добровольная бедность, воздержание от всех мирских благ и смирение, присущее святым, – этого достаточно для того, чтобы достичь того состояния, в котором люди «как бы освобождаются от себя». В отрывках, которые временами напоминают руку Спинозы (начало эссе Спинозы «Трактат об усовершенствовании разума» упомянуто с одобрением), Шопенгауэр описывает состояние человека, у которого «буря страстей» наконец утихла и чья воля успокоилась не просто временно – как бывает в наслаждении эстетическим опытом – а «навсегда»: «Ничто больше не может тревожить или беспокоить его, ничто не может привести его в движение, поскольку он порвал все тысячи нитей желаний, которые связывают нас с миром и которые, подобно влечению, страху, зависти и гневу, движут нами время от времени и постоянно причиняют нам боль. Теперь он оглядывается назад, спокойный и улыбающийся, глядя на иллюзии этого мира, которые когда-то были способны побуждать и мучить даже его разум, но которые теперь безразличны ему, как шахматные фигуры после окончания игры или как сброшенный утром после карнавала маскарадный костюм, который дразнил и волновал нас в карнавальную ночь. Жизнь и ее формы теперь для него – мимолетное явление, как легкая утренняя мечта в полудреме, сквозь которую уже сияет действительность и которая больше не может обманывать; и подобно такой утренней мечте жизнь и ее формы также без какого-либо видимого перехода наконец исчезают» (том I).
Шопенгауэр предвидит два возражения против сказанного. Первое касается вопроса о том, как явление, изображенное им, вообще может происходить, учитывая его доктрину неизменного человеческого характера, всегда раскрывающегося предсказуемым способом в ответ на мотивы, которыми он движим, так как, говоря о превращении воли и ее отрицании собственной природы, может показаться, что Шопенгауэр подразумевает, будто человек может, благодаря своей собственной сознательной воле, изменить свой характер и склонности. У Шопенгауэра уже и ранее возникали трудности, когда он пытался показать, что такая возможность исключена. Однако, говоря о самоотречении и аскетизме, он утверждает, что мы сталкиваемся с «совершенно исключительным случаем», в котором «свобода» (которая принадлежит исключительно сфере «необусловленной» вещи в себе) может непосредственно проявляться как явление, заканчивающееся «противоречием феномена с самим собой» (том I).
Тем не менее он поясняет, что, несмотря на это, мы не вправе делать вывод, что самоотречение в первую очередь происходит от сознательного или преднамеренного акта выбора (в том смысле, как его понимали традиционные сторонники доктрины свободной воли, говоря о свободной воле). Выбор изменения нашего характера в целом не более эффективен, чем выбор совершенно определенных поступков, которые не соответствуют нашему характеру. Невозможно описать в традиционных терминах, как преобразуется индивидуальность человека и воля, о которых идет речь и которые ведут его к отказу от его прежних желаний и от привычного для него образа жизни.
Происходящее, скорее всего, можно описать как нечто «случающееся» с ним, нечто такое, что «внезапно появляется и моментально проникает извне» и способствует «трансцендентальному изменению» всего его бытия, которое в то же время абсолютно неотделимо от достижения того глубокого видения внутренней природы мира, на которое Шопенгауэр постоянно обращает особое внимание. То, что он имеет здесь в виду, кажется, в некотором роде сродни явлению, обозначенному понятием конверсии: тем, кто находит ее таинственной, можно ответить, цитируя Мальбранша: «La liberte est un mystere» – свобода есть тайна. В любом случае, он считает, что это было знакомо христианским мистикам, которые использовали такие выражения, как «благодать» и «возрождение», для выражения идей, по существу, подобных выдвинутым здесь.
Другое возражение, которое обсуждает Шопенгауэр, имеет отношение к той проблеме, что, если бы человек верил, что жизнь и мир так нестерпимо ужасны, как их видит Шопенгауэр, наиболее эффективным средством спасения для него было бы самоубийство. Однако можно утверждать, что это предположение абсолютно ошибочно. Прежде всего, обычно к самоубийству человека побуждает просто желание избежать личных горестей, которые преподносит ему жизнь; это, таким образом, очевидное выражение утверждения его воли, а не ее отрицания: «самоубийство проявляет волю к жизни, и человек просто неудовлетворен условиями, в которых протекает его жизнь» (том I), и, если бы эти условия были изменены в его интересах, он не стал бы думать о том, чтобы покончить с собой.
В таком случае, можно сказать, что утверждение воли так же присутствует в самоубийстве, как и в поступках, направленных на самосохранение или удовлетворение сексуального желания; хотя это не значит, что всегда оправданно называть самоубийство преступлением или же грехом в обычном значении этого слова. В своем эссе «О самоубийстве» Шопенгауэр осуждает «вульгарный фанатизм в Англии», который потворствовал постыдным похоронам самоубийц и конфискации их имущества. Он требует, чтобы «христианское духовенство» «объяснило, какое они имеют право входить на кафедру проповедника или браться за перо, называя преступлением поступок, совершаемый многими людьми, к которым мы расположены и которых мы чтим»: даже запрет никого не сможет удержать от совершения этого поступка, ведь «какое наказание может испугать человека, который не боится самой смерти?».
Все же, если самоубийство – не преступление, это, тем не менее, ошибка, предлагающая реальное избавление, которое оказывается лишь кажущимся. Это видно из различия между нами, когда понимаем себя феноменальными существами с эмпирической точки зрения и когда мы понимаем себя как метафизическую волю с точки зрения нашей истинной природы: то есть, убивая себя, самоубийца приводит к концу свое существование как эмпирического индивидуума, как специфический феномен воли, и таким образом уничтожает свое индивидуальное сознание, «которое связано с индивидуальным телом» (том I). Но из этого ни в коем случае не следует, что он уничтожает свою метафизическую сущность, так как она лежит «вне времени» и, следовательно, не может быть уничтожена никаким действием, предпринятым против феноменального и поэтому временного воплощения ее природы.
Каждый индивидуум «мимолетен только как явление»; расцененная как «вещь в себе», наша природа «вечна» в том смысле, что к ней нельзя обоснованно применить временные предикаты (том I). Шопенгауэр считает, что подобные доводы можно использовать в отношении проблемы личного бессмертия. Люди склонны видеть в смерти конец себя, и, с одной стороны, это правильно. Смерть – «временный конец временного явления», и вера в продолжение существования после смерти или надежда на вечную жизнь человека, каким он знает себя сейчас, с индивидуальным сознанием, которое есть у него сейчас, не больше чем иллюзия.
Может, это и не так, если бы кто-нибудь мог провести эксперимент – умереть, чтобы понять, что происходит после смерти; но такой эксперимент был бы «некорректным», уничтожающим идентичность самого сознания, которое, как предполагается, должно продолжать дальнейшее существование, если мы узнаем ответ («Parerga», II). По этим же причинам абсурдно бояться личного исчезновения, как если бы это было «злом», которое мы испытываем, когда мы мертвы; поскольку это будет означать, что мы признаем сохранение неким способом своей эмпирической индивидуальности и сознания того, что мы потеряли то, что невозможно потерять.
«Потерять то, чье отсутствие нельзя ощутить, не является злом», и в этом смысле Эпикур был прав, говоря, что «смерть не имеет к нам отношения». (Та же мысль лежит в основе замечания Витгенштейна в «Трактате» о том, что смерть – не «событие жизни», а что-то, что мы не можем ощутить и почувствовать при жизни.) В этом случае Шопенгауэр даже не пытается отрицать, что простого созерцания мысли о том, что в будущем он прекратит существовать, достаточно, чтобы вселить в человека отвращение. Так как жизнь является специфическим выражением воли к жизни, он, естественно, желает продолжительности его феноменального существования в бесконечности. Может ли быть предложено какое-либо утешение человеку, который, несмотря на очевидные ужасы и бедствия человеческой жизни, все еще утверждает ее? Можно было бы подумать, что Шопенгауэр в этом случае предложит теорию «интеллигибельного» характера, как противопоставление «эмпирическому», которая так важна в его этической теории. Однако он этого не делает, возможно, потому, что предусмотрел трудности, которые могли бы возникнуть при рассмотрении проблем индивидуализации и идентификации, когда все нормальные, то есть феноменальные критерии исключаются ex hypothesi как неподходящие (через некоторое время мы продолжим эту тему).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































