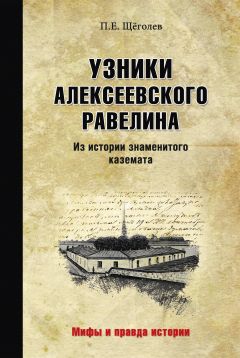
Автор книги: Павел Щеголев
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Решение было принято. Бейдеман перешел шведскую границу. Орудия восстания и цареубийства были при нем: манифест от имени Константина Первого и пистолет с испорченным замком. Мы отмечали своеобразный подход к пропаганде народного восстания: народ должен восстать во имя царя и по призыву подложного манифеста. В истории революционных движений этот метод обманной пропаганды, как известно, не давал годных результатов и был негодным оружием. Восстанавливая по клочкам манифест, мы вряд ли ошибемся, указав на влияние статьи Огарева в № 59 «Колокола» от 1 января 1861 года «На новый год». Бейдеман проектировал в манифесте установление областного самоуправления; Огарев как раз и развивал тему разделения России по областям. Любопытно, что, перечисляя титулы императора Константина Первого, Бейдеман придерживался областных границ, очерченных Огаревым: так, у него вслед за Огаревым явилась область Беломорская, Белорусская, Заднепровская, Закавказская и т. д.
Пистолет тоже оказался негодным оружием и не сослужил пользы Бейдеману. Через полтора года заключения Бейдеман заявил, что он оговорил себя в замысле на цареубийство, но он так часто и так подробно в своих признаниях развивал возможные мотивы цареубийства, что у нас не остается сомнений, что мысль о цареубийстве владела им и была на грани ее воплощения, с трудом сознаваемой самим Бейдеманом.
Остальное нам известно. Планы Бейдемана потерпели полное крушение, и когда он очутился в Алексеевском равелине с клочками манифеста царя Константина, ему оставалось одно – не опустить своего взора перед чудовищем, которое он собирался сразить, и утвердить свое революционное я в дерзком и смелом заявлении своих мыслей и замыслов. Одно удовлетворение было достижимо для него: сказать всю правду, назвать сановных грабителей России настоящими именами, бросить в лицо могущественному врагу неслыханные оскорбления! Этого удовлетворения Бейдеман добился, но какой ценой?..
11
Мы знаем все объяснения, написанные Бейдеманом в Алексеевском равелине в течение полуторалетнего заключения. С резкой определенностью он отстаивал перед тюремщиками свое революционное право на восстание и на цареубийство; правда, в последнем заявлении – письме к царю – он отрицался от последнего замысла, но сохранил ту же независимость тона и суждений. Все это время он ждал суда, готовился к нему, все посылал записки и объяснения, боясь, как бы его намерения не подверглись неверному истолкованию. Но как раз ставить Бейдемана на суд не хотели ни III Отделение во главе с своим шефом, ни сам Александр II. Мы уже указывали на некоторые колебания царя в деле Бейдемана. 2 ноября князь Долгоруков записал на памятном листке, что «Государь Император высочайше повелеть соизволил поручика Михаила Бейдемана оставить в Алексеевском равелине впредь до особого распоряжения». В декабре III Отделение занялось рассмотрением вопроса о судьбе Бейдемана при наличности такого повеления. Сохранилась не получившая движения записка – удивительный образец иезуитизма. Содержание ее непередаваемо, и она должна быть воспроизведена полностью. Мы просим читателя вдуматься в эту записку.
«Находясь уже в Алексеевском равелине, Бейдеман в собственноручной записке высказал свой преступный образ мыслей и открыл при этом бывший у него умысел на цареубийство с целью ниспровергнуть настоящий образ правления в России.
Обнаружение этого, без всяких посторонних побудительных причин к тому, без всяких обстоятельств, вызывавших его на такую откровенность, ожесточение, с каким он излагал свои мысли по этому предмету, – все это доказывает раздраженное состояние его души, свидетельствующее в некоторой степени ненормальность умственных его способностей. Состояние это, с оставлением его в крепостном заключении, едва ли может измениться к лучшему и, вероятно, будет иметь следствием умопомешательство.
Для предупреждения этого и в видах законности, равным образом и для предупреждения нарекания со стороны общества, требующего во всем законного и гласного направления дел и осуждающего обыкновенно административные меры правительства, – хотя бы они были, как чаще случается, с пользою для лиц, против которых меры сии принимаются, – желательно было бы, чтобы Бейдеман предан был законному суду, которого он и сам просит. Суд неминуемо приговорит его к тяжкому наказанию, тем более что он не показывает ни малейшего раскаяния; это также признак ненормального состояния ума, но как бы строг ни был судебный приговор, наказание, определенное судом, ограничивается известным сроком, в продолжение коего преступник побуждается заслужить своим добрым поведением облегчение участи, не лишается надежды в будущем и имеет цель жизни; тогда как в заключении на неопределенный срок безнадежность может довести до отчаяния и в Бейдемане непременно увеличит ожесточение.
При этом представляется вопрос – сколько времени предполагается содержать Бейдемана в заключении и как поступить с ним, если после нескольких лет Государю Императору угодно будет обратить на него свое милосердие? Бейдеман еще очень молод, чрез 10 лет он не достигнет еще вполне того возраста, в котором рассудок в состоянии будет взять верх над его заблуждениями и увлечениями, а между тем десятилетнее заключение усилит в нем еще более раздражение, и в таком положении души он не в состоянии будет оценить снисхождения, как это доказал теперь Бакунин [Бакунин был освобожден из Шлиссельбургской крепости в 1857 году. Приблизительно в то время, когда писалась эта записка, Бакунин, окончательно оценив снисхождение правительства, совершал побег из Сибири]».
Извольте понять из этой записки, что же предлагает III Отделение? Заключение на неопределенный срок, как ожесточающее Бейдемана, не отвечает цели, но наказание по суду ограничивается определенным сроком. Но ведь и чрез 10 лет Бейдеман будет еще очень молод и вряд ли исправится, а кроме того, десятилетнее заключение усилит в нем еще более раздражение и т. д., и т. д. Без какой-то тягостной тоски нельзя вдумываться в резоны, выставляемые этой запиской.
Никаких новых фактических объяснений от Бейдемана более не последовало. Никаких разысканий по делу Бейдемана III Отделение не делало ни в течение первого полуторалетнего периода его заключения, ни впоследствии. Он сам себе был и нож и рана. Никакого следствия по его делу не велось, никакого суда не было. Его судьба была решена уже помянутым нами листком для памяти, на котором записано 2 ноября 1861 года изящнейшим канцелярским почерком высочайшее повеление об оставлении Бейдемана в Алексеевском равелине впредь до особого распоряжения и скреплено аккуратно кругловатой подписью князя Долгорукова.
Особого распоряжения при жизни Александра I по делу Бейдемана не последовало.
12
С момента заключения в равелин Бейдеман оставался единственным узником в течение полутора месяцев, а затем равелин наполнился заключенными и не пустовал в 1861–1866 годах. За этот период в равелине побывали лица, отделавшиеся легко и вышедшие на волю. Бейдеман, который сидел в величайшем секрете, втайне от всех, без переписки и свиданий, нашел возможность передать через одного из выпущенных, что он «умоляет родных хлопотать об его освобождении, для избавления его от сумасшествия, что пусть лучше сошлют его в солдаты или даже в каторжную работу – лишь бы выпустили на свет божий». Такие вести от Бейдемана пришли осенью 1864 года. От имени сестры Бейдемана Виктории Степановны Степановой была составлена докладная записка следующего содержания:
«Поручик Драгунского Военного ордена полка Михаил Степанов Бейдеман, три года тому назад без вести пропавший, оказался содержащимся в С.-Петербургской крепости. Мать его в сентябре минувшего 1863 года умерла на пути из Бессарабии в Крым для испрошения у Государя Императора помилования ее сыну. Тетка Бейдемана Феодосия Яковлевна [она была матерью художника А.Е. Бейдемана] до сих пор не смела обратиться с просьбою о помиловании его, пока не прибыла сюда из Бессарабии родная сестра его Виктория, которая, по братской любви, надеется, что брат ее Михаил обратится к полному раскаянию в своем проступке. Сестра заключенного в крепости Бейдемана Виктория, уверенная в благодушии Вашего Сиятельства, осмеливается испрашивать единственной милости – дозволить навещать Бейдемана в его заточении».
Эту записку профессор Николаевской академии Генерального штаба Н.П. Глиноецкий, находившийся в родстве с Бейдеманом, передал генералу Петру Кононовичу Менькову и просил его похлопотать за Бейдемана у Н.В. Мезенцева. Из письма Глиноецкого процитированы нами переданные на волю мольбы Бейдемана. Препровождая записку сестры вместе с письмом Глиноецкого, П.К. Меньков писал 5 ноября 1864 года Н.В. Мезенцеву:
«Приветствую тебя, мой добрый друг Николай Владимирович! Зная готовность твою на все доброе и честное, я обращаюсь к тебе с покорнейшею просьбою, буде возможно, помочь несчастной семье, жалобы коей изложены в прилагаемой у сего записке. Генерального штаба полковник Глиноецкий, профессор Николаевской академии, в письме своем просит за родственника своего. Понятно, что, являясь посредником в этом деле, я знаю только полковника Глиноецкого как отличного и во всех отношениях надежного офицера и ничего не ведаю ни о его семье, ни о родственниках. Мать несчастного Бейдемана умерла с горя и лишений.
Пожалуйста, друг мой Николай Владимирович, сделай возможное для несчастных, насколько допускают долг и человечность. Уведоми меня несколькими словами».
Единственной милости – дозволить навещать Бейдемана в его заточении – просила сестра. Сделать возможное для несчастных родных, насколько допускают долг и человечность, просил Меньков.
Просьба родных с приложением всех документов была доложена князю Долгорукову. Князь надписал 14 ноября 1864 года на записочке: «Доложено Е. В-ву, что просительнице дан ответ неимением возможности сказать ей что-либо о ее брате. Принять это за правило и на будущее время. Оно передано мною ген. – лейт. Сорокину (коменданту крепости)»… Биться головой об стену, вымаливать хоть одно слово о брате и услышать: нет возможности сказать что-либо…
Волна горючих слез разбилась о хладную и безмолвную скалу III Отделения…
Еще один запрос был сделан о Бейдемане. В № 201 от 1 августа 1865 года «Колокол» спрашивал: «Правда ли, что русский офицер Бейдеман, принимавший участие в итальянской войне и выданный австрийцами в Россию, с тех пор, т. е. третий год, содержится в каземате, без суда, следствия и, стало быть, приговора». [Это единственное сообщение Герцена о Бейдемане. Ошибки, сделанные в нем (выдача австрийцами, содержится третий год и т. д.), представляются нам нарочитыми из соображений осторожности. Понятно, что Герцен не мог говорить о каких-либо своих отношениях к Бейдеману. Осторожностью объясняется и полнейшее отсутствие каких-либо упоминаний о Бейдемане в сочинениях и письмах Герцена. Весть о Бейдемане дошла до Герцена, очевидно, от тех освобожденных из равелина, которые могли войти в сношения с Бейдеманом.] Разумеется, III Отделение не снизошло до ответа.
Бейдеман был забыт в Алексеевском равелине. Нет, не забыт. Каждый месяц, 1-го числа, комендант крепости представлял царю рапорт, нарисованный изящнейшим канцелярским почерком: «Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше представляю при сем список лицам, содержащимся в Алексеевском равелине С.-Петербургской крепости за январь, февраль и т. д. месяц». В списке были графы: кто именно, с какого времени содержится, по чьему повелению, № камеры. В графе «По чьему повелению» неизменно писалось «По высочайшему повелению». И каждый месяц царь смотрел эти доклады, ставил на них знак рассмотрения и сдавал для секретного хранения в III Отделение. В течение многих лет, когда Бейдеман был один в равелине, комендант писал в докладе, что он представляет список лицу. Значит, Бейдеман не был забыт… По меньшей мере, двенадцать раз в год вспоминал царь об узнике, заключенном по его высочайшему повелению…
13
Глубокое молчание хранят листы архивного дела о втором периоде заключения Бейдемана. Пропал человек без вести, забыт, забыт!
Два раза могильную тишину равелина прорезали вопли Бейдемана.
18 октября 1868 года из равелина до дворца донеслось «всеподданнейшее» прошение:
«Великий Государь.
В надежде, что Ваше Величество удостоите внимания эти строки, которые я решился написать после долгого обсуждения моего настоящего положения, я беру на себя смелость прежде всего уверить Ваше Величество, что побуждением к этому странному с моей стороны поступку – после всего того, что произошло в те семь лет, которые я провел в уединении Алексеевского равелина, – никак не желание переменить так или иначе мою настоящую обстановку на другую, – худшую или лучшую – это решительно все равно, но искренний шаг гражданина, которому то бесполезное бездействие, на которое я обречен в настоящее время, кажется в одно и то же время и лишним и предосудительным с моей стороны, если бы я не употребил того единственно честного средства, которое остается у меня, для того, чтобы выйти из него с чистою совестью и спокойным сознанием. Если бы я хоть на минуту мог сомневаться, что то, что я решил в настоящую минуту, есть презренная сделка со своими убеждениями, то, Ваше Величество, можете быть уверены, что я никогда не осмелился бы утруждать Вас этим письмом, продиктованным мне искренним чувством и написанным без всякой задней мысли. Я никогда не перестану настаивать на неизменности своих прежних политических убеждений, которые, как я осмеливаюсь думать, небезызвестны Вашему Величеству и которые я никогда не старался ни перед кем скрывать, хотя, может быть, их и не следовало выражать в такой резкой и вызывающей форме. В этой излишней и подчас не извинительной резкости, особенно в тех местах, где дело шло об интересах Вашего Величества – как монарха и человека, – я приношу искреннее раскаяние и глубокое сожаление, тем более что высокоспокойное благородство души Вашего Величества стоит выше всяких сарказмов, всяких запальчивых выходок. Припоминая теперь все прошлое, я как человек не могу не чувствовать глубокого угрызения совести при мысли того, что я мог когда-нибудь написать такие вещи, которые могли бы зародить в Вашем прекрасном и благородном сердце чувство презрительного недоумения. Ставя себя на место Вашего Величества, я не могу не удивляться Вашему высокочеловеческому долготерпению; не могу не благоговеть перед этою спокойною твердостью; не могу не уважать глубоко ту нравственную стойкость, свободную от всяких страстей. Я не умею говорить комплиментов и не хочу никому льстить, поэтому то, что написано сейчас мною, Ваше Величество может принять не как излияние верноподданнических чувств, а как выражение чувств гражданина, которому не чуждо понимание нравственной красоты и высоких человеческих достоинств и которому поэтому страшно тяжело подумать, что он мог когда-нибудь слепо оскорблять и эту красоту, и эти достоинства, и каков бы ни был результат этого послания, Ваше Величество, можете быть уверены, что я навсегда сохраню эти чувства. Но оставаясь безусловно при своих прежних политических верованиях и надеждах, я в то же время, оставляя в стороне пустое самолюбие, глубоко убежден и в том, что всякому человеку свойственно ошибаться – особенно в сфере политических и государственных вопросов; а потому я и не настаиваю на непреложности и безошибочности тех предположений, которые, как я осмеливаюсь думать, также небезызвестны Вашему Величеству, и предоставляю времени уяснить и пользу и уместность этих предположений в настоящее время; все, что я желаю теперь, – это убедить Ваше Величество, что с того дня, когда все прошлое будет предано полному забвению, – условие, по моему мнению совершенно необходимое и неизбежное, – Вы найдете во мне искреннего и непритворно преданного гражданина, который никогда не позабудет добра и никогда не вспомнит того, что было скорбного и тяжелого.
Вашего Величества верноподданный
18 октября 1868 года.М. Бейдеман.А.Р.».
Ответа не последовало. Мера унижения еще не была выполнена. Прошло восемь месяцев, и Бейдеман решился еще раз напомнить о себе «всеподданнейшим» прошением.
«Великий Государь!
Прошло около восьми лет с тех пор, когда я, заарестованный в Финляндии, как беспаспортный бродяга, был наконец привезен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, как важный политический преступник, имевший самые преступные замыслы против особы Вашего Величества, против безопасности граждан и против спокойствия государства. На первых порах я действительно каждым своим шагом только подтверждал свое первоначальное письменное показание, исполненное необыкновенной резкости и непростительной заносчивости в выражениях о таких предметах, которые должны быть дороги и священны для мало-мальски хорошего подданного, – а потому и должен был окончательно поколебать всякое сомнение насчет характера и свойства своей личности. Признаюсь Вашему Величеству, что я никак не ожидал такой снисходительности к себе – после всего того, что было сказано и написано мною, в продолжение первого времени моего пребывания в Алексеевском равелине, и как я ни был глубоко убежден в благородстве и доброте Вашего Величества, все-таки не мог ожидать такого, поистине ангельского, долготерпения с Вашей стороны, но прошлого не воротишь, – и мне остается только всею будущею жизнью стараться искупить свои прошлые грехи и оказаться достойным того высокоблагородного самообладания, которым Ваше Величество ответили на все те вызывающие, недостойные ни честного человека, ни честного гражданина выходки, при воспоминании о которых я не могу не чувствовать самое глубокое угрызение совести и самое искреннее раскаяние. Было бы слишком дерзко с моей стороны, если бы я постарался хоть чем-нибудь оправдать или объяснить свое прошлое поведение в отношении к Вашему Величеству, да этого я и не желаю – это было бы ниже меня и моих убеждений о человеческих заблуждениях и ошибках; к тому же это значило бы поднимать на ноги то прошлое, от которого я не могу не отворачиваться всем своим существом – с негодованием и презрением. Но если нельзя окончательно истребить из своей памяти прошлый позор, то можно и должно подумать о своем будущем, которым я имею возможность – хотя отчасти – загладить это прошлое, а потому я и осмеливаюсь просить Ваше Величество, чтобы оно позволило мне посвятить всю свою будущую жизнь на верное и безрасчетное служение Вашему Величеству – на преданную и неизменную деятельность в интересах Вашей власти и Вашей славы; и могу уверить Ваше Величество, что, как бы ни сложились обстоятельства в будущем, я никогда не заслужу упрека ни в неблагодарности, ни в измене своим уверениям и обещаниям, данным в такую минуту, когда вся моя будущность вполне зависит от доброй воли Вашего Величества.
Вашего Императорского Величества верноподданный
Михаил Бейдеман8 июля 1869 г. А. Р.».
Эта мольба, этот вопль бесконечно несчастного человека, схороненный в пожелтелых листах архивного дела и донесшийся до нас только теперь, в лето по Р. X. тысяча девятьсот девятнадцатое, тягостным волнением наполняет современное сердце [напоминаю, что работа моя впервые появилась в свет в 1919 году]. Душа умирала в стенах равелина и билась в предсмертных муках. Внутренний свободный человек в Бейдемане был сломлен, уничтожен. Его уверения – полная противоположность всем его утверждениям первого года заключения. Он обещает всю жизнь отдать в интересах царской власти и славы. Он распростерся во прахе уничтожения и просит пощады. Но эта просьба, проникнутая сервилизмом, неизбежным спутником раскаяния, еще хранит остатки чувства собственного достоинства в самом тоне: есть еще некоторая в нем независимость, не соответствующая унизительному содержанию. У нас нет данных для суждения о степени искренности обращения Бейдемана, да они и не нужны, эти данные. Одною мерою измеряется в наших глазах глубина душевной драмы заточенного.
Крик о пощаде, возникший в мраке равелина, донесся до высоты русского престола. Всеподданнейшее прошение было доложено Его Величеству 12 июля 1869 года и не вызвало никакого, хотя бы малейшего, движения по делу Бейдемана, не привело ни к какому, хотя бы малейшему, облегчению его участи. Глас вопиющего! Крик о пощаде поднялся из казематов крепости, донесся до вершин и стих.
И снова книга жизни Бейдемана обрывается. Целое десятилетие со времени обращения к царю не оставило ни одной страницы, ни одной строчки памяти в архивном деле. Документы молчат об этом десятилетии. Мы только знаем, что, после казни Каракозова и после перевода из равелина каракозовцев Худякова и Ишутина 4 октября и офицера Кувязева 15 октября 1866 года, в равелине остался один Бейдеман. С этого времени и до 28 января 1873 года – дня появления в каземате С.Г. Нечаева – в течение 6 ½ лет Бейдеман был единственным узником равелина. Когда в равелине были заключенные, Бейдеман порою мог вступить хотя бы в немое общение с соседями; стук в стену давал известное облегчение; наконец, когда нельзя было поддерживать общения и таким образом, все же оставалось скрашивающее тоску одиночества сознание, что тут рядом, или через камеру, или через коридор есть такой же страдающий человек. Но после 15 октября 1866 года и этого сознания не было. Один, один, заброшенный в каземате, забытый небом и людьми! На девятом году заключения в равелине и третьем году абсолютно одиночного заключения не выдержала и дрогнула душа, а второго десятилетия не вынес, изменил человеку и разум.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































