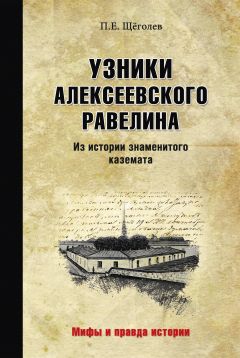
Автор книги: Павел Щеголев
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Узник С. Нечаев».
Отношение коменданта было доложено царю. Граф Шувалов предоставил А.Ф. Шульцу разрешить книги по своему усмотрению. Шульц милостиво нашел возможным допустить все книги, а против просьбы о «Revue des deux Mondes» написал: «Я пришлю свои 12 книжек 1872 года».
Соответственное разрешение было отправлено коменданту 27 апреля 1873 года. О дозволении написать сестре, конечно, не было и помину.
Бюллетень от 25 мая гласил: «С содержащимся в Алексеевском равелине под № 5 никаких изменений не произошло, он приступил к чтению доставленных из III Отделения собственной Е.И.В. канцелярии французских книг».
Таково было начало жизни Нечаева в Алексеевском равелине.
8
Дальше наши источники становятся скудными. По-видимому, скудость сведений соответствует отсутствию каких-либо осложнений. Нечаев сидел тихо, много читал и много писал.
От 1873 года сохранилось еще два известия. 10 мая комендант представил краткий бюллетень: «Содержащийся в Алексеевском равелине известный арестант по-прежнему сидит спокойно. 16 сего мая, при выставке зимних рам и для освежения занимавшей (sic) им комнаты, он перемещен из 5-го в 7-й нумер». Этот бюллетень был переправлен за границу, где был в это время царь и начальник III Отделения, и «доложен Его Величеству» в Штутгарте.
2 октября угроза наводнения нарушила налаженную жизнь равелина, и комендант доносил главному начальнику III Отделения 3 октября (№ 203): «Вчера, по случаю возвышения в р. Неве воды свыше 9 футов и угрожавшей вследствие этого опасности нижним этажам крепостных зданий, содержащиеся в Алексеевском равелине известные Вашему Сиятельству два арестанта по распоряжению моему в 10 часов вечера были переведены, под личным наблюдением смотрителя равелина майора Бобкова и караула равелинной команды, каждый порознь, в вновь отстроенное здание Трубецкого бастиона, где они и оставались в отдельных нумерах, под личным наблюдением майора Бобкова, людей Алексеевского равелина и жандармских унтер-офицеров, до 6 часов утра сего 3 октября. Долгом считая донести об этом Вашему Сиятельству, имею честь присовокупить, что означенное перемещение арестованных из Алексеевского равелина в арестантское здание Трубецкого бастиона и обратно в равелин произведено с строжайшею тайною и полным спокойствием».
От 1874 года сохранилось только одно известие – бюллетень от 19 апреля: «С содержащимся в Алексеевском равелине известным арестантом никаких перемен не произошло: он стал вести себя по-прежнему покойно и занимается чтением и письмом». Этому донесению предшествовал все-таки период, когда известный арестант вел себя неспокойно. Бюллетень был доложен царю.
За 1875 год сохранился тоже только один бюллетень от 18 июля: «С содержащимся в Алексеевском равелине известным арестантом никаких перемен не произошло». Но из поданного в январе 1876 года прошения царю мы знаем, что в июне 1875 года III Отделение пожелало просмотреть бумаги Нечаева и ознакомиться с образом его мнений, и Нечаев изложил свои политические взгляды для представления Александру II. Это изложение до нас не дошло, и о содержании его мы можем судить, во-первых, из отзыва чиновника, разбиравшего бумаги, во-вторых, из сообщений Нечаева народовольцам в той неподлинной и не всегда соответствующей действительности форме, в какой они печатались в «Вестнике Народной воли». По отзыву чиновника, письмо Нечаева «не есть изложение политических убеждений автора, каким оно выставляется, а изложение ближайших политических целей, которые автор преследовал, и в сем последнем смысле оно довольно искренне». По сообщению же, появившемуся в «Вестнике Народной воли», в июне 1875 года комендант «просил Нечаева от имени правительства изложить свой образ мыслей и взгляд на положение русских дел вообще. Нечаев в ответ написал большое письмо царю Александру II, где, указав на главные язвы политического и социального строя России, назвал этот строй отжившим и разлагающимся; он указал неминуемую близость революции, разрушительный характер которой может быть ослаблен только немедленным введением либеральных конституционных учреждений и созванием представителей народа для пересмотра основных законов». Почти так же он излагал содержание своего заявления в том прошении, с которым он обращался к Александру III и которое в «Вестнике Народной воли» передано не в точной копии, а скорее в пересказе: «В 75 году, когда правительство предложило мне изложить свой взгляд на положение дел, я в подробной записке на высочайшее имя заявил Вашему августейшему родителю, что абсолютизм отжил свой век, что все основы неограниченной монархии окончательно расшатаны, и только дарованием конституции державная воля может спасти Россию от ужасов революции. Я говорил, что неотлагаемое введение либеральных представительных учреждений в дорогом отечестве может помешать развитию внутренних смут и дерзких покушений, которые ни перед чем не остановятся. Я говорил, что через несколько лет, может быть, уже будет поздно. Ход событий последнего времени подтвердил мои предположения».
К 1875 году относится один инцидент. О нем совершенно молчат архивные источники, и знаем мы о нем только из сообщений самого Нечаева, воспроизведенных по его письмам в «Вестнике Народной воли».
«На третий год одиночного заключения в равелине, – читаем в начале этой публикации, – с гнусными предложениями (составить записку для III Отделения о составе, численности и средствах революционной партии) приезжал к Нечаеву шеф жандармов генерал Потапов. На этот раз ответом было выражено презрение к правительству в более резкой форме, а когда Потапов стал грозить Нечаеву телесным наказанием, как каторжнику, тогда он в ответ на эти угрозы заклеймил Потапова пощечиной в присутствии коменданта генерала Корсакова, офицеров, жандармов и рядовых: от плюхи по лицу Потапова потекла кровь из носу и изо рта. Нечаева схватили, но не били». В упомянутом прошении к Александру II Нечаев об этом столкновении писал в следующих выражениях: «У меня был другой (кроме Мезенцева) враг, генерал Потапов. Он оскорбил меня на словах, я за это заклеймил его пощечиной. Он имел право меня ненавидеть, но и он не мстил мне…» [Любопытно, что редакция «Вестника Народной воли», т. е. Тихомиров, хорошо знавший все подробности сношений Нечаева с волей со слов служащего в равелине, отрицает утверждение Нечаева и передает, что он подвергся жестоким побоям за оскорбление Потапова, «во всяком случае, он был после этого скован по рукам и ногам и, сверх того, прикован к стене каземата. Все это передали как служащие в равелине, между которыми было несколько свидетелей пощечины, так и сам Нечаев в письмах, ныне уже утраченных». Мы увидим дальше, что наложение оков имело место, но значительно позже и по другому поводу. В этих сообщениях со слов служащих важно только подтверждение инцидента с Потаповым.] Быть может, в словах Нечаева есть некоторая доля преувеличений, но по всей ситуации такое происшествие было возможно. Отсутствие каких-либо указаний о нем в документах дела совершенно понятно: кому же стал бы доносить о нем пострадавший Потапов? Понятно и его решение не мстить Нечаеву, ибо мщение сейчас вслед за происшествием было бы равносильно открытому признанию факта, о котором Потапов, конечно, предпочел бы хранить молчание. Но через некоторое время он мог дать выход своей злобе по иным поводам. Известная доля недоумения все же остается. По рассказу Нечаева, предложению Потапова рассказать о составе революционной партии хронологически предшествовало предложение коменданта, от имени правительства, дать изложение политических взглядов. После эффекта, какой вызвало первое предложение, кажется странной решимость коменданта, да и сама целесообразность его обращения к Нечаеву. Но что Нечаев при его характере мог нанести оскорбление действием столь высокопоставленному лицу, в этом нет сомнения. А затем те страдания и тяжкие лишения, которым он подвергся в следующем, 1876 году, могут служить не прямым, но достаточно убедительным доказательством правильности рассказа Нечаева. Правда, кары, постигшие Нечаева, были как будто вызваны иными обстоятельствами, но тут же надо сказать, что аналогичные обстоятельства ранее не сопровождались подобными результатами. [Подтверждение рассказу Нечаева о пощечине Потапову находим неожиданно в дневнике А.Н. Куропаткина (Красный архив, т. 2, с. 32). Под 17 февраля 1903 года он записал разговор с Плеве: «Плеве рассказал, что Потапов начал уже быть не в своем уме. Он однажды вошел к Нечаеву в камеру и получил от него пощечину. Что же он сделал? Упал на колени перед Нечаевым и благодарил за науку». Нельзя не признать Плеве авторитетным свидетелем!]
В начале 1876 года, по тем или иным поводам, тюремный роман Нечаева с русским правительством кончился. III Отделение тоже показало свои когти.
9
30 января 1876 года исполнилось трехлетие со дня заключения Нечаева в равелине. В этот день он представил коменданту обширное прошение на высочайшее имя. С некоторою торжественностью оно было вложено в обложку, на которой Нечаев написал:
«Господину коменданту
Петропавловской крепости
от заключенного в оной крепости
эмигранта Сергея Нечаева.
Для представления
на высочайшее имя прошение».
Само прошение, написанное [текст прошения воспроизводится с буквальной точностью, но без сохранения орфографии. Разрядкой взяты слова, подчеркнутые или написанные крупно Нечаевым] аккуратным почерком, без помарок, было следующего содержания:
«Его Императорскому Величеству
Александру Николаевичу,
Государю Императору русского народа
Государь!
По истечении трех лет одиночного заключения в крепости, со дня приговора, незаконно произнесенного надо мной московским окружным судом, я, эмигрант Сергей Нечаев, не считаю себя вправе оставаться долее в положении выжидательном и обращаюсь к Вашему Императорскому Величеству, как к высшему авторитету правосудия и законности в государстве абсолютно-монархическом, с формальным прошением о соблаговолении повелеть подвергнуть правильному и беспристрастному судебному пересмотру «дело об убиении студента Иванова».
В основание сего прошения необходимо изложить перед Вами, Государь, те важные причины, которые не позволили мне признать себя подсудимым перед представителями юстиции Империи, в начале 1873 г., – причины, заявление которых не было выслушано от меня московским окружным судом, что и лишило приговор надо мной всякого юридического значения.
Я, эмигрант Нечаев, арестованный в окрестностях города Цюриха в августе 1872 года, до сих пор не знаю, на каких условиях выдало меня швейцарское правительство в руки российского правосудия.
Я был увезен из цюрихской тюрьмы ночью, неожиданно, без всякого предупреждения и объяснения, неизвестными личностями, на которых даже не было полицейского мундира, – я был увезен из тюрьмы в отсутствие директора местной полиции г. Пфеннингера, в отсутствие всякого представителя швейцарской власти, напутствуемый единственно смотрителем тюрьмы, который отказался дать мне какое-либо объяснение.
Доставленный в цепях в баварский пограничный город Линдау, я объявил начальнику встретивших меня там русских агентов, г. Севастьянскому, что считаю себя жертвой произвола и беззакония, противного основным принципам публичного права, – ибо не знаю, выдала меня Швейцария или меня «украли из Швейцарии», подобно тому, как некогда граф Орлов похитил из Ливорно несчастную княжну Тараканову.
Привезенный в С.-Петербург, в Петропавловскую крепость, я повторил то же заявление явившемуся ко мне чиновнику III Отделения, г. Филиппеусу.
По прошествии двух месяцев я был вызван из каземата к прибывшим в крепость для производства следствия по делу «об убиении студента Иванова» следователю г. Спасскому и прокурору московского окружного суда. В качестве эмигранта отказавшись давать какие-либо показания по этому делу, как делу исключительно политическому, я снова заявил, что правительство Швейцарской республики не только не выслушало моих объяснений, но не сообщило мне даже, на каких условиях меня выдало российской полиции.
Прокурор и следователь, в силу известных им соображений или инструкций, не сочли нужным обратить надлежащее внимание на это крайне важное заявление и не приостановили производства следствия, хотя для них, как сведущих юристов, должно было быть ясно, что тем самым они лишают дальнейший ход дела и самый судебный процесс всякого юридического основания и легального значения.
Перевезенный в конце 1872 года в Москву, я и там на вопросы следователя и прокурора отказался давать показания, еще раз заявив, «что считаю выдачу меня швейцарским правительством вопиющей несправедливостью».
В Москве мне было прочитано следователем предписание министра юстиции прокурору московского окружного суда: узнав из оного, что Повелитель «80-ти миллионов ручался своим Императорским словом» (пред швейцарским правительством) за правильность и беспристрастность суда надо мной, я решился уклониться от всякого резкого выхода и держаться твердо почвы исключительно юридической. Поэтому я отказался принять обвинительный акт и воспользоваться правом иметь защитника. Точно так же, несколько дней спустя, в присутствии двух свидетелей и частного пристава Сущевской части, я отказался принять повестку от суда и список присяжных заседателей.
Приведенный в залу заседаний московского окружного суда, я на первый вопрос председателя буквально объявил:
«Я, эмигрант Нечаев, права судить меня за русским судом не признаю и подсудимым себя не считаю; если суду угодно знать причины этого заявления, то я сочту своим долгом их суду объяснить».
Слова мои были покрыты рукоплесканиями присутствовавшей публики, а председатель, вместо того чтобы выслушать мои объяснения, имевшие столь важное юридическое значение, приказал жандармам меня удалить.
Представ вторично пред трибуналом, на вопрос председателя: «Желаю ли я, чтобы меня судили с участием присяжных заседателей?» – я отвечал отказом и был немедленно вторично удален прежде, чем успел высказать причины, побуждавшие меня отказаться.
Введенный жандармами в третий раз в залу заседания суда, на вопрос председателя: «Признаю ли себя виновным в убиении студента Иванова из личной ненависти?» – я возразил:
«Убиение Иванова есть факт чисто политического характера и составляет лишь часть дела о заговоре, которое разбиралось в суде в Петербурге».
Председатель снова прервал меня, не позволил мне продолжать моих объяснений и снова приказал меня удалить.
Вступив в четвертый раз в заседание, на вопрос председателя: «Допускаю ли выслушание свидетелей?» – я отвечал:
«Для меня все равно: я уже имел честь объявить, что права судить меня за вами не признаю и подсудимым себя не считаю».
Так как председатель начал немедленно процедуру приведения единственного свидетеля г. Мухортова к присяге и допроса оному, то я, Нечаев, не переставал возражать отрицанием права судить меня до тех пор, пока председатель не произнес категорической фразы: «Ну, так молчите!»
После этих слов я повернулся спиной к трибуналу и ограничился молчанием, вполне уверенный в отсутствии всякого юридического основания в продолжавшемся судебном разбирательстве. Тем не менее в конце заключительной речи председателя я громко объявил московский окружной суд «судом Шемякиным».
На другой день по произнесении надо мной приговора, лишенного, по вышеизложенным причинам, всякого юридического основания и легального значения, я обратился с письмом к начальнику III Отделения собственной Вашего Императорского Величества канцелярии, графу Левашеву; в этом письме, говоря о возмутительном поступке со мною московских жандармских офицеров и высказывая несколько общих политических соображений, я не преминул заявить, что «считаю себя преступником политическим, обращенным московским окружным судом в обыкновенного уголовного», что смотрю на себя как на жертву клеветы и вопиющего беззакония. То же самое заявление включил я, между прочим, и в изложение моих политических мнений, составленное мною в июне 1875 года, для представления Вашему Императорскому Величеству, на основании выраженного III Отделением желания – ознакомиться с образом моих мыслей посредством просмотра моих бумаг.
Что же касается до обращения в кассационный департамент сената, в форме, установленной для сего русскими судебными уставами, то я, Нечаев, не мог и не должен был воспользоваться этим правом русского легального протеста, так как выше объясненные, противоюридические условия выдачи меня швейцарской полицией ставили меня вне области законов Российской Империи. В качестве эмигранта, не признав себя подсудимым пред судом Империи, я тем менее мог подчиниться формальностям апелляции, указанным в русском кодексе. Я должен был дать объяснения только гласному суду. Суд не выслушал меня, и мне оставалось страдать и ждать, пока мне то позволяло состояние моих физических сил.
Высшие соображения, отчасти указанные мною в изложении моих политических мнений, побудили меня удержаться от всякого иного более резкого выхода, на который давала мне полное право вопиющая несправедливость, на меня обрушившаяся.
От формального же на Высочайшее Имя прошения о пересмотре моего дела я считал своим долгом удержаться в продолжение нескольких лет.
Пока то позволяло мне состояние моего здоровья, я, томясь в неволе и одиночестве, решился выждать известный период времени, достаточно продолжительный для того, чтобы дать возможность представителям швейцарской демократии самим исправить несправедливость своих олигархов: устранить нарушение основных принципов публичного права и требованием судебного пересмотра моего дела снять позорное пятно, положенное произволом цюрихской полиции на честь и достоинство республики.
Отрезанный от хода политической жизни, как бы погребенный заживо в келье Петропавловской крепости, я не могу знать, какими софизмами швейцарские олигархи объясняли выдачу меня без суда и следствия тому правительству, против которого я составлял заговор; не могу знать, какими заявлениями отвечали они на лишенный всякого юридического основания судебный процесс и на незаконно произнесенный надо мною приговор. Но тем не менее трехлетний срок был слишком достаточным для всестороннего рассмотрения дела: и если представители швейцарского народа и швейцарская демократия вообще не воспользовались им, то я не могу и не должен оставаться долее в положении выжидательном, какие бы последствия ни произошли от сего для национальной чести и достоинства республики.
Теперь, по прошествии трех тяжких лет одиночного заключения, я обращаюсь с прошением о судебном пересмотре моего дела к Вашему Императорскому Величеству, как высшему авторитету правосудия в Империи, как прямому источнику и блюстителю закона в монархии неограниченной, как законодателю, по мысли которого «правда и милость должны царствовать в судах».
Я, Нечаев, теперь, как и тогда, в 1873 году, готов признать себя подсудимым не только пред русским судом, но даже пред судом турецким или китайским, если только предварительно соблюдены будут все легальные условия, требуемые публичным правом; если правительство Швейцарской республики, на почве которой я был арестован, возьмет на себя прямую юридическую ответственность за правильный исход процесса, то есть объявит мне предварительно (в присутствии чиновника русского посольства), на каких основаниях и при каких условиях меня выдает России, и снабдит меня копией с своего решения по этому поводу – копией, формально засвидетельствованною печатью, республики и надлежащими подписями членов правительства.
Излагая сие прошение сообразно с формами, которые обусловливают существенные свойства юридических документов подобного рода, – для более удобного сообщения его, в случае надобности, в кассационный департамент сената, – я остаюсь в уединении каземата, в ожидании решения Вашим Императорским Величеством по этому поводу, с надеждой на возможность правосудия в моем отечестве, во второй половине XIX века.
Узник, в силу беззакония и вопиющего произвола швейцарских олигархов четвертый год томящийся в келье Петропавловской крепости.
Эмигрант
учитель Сергей Нечаев.
1876 года, января 30 дня.
P. S. При сем я присовокупляю мою просьбу к Вашему Императорскому Величеству о позволении мне видеться с моими родственниками, с которыми я расстался восемь лет тому назад и которых не допустили ко мне в 1872 году, когда я был привезен из-за границы в Петербург, в крепость».
На щеголеватой обложке, в которую Нечаев вложил свое прошение, генерал-адъютант Потапов 7 февраля 1876 года записал следующее решение царя: «Государь Император высочайше повелеть соизволил прошение оставить без последствий и воспретить преступнику Нечаеву писать и написанное им до сего времени от него отобрать и рассмотреть, заниматься же чтением книг не возбраняется». Первая часть резолюции находится в прямом несоответствии со второй: выходит так, что прошение Нечаева, как видим, не только не было оставлено без последствий для него, но, наоборот, сопровождалось решительной и тягостной переменой в строе его тюремной жизни: ему запретили писать, и это запрещение осталось в силе уже на все время его заключения в равелине.
7 же февраля А.Ф. Шульц на словах передал коменданту резолюцию царя для исполнения, а 9 февраля последовало исполнение ее на деле. Об исполнении узнаем из сохранившегося обычного бюллетеня, представленного 14 февраля: «9 сего февраля у содержащегося в Алексеевском равелине известного преступника во время прогулки в саду отобраны все письменные принадлежности и исписанные им бумаги. При объявлении ему о том по вводе в номер он с внутренним волнением подчинился такому распоряжению, сказав только с ожесточением: «Хорошо!» Затем ночью, около 4 часов, начал кричать и ругаться, причем находящеюся у него оловянного кружкою с водою выбил из окна 12 стекол; тогда на него тотчас надели смирительную рубашку и, переведя в другую комнату, привязали к кровати. В таком положении он оставался, пока не успокоился, затем днем его отвязали с кровати, оставив на нем, для лишения свободы рукам, ту же смирительную рубашку, которую под словом, что он не повторит подобного буйства, приказано снять только сегодня утром».
По силе реакции, которую вызвало в Нечаеве запрещение писать, можно судить о всем жизненном значении этой жесточайшей меры. Реакция Нечаева повлекла новые последствия. В бюллетене 20 февраля комендант доложил: «Сего числа, в 8 часов утра, на содержащегося в Алексеевском равелине известного арестанта надели ножные и ручные кандалы при полном спокойствии. Затем он переведен в другой номер, в оконной раме которого, с внутренней стороны, устроена железная решетка».
Любопытно, что первый приведенный бюллетень о буйном протесте Нечаева царю не был доложен (на нем имеется пометка Потапова: «К сведению»), а второй был доложен. В следующем бюллетене 27 февраля комендант сообщил о благодетельном результате закования Нечаева: «Содержащийся в Алексеевском равелине известный арестант, после наложения оков, ведет себя совершенно спокойно». А Потапов положил на этом докладе резолюцию: «Иметь в виду».
Некоторое облегчение в положении Нечаева наступило только в мае месяце. За это время произошла смена комендантов: вступил в должность коменданта, вместо заболевшего и умершего 1 мая 1876 года Н.Д. Корсакова, барон Е.И. Майдель. Барон Е.И. Майдель, по-видимому, был самым снисходительным комендантом; по крайней мере Нечаев, беспощадный в своих отзывах в письмах к народовольцам, помянул добрым словом «уважаемого» барона Майделя. Бюллетень от 14 мая сообщал: «С содержащимся в Алексеевском равелине известным арестантом никаких перемен не произошло. При посещении его вновь назначенным комендантом, генерал-адъютантом бароном Майделем, вел себя довольно сдержанно и, кроме просьбы о дозволении ему прогулки в саду, находящемся в стенах равелина, никакой особой претензии не объявил».
Быть может, к этому косвенному ходатайству барон Майдель присоединил и прямое, словесное, но, как бы там ни было, следующая отчетная неделя принесла Нечаеву известное облегчение. 21 мая бюллетень гласит: «Содержащийся в Алексеевском равелине известный арестант ведет себя спокойно. С него сняты ножные оковы, и дозволена прогулка в саду равелина».
Но оковы на руках Нечаева были оставлены: так боялось III Отделение его свободных рук.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































