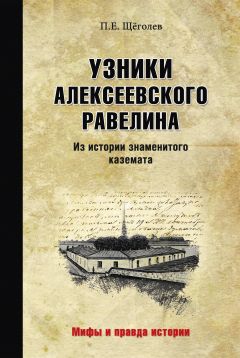
Автор книги: Павел Щеголев
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
4
В тюремном литературном наследии знаменитого публициста на беллетристику приходится 68 печатных листов. Единственная вещь из тюремной беллетристики известна нам полностью: роман «Что делать?». Это написанное в каменном застенке произведение, которое только условно можно назвать романом, пользовалось поразительным успехом у современной молодежи и оказало мощное влияние на склад революционного миросозерцания эпохи. «Что делать?» было по времени первым беллетристическим произведением Чернышевского в крепости. Роман написан в первый период заключения, когда было сильно оживление, когда не отзвучала еще действительность, от которой Чернышевский ушел навсегда. В романе своеобразно переплелись два элемента: оправдание эмпирического быта, в котором жил Чернышевский, и построение утопии будущей счастливой жизни, когда не будет ни бедных, ни несчастных, а все будут вольны и счастливы. Чернышевский начал с глубоко субъективных переживаний и кончил объективным построением высочайшего порядка. И подругу своей жизни он вознес на недосягаемую высоту: в действительности она такой не была и уж во всяком случае была чужда тому идеалистическому обоснованию отношений мужа и жены, которое воздвиг Чернышевский. (Автобиографическое значение романа «Что делать?» еще не оценено.) О новых людях, о новой морали думал Чернышевский, работая над беллетристическими опытами. Эти новые люди поступают по-новому, дают новое разрешение вопросам быта и человеческих отношений – они все позитивисты, материалисты, разумные эгоисты. Стремление к выгоде для них основа жизни. Чернышевский потратил немало логических усилий, чтобы благороднейшим и альтруистическим по обычной терминологии поступкам своих героев дать материалистическое основание. Но уже, конечно, в основе его отношений к героине его жизни Ольге Сократовне лежал не эгоизм разумный, а самый настоящий аскетический романтизм. Разве не романтична формула, которой определял он сам свои отношения к жене: «Умру скорее, чем допущу, чтобы этот человек сделал для меня что-нибудь, кроме того, что ему самому приятно». Заключенный в крепостной темнице утверждал себя в разумном эгоизме: «Я чувствую радость и счастье – значит: мне хочется, чтобы все люди были радостны и счастливы». Трогательность этого чувства оценишь глубже, когда сопоставишь другой тюремный афоризм: «Полного счастья нет без полной независимости». Да, полной независимости не было в равелине, да и где она?
За романом «Что делать?» последовал длинный ряд беллетристических опытов, из которых по настоящий день нам известны жалкие отрывки. Чуть не на другой день по окончании романа «Что делать?» Чернышевский начал писать повесть «Алферьев». С 7 сентября по 20 ноября 1863 года Чернышевский писал новую беллетристическую вещь «Повести в повести». 21 октября он переслал в III Отделение 58 листов, а 23 ноября 64 полулиста, составлявших в совокупности первую часть вещи. С 28 ноября по 1 января 1864 г. Чернышевский продолжал «Повести в повести». Беловой редакции второй части он представил 53 полулиста. Из них утрачены листы 28–49 (3-я глава). Кроме того, сохранилось разрозненных отрывков, черновиков и вариантов к этому труду 128 полулистов. III Отделение конфисковало эту работу, и она до сих пор полностью не напечатана.
Самый крупный беллетристический опыт – «Повести в повести» – произведение с причудливой архитектоникой, это «книга в самом легком, популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так, чтобы ее читали все, кто не читает ничего, кроме романа». Роман «Повести в повести» – произведение, задуманное в плане известного сборника сказок «Тысяча и одна ночь».
Чернышевскому необычайно нравился этот сборник арабских сказок. «Есть сказки не для детей, – пишет Чернышевский в предисловии. – Сборниками сказок больше, чем самим Данте, славилась итальянская литература эпохи Возрождения. Их очаровательное влияние господствует над поэзией Шекспира; все светлое в ней развилось под этим влиянием. Через Шекспира и мимо Шекспира влияние итальянских сказок проникает всю английскую литературу. Я уже только очень поздно познакомился с итальянскими сборниками сказок. Мои грезы были взлелеяны не ими. Я в молодости очаровывался сказками «Тысяча и одной ночи», которые тоже вовсе не «сказки для детей»; много и много раз потом, в мои зрелые лета, и каждый раз с новым очарованием я перечитывал этот дивный сборник. Я знаю произведения поэзии не менее прекрасные, более прекрасного не знаю».
Чернышевский дает литературный анализ своим «Повестям в повести». «Мой роман «Повести в повести» вышел прямо из моей любви к прелестным сказкам «Тысяча и одной ночи». Материал этого сборника – не мой материал; я, подобно всем, – европеец половины XIX века, содержание моей поэзии, как и вашей, поэзия новой Европы. Но влияние сказок «Тысяча и одной ночи» господствует в моей переработке этого материала. Даже форма перенеслась в мой сборник из арабских сказок. Как там рассказ о судьбе Шехеразады служит рамкою для сказок, вставляемых в него, так у меня «Рассказ Верещагина» служит рамкою для «Рукописи женского почерка». Мой Верещагин – не автор этой «Рукописи», – авторы ее – лица, чуждые ему, желающие подружиться с ним и уже в первой части романа успевшие приобрести дружбу его жены и дочери. Но эта разница чисто внешняя. Существенное отношение и там, и здесь одинаково: как там судьба Шехеразады связана с успехом ее сказок, так у меня жизнь Верещагина связывается с тем, нравится ли ему «Перл создания». Ясно, что и завязка эта чисто сказочная, и сам Верещагин – лицо чисто сказочное. Сказка, столь же чуждая всякой претензии казаться правдоподобною, как сказка о судьбе Шехеразады. Еще меньше этой претензии в «Перле создания»: его авторы – Сырнев, Всеволодский, Крылова, Тисьмина – нимало не скрывают того, что они рассказывают небывальщину, – каждый автор беспрестанно противоречит всем остальным, еще больше и усерднее заботится разрушать на следующей странице то, что сам написал на предыдущей, так, чтобы выходил бессвязный ряд отрывков, которые, по-видимому, невозможно слить в одно целое». Эстетическую сущность своего приема Чернышевский характеризовал так: «Давать воображению самой читательницы, самого читателя играть переплавкою материала и сравнивать потом, удалось ли сплавить эти сливающиеся части в одно целое поэтичнее, чем слиты они последующими тетрадями «Перла создания» и отражением их в «Рассказе Верещагина». У многих очень часто, у некоторых, я надеюсь и желаю, почти постоянно, у каждой и каждого хоть иногда – будет удача в этой борьбе поэтичностью вымысла с Крыловой, Тисьминой, Сырневым, другими «авторами», рассказывающими о себе в «Перле создания». Сущность чистой поэзии состоит в том, чтобы возбуждать читающих к соперничеству с автором, делать их самих авторами.
Вот для этого-то главные действующие лица сказки должны иметь характер эфирности, не иметь ничего осязаемого, реального в своих чертах – сказка – это «Перл создания» в том смысле, что наполовину, – и более чем наполовину, создается вами самими, и оттенки ее красок легкие, играющие перламутровые оттенки, всех цветов радуги, но только скользящие в ваших собственных грезах по белому фону сказки. Вот, в этом смысле эфирны все главные действующие лица хороших сказок, и азиатских, и европейских: это существа воздушные, создаваемые не только самою сказкою, сколько вами самими».
Надо сказать, что задач, которые поставил автор своему роману, он не выполнил: отдельные эпизоды остались не спаянными, а читательскому воображению автор не дал работы, ибо он не был художником. По всей вероятности, сознание противоречия между замыслом и исполнением помешало Чернышевскому довести до конца «Повести в повести». Закончена первая часть, и сохранилось порядочное количество набросков по второй. Целиком произведение Чернышевского трудно читаемо, но кое-какие эпизоды любопытны и интересны. А в конце концов нужно признать, что и «Перл создания» да и другие беллетристические опыты создавались от тоски тюремной жизни по контрастному свойству, а не в порыве творческого вдохновения. Психологическое возникновение «Повести в повести» очень ярко изображено в предисловии Чернышевского:
Грязь и холод: смолкли птицы;
Тусклы стали небеса,
Но доходят до светлицы
Доброй вести голоса…
Как ребенок, им внимаю;
Что сказалось в них, не знаю…
Но под легкий шум березы
К изголовью, в царство грезы
Никнет голова…
Струн томление, хоров пенье…
Жизнь, как праздник, хороша…
Небо тихо голубеет,
Расширяется душа…
Розы, лилии, жасмины,
Рву под трели соловья:
Друг мой, Нанни, эти руки
Вьют подарок для тебя.
«В таком настроении духа писаны сказки первой части моего сборника. Мы в нашей литературе все занимаемся общественными вопросами. Это прекрасно, но бывает потребность и в отдыхе от серьезных мыслей, потребность забыть хоть на час, что мы – гражданки и граждане, помечтать легкими, светлыми грезами чистой поэзии, чуждой всякого общественного служения. В такие часы читайте первую часть моего романа: она у меня уже вся готова, когда я пишу это предисловие, и я вижу, что она годится для таких часов».
Но Чернышевский ошибается, говоря о грезах чистой поэзии, чуждой общественного служения. Именно идеей общественного служения и созданы чистые грезы об идеальном человеке, о совершенных отношениях между людьми. И конечно, если в произведениях Чернышевского есть поэзия, то эта поэзия – не чистая, а общественная. Чернышевский пытается отделить свою поэзию от своей публицистики: «Если я здесь сказочник, забывающий всякую гражданскую деятельность, думающий только о песнях любви и трелях соловья, о розах, лилиях и жасминах, то в других моих произведениях, в моих бесчисленных статьях, я – публицист. Как публицист, я – предмет сочувствий и антипатий более сильных, чем довольство или недовольство сказочником, поэтом. Я нисколько не в претензии на людей, – писателей и не писателей, – оказывающих мне честь своей неприязнью. Я был бы неоснователен, если бы надеялся или желал не быть предметом такого чувства от них. Но каждое положение имеет свои надобности. Положение людей, оказывающих мне честь своею враждою ко мне, как публицисту, возбуждает в них непреодолимую для них самих потребность искать в моих поэтических произведениях пищу для удовлетворения неприязни, которую они совершенно основательно питают ко мне, как публицисту. Эта потребность непреодолима и для них самих. А если я нахожу этот факт натуральным и основательным, то должен и поступить сообразно тому».
Не желая поступать неделикатно с читателями, Чернышевский решает и себя изобразить в этом романе под видом «Эфиопа». «Эфиопы видом черны», – помните из «Власа» – псевдоним, которым подписана одна из моих очень серьезных статей. Итак, Эфиоп – это я, отставной титулярный советник Н. Чернышевский, семинарист, человек очень много учившийся, еще больше думавший о предметах очень серьезных, между прочим, о человеческом сердце, и о любви, и о поэзии, публицист очень суровый и чрезвычайно грубый».
И самый роман Чернышевский начинает «биографией и изображением Эфиопа», т. е. самого себя. Чернышевский рекомендует себя сжато и выразительно.
«Я родился в Саратове, губернском городе на Волге, 12 июля 1828 г. До 14 лет я учился в отцовском доме. В 1842 году поступил в низшее отделение (риторический класс) Саратовской духовной семинарии и учился в ней прилежно. В 1846 г. поступил в Императорский С.-П.бургский университет на филологический факультет. Был прилежным и смирным студентом, потому в 1850 году получил степень кандидата. По окончании курса поступил преподавателем русского языка в…
Кажется, впрочем, это несколько сухо. Но надобно ли мне изобразить себя более осязательными чертами? – Можно.
В настоящее время (осень, 1863) мне 35 лет. Ростом – 2 аршина 7 ¼ или 7 ½ вершков. Цвет волос – русый; в детстве, как у многих поволжан, был рыжий. Лицом я некрасив. Глаза у меня серые».
5
Как бы ни были рассеяны отдельные звенья романа Чернышевского, как бы ни были они разноценны, можно нащупать связующую нить: это – мечта о новой морали, новом человечестве, попытка схематического построения нового, необыкновенного человека. После романа «Что делать?» Чернышевский стал сейчас же писать повесть «Алферьев». Начало этой повести воспроизведено в собрании сочинений, продолжение – в неизданном тюремном наследии. Сначала герою была выбрана фамилия Шестаков, потом Сырнев. В «Повестях в повести» появляется вновь Сырнев. Под разными именами все тот же герой – новый человек с новым кодексом нравственности. О нем говорят авторы повестей в романе Чернышевского; его биография, его характеристика занимают немало страниц. Сырнев – это тот необычайный, новый человек, которого изображает Чернышевский во всех своих беллетристических опытах, но при отсутствии художественного таланта у Чернышевского не получается живого, яркого образа, это человек в схематическом разрезе, не человек, а схема идеального человека, чрезвычайно ценная для уяснения моральных стремлений эпохи, пронизывающих передовых людей шестидесятых годов. Алферий Сырнев – материалист, беспощадно до логического конца развивавший свою точку зрения в приложении ко всем вопросам жизни, человек, поступки которого неизменно соответствовали его убеждениям; беспристрастный исследователь фактов. Сырнев занимался высшим математическим анализом, он стремился овладеть им и развить для того, чтобы заняться перенесением его на нравственно-общественные науки. Любопытны аксиомы, выдвинутые героем Чернышевского: «Наука признала один только порядок пригодным для всех отраслей умственной деятельности: генетический порядок. Начинайте с происхождения коренных элементов положения, показывайте, как оно видоизменяется естественною комбинациею этих элементов, и результат всегда явится фактом натуральным, не имеющим ничего странного». И другая аксиома: «Мелкие ошибки становятся очень полезны, когда анализ обращает их в средство рассмотреть важность и благотворность принципа, ими нарушенного. Старайтесь замечать это, – вы приобретете опытность и станете вернее поступать в будущих, более важных случаях».
Вот характеристика Сырнева. Он извинял все, кроме одного: опрометчивости в суждениях. Потому почти над всем, что обыкновенно считают за достоверное по нравственно-общественным наукам, он произносил свое ледяное: «Неизвестно».
Зато очень многое из того, что для большинства профанов и специалистов представляется загадочным или недоступным научному решению, – очень многое из этого, и в этом числе все существенно важное для жизни и науки, он находил уже несомненно разъясненным наукою на благо людей, уже перешедших из мрака иллюзий и фантомов, вражды и зла в светлую и добрую область «известно».
Для него было «неизвестно», существует ли на свете хоть один человек, который «действительно дурен»; «неизвестно», было ли насквозь проедено испорченностью сердце даже величайших злодеев и негодяев; «неизвестно», не сохраняли ли, незаметно даже для самих себя, что-нибудь чистое и святое в душе даже Тиберий и Катерина Медичи. Но ему было «известно», что даже для них было легко и приятно стать добрыми и честными; ему было «известно», что никто из людей не способен любить зло для зла, и каждый рад был бы предпочитать добро злу при возможности равного выбора; что поэтому дело не в том, чтобы порицать кого-нибудь за что бы то ни было, а в том, чтобы разбирать обстоятельства, в которых находился человек; рассматривать, какие сочетания жизненных условий удобны для хороших действий, какие неудобны; «наука не останавливается на факте, – она анализирует его происхождение» – таков был его взгляд на жизнь. «Наука беспощадно снисходительна», – говорил он.
«Я сказал несколько слов об Алферие Алексеевиче как о мысли – теле, применявшем «беспощадную снисходительность» точного научного метода к явлениям человеческой жизни. Этими словами я характеризовал его и как человека: он был, по моему мнению, замечательнее всего тем, что его воззрение на жизнь вполне соответствовало его характеру, поступки – неизменно соответствовали его убеждениям. Надобно было только раз услышать, как он произносит свои любимые: «неизвестно» и «известно», – «исследуем», – «обдумаем», и человек, никогда не видывавший его, ничего не слышавший о нем, чувствовал любовь и уважение к этому белокурому юноше, застенчивому и нежному, такому кроткому и такому непоколебимому, такому горячему другу людей и такому бесстрастному исследователю фактов».
В характеристике Сырнева чрезвычайно любопытно описание его чувств к женщине: несомненно, Чернышевский вкладывает в это описание черты автобиографические (любовь к жене).
«Чувство Алферия Алексеевича к ней было совершенно иное, – чувство гораздо чаще встречающееся в юношах чистой души, чем обыкновенно думают. Я назвал его чувство: благоговением. Оно многим известно по опыту. Но оно редко изображалось, и потому нет приготовленности узнавать его, когда о нем рассказывается в печати: одни могли бы смешать его с платонической любовью – чувством искусственным или болезненным и очень часто обманчивым; другие с дружбою. Нет, это совершенно не то. Это чувство подобное тому, какое поэт старины имел к существу, в котором олицетворялась для него поэзия, – существу, бывшему для него живою женщиною, которая действительно являлась ему, брала его за руку, водила его по улицам города, по полям, – разговаривала с ним, играла на лире, звуки которой он действительно слышал, в патриархальную старину древней Греции, – или на клавесине, в Средние века. Тогда могли чувствовать себя людьми в полном смысле слова лишь в минуты экзальтации. Реальная жизнь была слишком груба, действительные люди слишком не поэтичны в своем реальном виде, – потому видели истинно человечественных людей только в мечтах, в предчувствиях. В наш век не нужно ни быть поэтом, чтобы иметь Музу или Цецилию – ни впадать в галлюцинацию, чтобы видеть ее: очень многие из нас, – почти все, бывшие чистыми юношами, имели такое благоговейное и возвышающее чувство к женщине совершенно такой же, как все хорошие женщины: иногда к своей старшей родственнице, – чаще к посторонней. Это чувство нимало не исключительное, очень нередкое в наше время. Но оно еще редко описывалось, и потому в печати оно понимается не так легко, как в жизни, сказал я».
Сырнева Чернышевский делает автором вставленных в роман «Объективных очерков» и «Притч» [ «Объективные очерки» с моим предисловием изданы в 1927 году в «Библиотеке «Огонька», «Притчи Сырнева» изданы мной в кн. 7-й «Нового мира» за 1928 год.]. «Притч» пять. Пятая – трагический аккорд.
ПРОЩАНИЕ (Из дневника А.А. Сырнева)
Добрые! Добрые! Все шалят, смеются –
Для развлечения умирающего, –
смешного, быть может, но умирающего все-таки за вас, мои сестры, – умирающего смешно, быть может, но все-таки за вас, – умирающего с сердцем, уже начавшим жаждать любви, но еще не согретым любовью ни одной из вас.
Я был другом каждой из вас. Любите память мою.
А. Сырнев6 апреля (1864 г.).
Это прощание с жизнью умирающего Сырнева написано 6 апреля заключенным в каземате Алексеевского равелина. Исчезает схематический образ персонажа романа, и появляется образ живого героя, страдавшего (ему казалось, смешно страдавшего) за тех, кто находился за стенами равелина. К ним доносился из-за каменных стен трогательный призыв – «Любите память мою».
III. Д.В. Каракозов в равелине
1
Четвертого апреля 1866 года у Летнего сада неизвестный стрелял в Александра II. Он был тут же арестован и отведен в III Отделение. При допросе назвался Алексеем Петровым.
5 апреля шеф жандармов, князь Долгоруков, докладывал царю: «Преступник по-прежнему письменно утверждает, что имя его Алексей Петров и что он сын крестьянина одной из южных губерний, которой назвать не может… Прочие показания преступника я доложу Вашему Величеству завтра утром, хотя они большею частью Вам известны. Я теперь передаю его Главной следственной комиссии [против этой фразы на полях доклада Александр II написал: «Хорошо»], которая начнет свои действия сегодня вечером. Протоиерей Полисадов приглашен равным образом для его увещанья. Все средства будут употреблены, дабы раскрыть истину».
5 апреля, в 5 часов вечера, называющий себя Петровым был выдан в Особую следственную комиссию, во главе которой был граф Ланской 2-й. В первом заседании комиссия постановила просить управляющего III Отделением о наложении на преступника оков, так как звание его неизвестно и он называет себя происходящий из крестьян.
Неизвестный оставался в III Отделении. 6 апреля князь Долгоруков докладывал царю: «Преступника, называющего себя Алексеем Петровым, допрашивали целый день, не давая ему отдыха, – священник увещевал его несколько часов, – но он по-прежнему упорствует и ничего нового не показывает. Допрос продолжается…» На следующий день, 7 апреля, князь Долгоруков докладывал царю: «Из прилагаемой записки Ваше Величество изволит усмотреть то, что сделано Главной следственной комиссиею в течение второй половины дня. Несмотря на это, преступник до сих пор не объявляет своего настоящего имени и просит меня убедительно дать ему отдых, чтобы завтра написать свои объяснения. Хотя он действительно изнеможен, но надобно еще его потомить, дабы посмотреть, не решится ли он еще сегодня на откровенность». [На этом докладе царь написал: «Из этого можно надеяться, что дело это мало-помалу раскроется».] В журналах Особой комиссии (от 6 апреля) встречается упоминание о «непрерывных и подробных допросах преступнику». Под тем же числом имеется запись: «По случаю позднего времени (3 часа утра) и вследствие заявления преступника о совершенном утомлении и о том, что на другой день он даст откровенное показание – дальнейшие допросы прекращены ему до следующего дня».
8 апреля на место Ланского председателем комиссии был назначен и в тот же день вступил в должность граф M.H. Муравьев, наслаждавшийся в то время славой усмирителя польского восстания. 8 же апреля граф Муравьев доложил царю: «Запирательство преступника вынуждает Комиссию к самым деятельным и энергичным мерам для доведения преступника до сознания». Наконец, 10 апреля доставленный из Москвы в III Отделение Николай Андреевич Ишутин признал в неизвестном своего двоюродного брата Д.В. Каракозова. Тогда Каракозов начал писать показания.
19 апреля Каракозов был препровожден в крепость при следующем, весьма секретном, предписании III Отделения коменданту крепости инженер-генералу А.Ф. Сорокину (за № 934):
«Препровождая при сем, согласно предложения председателя Следственной комиссии, генерала от инфантерии графа Муравьева, для содержания в одном из казематов вверенной Вашему Высокопревосходительству крепости, дворянина Дмитрия Каракозова, имею честь покорнейше просить, не изволите ли Вы, Милостивый Государь, приказать принять строжайшие меры относительно содержания сего арестанта, сделав вместе с тем распоряжение, чтобы к нему были во всякое время допускаемы протоиерей Полисадов и полковник корпуса жандармов Лосев». Комендант Сорокин на отношении III Отделения положил резолюцию: «Принять и поместить в Алексеевском равелине и донести, почему я счел нужным поместить в равелине». Действительно, в рапорте коменданта в III Отделение (20 апреля, № 62) даны объяснения, почему Каракозов был посажен в равелин. «В видах более строгого содержания, я признал за необходимое препровожденного при отношении от 19 сего апреля за № 934 дворянина Каракозова поместить, впредь до особого распоряжения, в одном из нумеров Алексеевского равелина. Мера эта вызвана той еще крайностью, что почти все из арестантских казематов крепости заняты лицами, арестованными по распоряжению одной и той же Следственной комиссии, почему Каракозову пришлось бы сидеть в смежных с ними нумерах, которые хотя и отделены достаточно толстыми стенами и имеют одинаково строгий караул, но все-таки Алексеевский равелин представляется более безопасным, как по отдаленности от жилых помещений, так и по составу команды, скомплектованной из наилучших людей. Донося о сем Вашему Сиятельству, имею честь испрашивать разрешение на дальнейшее оставление преступника Каракозова в Алексеевском равелине, куда к нему беспрепятственно будут допускаемы протоиерей Полисадов и полковник корпуса жандармов Лосев».
Хотя комендант Сорокин и обосновал свое распоряжение о помещении Каракозова в равелин, но все-таки его поступок был превышением власти, ибо без высочайшего разрешения нельзя было ни освободить из Алексеевского равелина, ни заключить в него. Поэтому дело было оформлено задним числом. Высочайшее разрешение было получено 20 апреля, а заодно было высочайше разрешено и посещение равелина протоиереем Полисадовым и полковником Лосевым; в этом случае превышение власти было допущено самим III Отделением, без испрошения специального на то высочайшего разрешения предписавшим коменданту впускать в Алексеевский равелин.
23 апреля граф Муравьев докладывал царю: «Занятия Комиссии заключались в непрерывном допросе и духовном увещании преступника Каракозова, переведенного из III Отделения Соб[ственной] е. и. в. канцелярии в Петропавловскую крепость, относительно его сообщников. Хотя Каракозов не открыл еще участников своего замысла, но в нем заметна большая перемена: из упорно молчаливого он стал общительнее, и можно надеяться, что будет доведен до сознания как в отношении преступных замыслов, так и сообщников его».
Все средства будут допущены для раскрытия истины… Комиссия вынуждена к самым деятельным и энергичным мерам… Какие средства, какие меры, какие пытки были пущены в ход? Преступник был приведен в состояние изнеможения, был истомлен… приемами физического воздействия или мерами духовного мучительства? Или было и то и другое? Уже непрерывности допроса самой по себе достаточно было для того, чтобы расшатать самый крепкий организм. При свете впервые оглашаемых, извлеченных из архивов всеподданнейших донесений приобретает и полную силу достоверности приведенный П.А. Кропоткиным в «Записках революционера» рассказ жандарма о Каракозове: «Хитрый был человек. Когда он сидел в крепости, нам велено было не давать ему спать. Мы по двое дежурили при нем и сменялись каждые два часа. Вот сидит он на табурете, а мы караулим, станет он дремать, а мы встряхнем его за плечи и разбудим. Что станешь делать? Приказано так. Ну, смотрите, какой он хитрый. Сидит он, ногу за ногу перекинул и качает ее. Хочет показать нам, будто не спит, сам дремлет, а ногой все дрыгает. Но мы скоро заметили его хитрость, тоже передали и тем, что пришли на смену. Ну, и стали его трясти каждые пять минут, все равно, качает он ногой или нет. «А долго это продолжалось?» – спросили жандарма. «Долго – больше недели» [Кропоткин П. Собр. соч., т. 1. Записки революционера. Изд. 3-е. М., 1918, с. 197–198. В этом рассказе неверно, быть может, указание на место действия – крепость: происходило это в III Отделении, где именно жандармы и могли действовать. В появившейся в 1866 году любопытнейшей брошюре «Белый террор, или Выстрел 4 апреля 1866 г. Рассказ одного из сосланных под надзор полиции» (цитирую по 3-му изданию, с. 8) находится указание на бессонницу как средство пытки, но это указание осложнено еще другими подробностями о мерах физического воздействия; к этим указаниям никаких параллельных мест в архивных делах пока не нашлось]. Мы располагаем в настоящее время свидетельством такого авторитетного человека, как Черевин, принимавший деятельное участие в следственной работе по делу Каракозова. Так как члены комиссии, по объяснению Черевина, утвердились в мнении, что преступник должен быть поляк, то при неуклонном допросе они поступали с ним бесчеловечно: «Допросы продолжались безостановочно по 12–15 часов. В течение этого времени допрашиваемому не позволялось не то чтобы сесть, но даже прислониться к стене. Ночь не была покоем, ибо в течение оной его будили раза 3 в час, заговаривая с ним, но преимущественно по-польски и воображая, что спросонья преступник проговорится» [Записки П.А. Черевина. Новые материалы по делу Каракозова. Изд. Костромского научного общества по изучению местного края. Кострома, 1918, с. 5].
Две задачи были у следователей по каракозовскому делу: 1) добраться до корней и нитей, вызнать все подробности, выловить всех причастных, хотя в самой ничтожной мере, к руководителям заговора, самому Каракозову, Ишутину, Худякову, и все эти нужные сведения получить из уст самих обвиняемых и 2) дискредитировать самое дело и самих участников, заставив их самих возненавидеть дело, принести раскаяние, вознести хулу на самые сокровенные свои помышления, чаяния, произнести проклятие своим верованиям и убеждениям. Работа следователей производилась in anima vili, над живыми душами… Когда работа следователей приводила к успешным, желанным для них результатам, то живые души оказывались в великом унижении. Святилище души бывало оскорблено, смято, затоптано. И самый организм человеческий нередко не выдерживал душевного сотрясения; если рассудок и не угасал окончательно, то человек просто «трогался». Такое душевное потрясение пережили в Алексеевском равелине три главных лица процесса 1866 года: сам Каракозов, едва ли бывший в себе в свой предсмертный час, Ишутин и Худяков, кончившие сумасшествием [О допросах в комиссиях см. подробности в автобиографии И.А. Худякова (Женева, [18]82) и в цитированной выше брошюре «Белый террор» и т. д.].
Предательство и обман – вечное орудие следователя. Предателей и доносчиков было много в каракозовском процессе; обильно практиковались и обманы, когда выпытывание натыкалось на препятствия. Своеобразный обман употребил и граф Муравьев: он принудил Н.А. Ишутина к непосредственному воздействию на Каракозова, разрешив ему, вернее, может быть, заставив его, писать Каракозову, умолять его не запираться, не губить своим молчанием других. Каракозов изнемогал под действием бесчисленных и разнообразных, деятельных и энергичных мер… С каким жгучим чувством он должен был в своем одиночном заключении читать такие письма нежно любимого им брата: «Митя! Мне передано, что ты желаешь, чтобы я тебе написал, исполняю твое желание. Мне обещано и на будущее время с тобой переписываться, ежели ты будешь откровенным. Мне говорили, что ты не высказываешь всю истину. Я тебя уверяю, что те люди, которые тебя подбили на такое преступление, эксплуатировали тебя: у них и в виду не было блага родины. Это просто честолюбцы. И потому их нечего скрывать. Говори всю истину. Этим ты спасешь близких тебе. И откровенным, беспристрастным изложением всего дела дашь возможность комиссии судить об наших отношениях к тебе правильно. Чем и объяснится моя невинность. Я здоров и весел. Ради любви ко мне и к близким твоим говори истину без утайки. Чем скорее ты объяснишь, тем скорее я и товарищи освободятся. Твой брат Ишутин». Эта записка писана 28 апреля. Позднее написана другая: «Митя! Если ты не высказал откровенно свои отношения к известной тебе партии, то выскажи, ибо откровенным изложением ты облегчишь свою участь и также объяснишь мою и знакомых тебе непричастность твоему преступлению. Чем докажешь свою любовь ко мне. Ожидающий от тебя облегчения брат твой Ишутин».









































