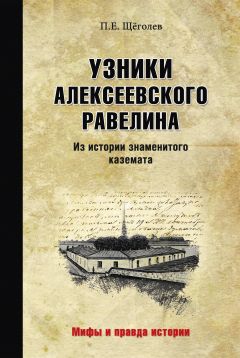
Автор книги: Павел Щеголев
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Так сошел в могилу, на 29-м году жизни, один из достойнейших и благороднейших революционеров, которых когда-либо знала история. Неоцененный страж и хозяин-устроитель революционных организаций, блюститель революционной дисциплины, Александр Дмитриевич Михайлов был фанатически предан революции. «В узких рамках русской жизни он не имел возможности развернуть силы в широком масштабе и сыграть крупную роль в истории, но в революционной Франции XVIII века он был бы Робеспьером» – так оценивает А.Д. Михайлова В.Н. Фигнер.
Смерть Михайлова опять вызвала послабление режима. В рапорте 25 марта Вильмс докладывал: «Состояние здоровья арестантов, содержащихся в камерах Алексеевского равелина, хотя удовлетворительно, но у некоторых из этих арестантов все же замечаются, хотя и в слабой степени, признаки цинги, а потому при увеличившихся светлых часах дня считал бы полезным увеличить для тех арестантов продолжительность прогулки на открытом воздухе». Комендант внял заявлению доктора и предписал смотрителю Соколову: «Выводить арестантов установленным порядком, поодиночке, на прогулку в сад по возможности на продолжительное время, причем поощрять их заниматься во время прогулки физическим трудом, т. е. перекидыванием песку с места на место и подметанием дорожек в саду, для чего обязываю вас иметь в саду несколько кучек песку, деревянные лопаты и метлы».
В рапорте 1 апреля находим любопытные подробности: «Состояние арестантов, содержащихся в камерах Алексеевского равелина, удовлетворительно, лишь у арестанта, содержащегося в камере № 18, проявляются признаки цинги, которою болезнью сказанный арестант страдал довольно сильно и в прошлом, 1883 году, весною. При наступлении настоящего теплого времени считал бы весьма полезным выставить в камерах зимние оконные рамы, так как камеры Алексеевского равелина лишены всякого приспособления для вентиляции, а при наклонности здания к постоянному удержанию сырости в нижних частях стен прекращение топки невозможно».
Комендант разрешил выставить зимние рамы.
В рапорте Вильмса от 8 июля 1884 года находим следующие сведения о здоровье узников равелина:
«Состояние болезни арестанта, содержащегося в камере № 3 Алексеевского равелина, несколько ухудшилось. У арестанта, содержащегося в камере № 16 Алексеевского равелина, замечается упадок питания – вследствие упорного произвольного голодания. Состояние здоровья остальных арестантов, содержащихся в камерах Алексеевского равелина, удовлетворительно».
№ 3 – по всем данным М.Ф. Грачевский, а № 16 – Николай Николаевич Колодкевич.
А 24 июля Вильмс доносил о смерти Колодкевича: «Содержавшийся в камере № 16 Алексеевского равелина арестант, именовавшийся, по заявлению смотрителя равелина, Николаем Колодкевичем, вследствие много раз повторявшихся продолжительных произвольных голоданий, 23 сего июля 1884 года в 10 часов вечера умер от истощения сил, несмотря на все принятые меры насильственного кормления».
Нет оснований не доверять рапорту доктора Вильмса: Колодкевич умер от произвольного голодания. В.Н. Фигнер, описывая наружность Колодкевича, отмечает поразительное несоответствие между суровой внешностью и нежной, гуманной душой Колодкевича: «Его внешность обнаруживала лишь одну сторону его натуры – энергию и мужественную твердость, а вся доброта и деликатность была скрыта под холодной и мрачной оболочкой». Колодкевич сидел рядом с Поливановым, и Поливанов рассказал в своих воспоминаниях историю своего общения, своей тюремной дружбы с этим человеком. Они сидели рядом, не видели друг друга, не слышали голоса друг друга, они только перестукивались, и все же эта дружба через стены полна тончайших и сложнейших переживаний, и рассказ о ней – один из своеобразнейших и трогательнейших, какие только известны во всемирной литературе. А та истина, которую мы только теперь узнаем из рапорта доктора Вильмса, истина о смерти Колодкевича, свидетельствует о высочайшем героизме его духа. Именно эти слова надо сказать здесь.
Поливанов в начале августа 1883 года был переведен в камеру № 15, рядом с Колодкевичем, после восьми месяцев абсолютного одиночества, расстроившего его психику. Не сразу он мог начать перестукиваться, потому что Колодкевич лежал в сильной цинге и только в половине сентября мог подходить на костылях к стене. Поливанов был в это время в угнетенном состоянии, он боялся, что он на грани безумия, и искал спасения в мыслях о самоубийстве. В это время он совершил две попытки покончить с собой. Но Колодкевич оказал ему огромную нравственную поддержку. Вот рассказ Поливанова: «Чем более я вспоминаю об этом честном и искреннем, добром и вместе сильном умом и сильном волею человеке, тем больше и больше я проникаюсь уважением, даже просто благоговением к его памяти и тем более понимаю, как многим лично я ему обязан. Как он был нежен ко мне, как был заботлив, как ему хотелось чем-нибудь облегчить мое тяжелое душевное состояние! Одиночное заключение и болезнь всегда дурно отражаются на характере человека. Он невольно становится раздражительным, брюзгливым, эгоистичным, тяжелым для себя и для других. Ничего подобного я не замечал в Колодкевиче. Он был всегда одинаково ровен, тверд, терпелив, ни на что не жаловался, даже не любил говорить о своих страданиях и всегда старался их умалить. Как ловко он умел наводить разговор на такие предметы, которые могли отвлекать меня от мрачных мыслей, угнетавших меня! Как искусно он умел затрагивать в моей душе все то, что могло поддержать веру и надежду на будущее, энергию и бодрость духа, так необходимые для борьбы с душевным и физическим недугом, все еще не покидавшим меня… Колодкевич внимательно следил за моим душевным состоянием и умел его верно понять, несмотря на такой неудобный способ сношений, какой был единственно для нас возможным. Он со своими больными ногами простаивал на костылях по целому часу, заставляя меня рассказывать о моих охотничьих воспоминаниях, о детстве, он просил меня описывать нашу усадьбу, сады, рощу, моего отца, сестер; интересовался мелкими подробностями моей личной жизни. Как часто я отходил от стены успокоившись, с примиренной и охваченной добрым чувством душой, в которой оно сменяло злобный порыв отчаяния, когда я готов был пробовать разбить голову о стену… Я не сомневаюсь в том, что главным образом соседству Колодкевича я обязан тем, что окончательно не сошел с ума и не лишил себя жизни».
Поливанов вспоминает, что в последние дни жизни настроение Колодкевича было очень бодрое, и они вели спор на тему о жизни и смерти. «Я доказывал, – говорит Поливанов, – что небытие предпочтительнее бытия, потому что оно составляет единственно реальное, единственно доступное человеку блаженство; что люди должны считать самыми счастливыми часами своей жизни те, которые они провели в крепком, глубоком сне, не нарушавшемся сновидениями, и это может подтвердить общее признание всего человечества, что, хотя раз явившись на свет, человек жадно хватается за жизнь и упорно создает себе иллюзию за иллюзией, надежду за надеждой по мере того, как они друг за другом разбиваются действительностью, но каждый, если его спросить, что он предпочел бы: родиться на свет или не родиться, в том случае, когда это зависело бы исключительно от его желания, – каждый, наверно, ответит: предпочел бы не родиться. Колодкевич заметил на это: «Я все-таки предпочел бы родиться». – «Как, – спросил я, – даже зная наперед, что будет ждать в жизни, чем и где она кончится?» – «Как человек, которому всего дороже истина, – отвечал Колодкевич, – я говорю, предпочел бы родиться и узнать, что такое бытие, что такое жизнь, чем не родиться и не знать этого». Его слова и тогда произвели на меня сильное впечатление, так как в искренность Колодкевича я глубоко верил, и я много размышлял по этому поводу, но теперь их смысл приобрел для меня особое значение. Это было сказано человеком, стоявшим уже одною ногою в могиле, человеком, за плечами которого было так много тяжелых и физических и нравственных мук, и это не были пустые фразы, а искреннее убеждение сильного ума и твердой души».
Но задумаемся на минуту над сообщением Поливанова и лаконическим рапортом доктора Вильмса о много раз повторявшихся произвольных голоданиях, которые привели к смертному концу. И этот человек, который утверждал в своем погибавшем соседе волю к жизни, не давал угаснуть чуть тлевшему огоньку жизни, действовал примером своей твердости и ровного терпения, этот человек в это самое время планомерно и терпеливо вел себя к могиле, творил над собой самоубийство, сознательно прекращал свою жизнь, в изменение которой он не верил. Перед таким величием духа надо склониться в благоговейном изумлении…
Мартиролог надо пополнить еще Арончиком, который в 1884 году окончательно сошел с ума. Его помешательство было тихое, и начальство не сочло нужным переводить его, подобно Иванову, в больницу для умалишенных. Так в тихом безумии он был переведен в Шлиссельбургскую тюрьму. С параличом ног, он не вставал с койки, из камеры не выходил и умер 2 апреля 1888 года. Но должно вернуться к тому, чье имя надо поставить в начале мартиролога.
30
Со 2 июня 1882 года Нечаев был всецело подчинен только что описанному знаменитому режиму Алексеевского равелина, который имел одно задание: возможно скорее вывести в тираж возможно большее число заключенных.
Жесточайшего режима, установленного в равелине, не выносили люди совсем молодые, подвергшиеся до перевода в равелин недолгому сравнительно предварительному заключению. Его, конечно, не мог вынести Нечаев, подвергнутый ему на десятом году тяжелого заключения.
Отрезанный от всякого общения, Нечаев находился под бдительным оком Соколова; завязать сношения с новой командой было немыслимо. Но мысль Нечаева работала над проблемой о прорыве блокады. Оставались две отдушины: доктор и священник. Доктор Вильмс стоил смотрителя Соколова, да все равно без смотрителя он не мог войти в камеру; священник – тот мог. Только предположив, что Нечаев хотел испытать священника как средство сообщения, или, на крайний случай, как источник какой-либо информации, можно объяснить возбуждение им ходатайства о допущении к нему священника. 1 июня 1882 года комендант писал Плеве: «Заключенный в Алексеевском равелине в камере под № 1, содержавшийся прежде в камере № 5, известный преступник обратился с просьбой о выдаче ему Библии и о приглашении к нему для духовных бесед священника. Последнее заявление он объяснил тем, что у него явилось какое-то смутное, незнакомое ему до сих пор желание обратиться к вере». Мы решительно отрицаем даже тень правдоподобия в этом заявлении Нечаева. По-видимому, сам Ганецкий прозревал истинные намерения и отнесся столь подозрительно к просьбе Нечаева, что, получив от министра внутренних дел разрешение допустить для бесед с Нечаевым одного из крепостных священников, по его, Ганецкого, выбору, не счел нужным привести в исполнение разрешение министра и тем дать Нечаеву случай исполнить «смутное, незнакомое ему до сих пор желание обратиться к вере». Священник к Нечаеву допущен не был. В книге, о которой мы говорили, не записано ни одного посещения священника за период после 8 июня (дата отношения департамента полиции с разрешением) до самой смерти Нечаева. Первое отмеченное в книге посещение равелина священником приходится на 18 декабря 1882 года…
Итак, решительное крушение надежд на освобождение… Исчезновение друзей. Абсолютное одиночество. Полное безмолвие.
Полное отсутствие книг (одно набившее оскомину Евангелие!). Безвыходное заключение в камере. Ужасающий цинготный пищевой режим. И беспросветная безнадежность в будущем.
Дни Нечаева были сочтены. На сцену выступил доктор Вильмс. 8 ноября он представил коменданту рапорт следующего содержания: «У арестанта, содержащегося в № 1 Алексеевского равелина, развилась цинга, осложненная общей водянкой в столь сильной степени, что угрожает жизни арестанта, а потому совместно с другими врачебными средствами считал бы необходимым сказанному арестанту отпускать в день по полбутылке молока, и для усиленного лечения от сказанной болезни считаю также крайне необходимыми прогулки на воздухе ежедневно».
Комендант предписал смотрителю равелина покупать для арестанта № 1 ежедневно по полбутылке молока и выводить на прогулку в арестантский сад. А 21 ноября Вильмс рапортовал коменданту:
«Содержащийся в камере № 1 Алексеевского равелина арестант сего 21 ноября 1882 года около двух часов пополудни умер от общей водянки, осложненной цинготною болезнью, о чем Вашему Превосходительству донести честь имею». В постовой книге под 21 ноября 1882 года, под рубрикой «Посещение равелина нижеследующими начальствующими лицами», записано прибытие в 2 ¾ час. пополудни доктора Вильмса. Очевидно, он был вызван констатировать смерть Нечаева. Время выбытия указано – 3 часа 5 минут. А за ним отмечено посещение коменданта крепости генерал-адъютанта Ганецкого: время прибытия – 3 ¾ часа пополудни и время выбытия – 4 часа пополудни. Генерал, не часто жаловавший в равелин, побеспокоил на этот раз свою персону. Так и чудятся в коридоре властные, начальственные шаги генерала, который спешил собственными глазами убедиться в смерти человека, в течение стольких лет приводившего в смятение и смущение начальнические сердца, посмотреть еще не остывший труп своего врага…
Дальше был совершен обряд погребения Нечаева по своеобразному ритуалу, принятому в Алексеевском равелине. С этим своеобразным церемониалом следует познакомиться. Один за другим совершались следующие обряды. Смотритель равелина в тот же день, 21 ноября, представил по команде коменданту рапорт о смерти Нечаева и спрашивал предписания о том, как поступить с хранящимися при равелине собственными вещами покойного.
Комендант о смерти Нечаева, «пользовавшегося более месяца врачебной помощью от цинги», донес 21 же ноября рапортом царю (№ 489) и министру внутренних дел (№ 490). А к директору департамента полиции комендант в тот же день (№ 491) обратился со следующим запросом: «Имею честь просить распоряжения о принятии тела умершего Нечаева из крепости для предания земле на одном из кладбищ, присовокупляя, что, для устранения огласки о существовании в Алексеевском равелине преступников, я приказал тело умершего перенести сего числа ночью, при совершенной тайне, в один из арестантских казематов Екатерининской куртины, откуда оно и может быть принято командированными за ним лицами. Причем прошу уведомить меня о том, кому должно быть сдано тело умершего, так равно и о том, следует ли, ввиду той тайны, при которой был заключен названный преступник, пояснять фамилию умершего при сдаче тела».
В этот же день генерал Ганецкий получил от Плеве уведомление на свой запрос: «Для принятия из крепости и похорон тела умершего известного государственного преступника в 1 ч. ночи в крепость прибудет пристав 1-го участка Петербургской части Панкратьев; при этом долгом считаю присовокупить, что фамилия умершего должна быть сохранена в тайне».
На свободной странице письма Плеве сохранилась следующая расписка: «Тело умершего в 1 час ночи из Петропавловской крепости для доставления на Преображенскую станцию Николаевской железной дороги принял пристав Панкратьев. 21 ноября 1882 года. При приеме тела находился секретарь управления Денежкин. При приеме тела находился майор Лесник».
Пристав Панкратьев, майор Лесник и секретарь Денежкин проводили к могиле смертные останки известного арестанта.
После Нечаева остались вещи. Их должны были уничтожить. Для этого существовал определенный церемониал. Препровождая 13 декабря (№ 517) опись вещам директору департамента полиции, комендант спрашивал: «Предположив означенные вещи, как не представляющие особой ценности и пришедшие от времени в негодность, по бывшим при подобных случаях примерам, уничтожить сожжением, а предварительно окончательного по сему распоряжения, имею честь просить Ваше Превосходительство уведомить меня о Вашем по означенному предмету заключении».
В.К. Плеве совершенно секретно 16 декабря уведомляет «милостивого государя Ивана Степановича Ганецкого, что к уничтожению сожжением оставшихся после смерти известного арестанта (№ 1) вещей, поименованных в возвращаемой описи, с его стороны препятствий не встречается». Комендант 21 декабря отдал смотрителю равелина предписание «уничтожить вещи сожжением в присутствии двух жандармских унтер-офицеров и составленный о том акт, за общими подписями участвующих при сожжении, представить ему».
27 декабря Соколов представил при рапорте и следующий акт:
«Вследствие предписания от 21 декабря 1882 года за № 524, Его Высокопревосходительство, господин комендант приказать изволил: все вещи, оставшиеся в Алексеевском равелине после смерти арестанта, содержавшегося в № 1, уничтожить сожжением. 24 декабря сего 1882 года, в присутствии смотрителя Алексеевского равелина и унтер-офицеров Игнатия Прокофьева и Федора Блинова, сожжены нижеследующие вещи: армяк серый – 1, штаны – 1, шапка – 1, полушубок дубленый – 1, пальто летнее драповое – 1, пиджак летний – 1, рубашка теплая фланелевая – 1, подштанники – 1, галстух статский –1, шляпа котелком – 1, рукавицы замшевые с теплыми варегами – 1 пара, шерстяные чулки – 1 пара, полусапожки – 1 пара и платок – 1. Присовокупляю, что еще оказались очки с футляром, которые были разбиты и брошены в печь; о чем свидетельствуем своими подписями…»
Тут конец житию Сергея Геннадиевича Нечаева.
31
Можно подвести итоги режиму графа Д.А. Толстого, П.В. Оржевского, В.К. Плеве и И.С. Ганецкого, освященному Александром III и проведенному штабс-капитаном Соколовым. Оставляем в стороне Л.Ф. Мирского, у которого была своя судьба, и С.Г. Нечаева, погибшего в камере № 1 21 ноября 1882 года. Группа из пятнадцати человек! Из них в июле – сентябре 1883 года умерло четверо: Клеточников, Баранников, Тетерка, Ланганс – и в 1884 году двое: А. Михайлов и Колодкевич. Сошло с ума двое: Игнатий Иванов и Арончик. Получили начало душевного расстройства, развившегося впоследствии, трое: Исаев, Щедрин и Поливанов. И только Морозов, Тригони, Фроленко и Попов прошли через Алексеевский равелин и Шлиссельбургскую крепость. Итого на 15 человек – умерших 6, сошедших с ума 2 и тронувшихся в уме 2 – Исаев и Щедрин – 66,6 % убыли, и это за 2 года 4 месяца заключения!
Вторая группа заключенных в равелине, перевезенная сюда в ночь на 29 апреля 1884 года, с закрытием равелина была перемещена в Шлиссельбургскую тюрьму. Их было семь: Богданович, Буцевич, Геллис, Грачевский, Златопольский, Минаков и Мышкин. Их ждала такая судьба: Минаков и Мышкин были расстреляны в Шлиссельбургской тюрьме, Грачевский там же кончил с собой самосожжением, а остальные там же умерли: в 1885 году – Буцевич, Златопольский, в 1886 году – Геллис и в 1888 году – Богданович.
32
А Мирский, неведомо ни для кого из своих соседей по заключению, погибавших от режима, содержался по-прежнему «на исключительных условиях» от других арестантов, т. е. получал улучшенную пищу и пользовался правом чтения книг. Но и исключительные условия не спасли его от цинги. Начальство вспомнило об услугах Мирского, и 23 июня 1883 года последовало высочайшее соизволение на отправление Леона Мирского для дальнейшего отбывания наказания в Сибирь, на каторгу. В ночь на 26 июня Мирский был переведен в Трубецкой бастион, а 15 июля он был сдан под расписку жандармскому капитану для доставления в Дом предварительного заключения. За время с 1866 года это был первый случай, когда заключенный был куда-то перевезен из стен равелина. Заточенные или здесь умирали, или же отсюда переводились в больницу для умалишенных. Только эти два исхода и были.
Мирский не знал о том, что его переводят на каторгу в Сибирь, и, прибыв в Трубецкой бастион, сейчас же обратился с почтительно-фамильярным письмом к Его Высокопревосходительству господину коменданту. «Мне, к сожалению, не сказали, надолго ли я переведен из равелина. Если мое пребывание в бастионе продлится более или менее долго, то я прошу Ваше Высокопревосходительство приказать выдать мне новый халат, новое одеяло, а то я боюсь заразиться, так как полученная мною одежда имеет вид крайне подозрительный. Сверх того, у меня нечего читать. Из равелина принесли журнал «Дело», но я уже прочитал все эти книги и могу их возвратить. Будьте добры, прикажите или выдавать мне книги из библиотеки бастиона, или – еще лучше – пришлите мне «Отечественные записки» за вторую половину 1882 г., о чем я имел честь просить Ваше Высокопревосходительство в половине текущего месяца. Еще есть у меня убедительнейшая и покорнейшая просьба к Вашему Высокопревосходительству, и надеюсь, Вы не отвергнете ее, потому что дело идет о сохранении моего здоровья и жизни. Прикажите ради бога устроить надлежащую вентиляцию в моем номере, в равелине. В последнее время у меня стала побаливать грудь, и вообще обнаружилось некоторое повреждение легких от недостатка воздуха. Кроме того, цинга до сих пор не прошла. Поэтому я умоляю Вас, мой благодетель, прикажите вставить один вентилятор в левом углу окна, так чтобы единовременно действовали два вентилятора в окне и один в стене. Притом я бы просил, чтобы в новом вентиляторе дырочки были хоть сколько-нибудь побольше. Я твердо надеюсь, что Ваше Высокопревосходительство не забудете об этой важной просьбе. Вашего Высокопревосходительства покорн. слуга Мирский. 26 июня 1883 г.».
Это – последнее документальное известие о пребывании Мирского в С.-Петербургской крепости.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































