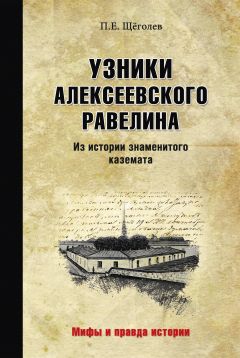
Автор книги: Павел Щеголев
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
5
В то время, когда Нечаев начинал новый период своей жизни в Алексеевском равелине, комендантом Петропавловской крепости был генерал от кавалерии Николай Дмитриевич Корсаков, старик 74 лет от роду (умер 1 мая 1876 года), а смотрителем равелина был корпуса жандармов майор Игнатий Михайлович Пруссак. Ему было за 50, и в должности он состоял недолго, с 1871 года (умер 19 апреля 1873 года). А под его началом несли караульную службу солдаты из местной инвалидной команды. В момент заключения Нечаева в равелине находился только один заключенный – «таинственный узник» равелина, несчастный Бейдеман, сидевший в номере 15-м равелина.
Комендант, конечно, был предварен, да и сам мог догадаться, что к Нечаеву, как преступнику совершенно выдающемуся, должны быть применены меры самого тщательного надзора. Случай был исключительный, небывалый еще в практике равелина, и комендант счел нужным обратиться с нарочитым наставлением к смотрителю Алексеевского равелина майору Пруссаку – и преподать ему следующую инструкцию, конечно совершенно секретную:
«Заключенного вчера по высочайшему повелению в Алексеевский равелин, лишенного всех прав состояния, бывшего мещанина города Шуи Сергея Нечаева [набранные разрядкой[2]2
Вместо разрядки в настоящем издании используется курсив. – Примеч. ред.
[Закрыть] слова в подлинном предписании тщательно зачеркнуты] предписываю содержать в отдельном каземате под № 5, под самым бдительным надзором и строжайшею тайною, отнюдь не называя его по фамилии, а просто нумером каземата, в котором он содержится, и расходовать на продовольствие его по 50 коп. в день.
Причем в дополнение к имеющимся у вас правилам относительно наблюдения за заключенными в равелине считаю долгом подтвердить к точному и неупустительному исполнению:
1. Ключи от нумеров арестованных хранить лично при себе.
2. Вход к арестованным утром для уборки, подачи чая, обеда, ужина и во всех других случаях производить не иначе, как в своем личном присутствии.
3. Посещая арестованных, каждый раз обращать особенное внимание на окна, железные решетки, полы и печи и на прочность замка у дверей.
4. При каждом нумере, в котором содержатся арестованные, иметь отдельные посты, и, кроме того, к окну последнего доставленного преступника ставить с наружной стороны на ночь часового.
5. Заключенного вчера преступника ни в сад, ни в баню без личного моего приказания не выводить.
6. Стрижку, в случае надобности, волос производить также с личного моего разрешения в вашем присутствии и непременно одним из людей равелинной команды.
7. Обратить строгое внимание на нравственность и увольнение со двора нижних чинов, отпуская их не иначе, как с соблюдением указанного в инструкции порядка.
Что же касается лично вас, то я убежден, что, сознавая всю важность занимаемого места и то особенное к вам доверие, вы, конечно, не позволите себе не только выхода без разрешения моего из крепости, но и отлучек из самого равелина, исключая служебных случаев».
Инструкция была затребована в III Отделение и по просмотре не встретила возражений.
Но в тот порядок содержания заключенных в равелине, который определялся этой инструкцией, были внесены изменения введением нового института окарауливания. Появление столь прославленного революционера в Алексеевском равелине заставило власти насторожиться и подтянуться. Тот надзор, который был установлен для равелина и осуществлялся часовыми из местной команды, отряженной в равелин, под непосредственным наблюдением смотрителя и его помощника, показался высшему начальству недостаточным, и оно ввело новое звено в ту цепь, которая сковывала заключенного: учредило в равелине институт т[ак] н[азываемых] присяжных унтер-офицеров. Они были подчинены смотрителю, но им принадлежал прямой и неуклонный надзор и за арестованными, и за теми, кто их караулит, т. е. часовыми, – в сущности, они наблюдали и за смотрителем [для Петропавловской крепости наблюдательная команда за внутренним порядком в арестантских помещениях крепости, состоявшая из 12 присяжных унтер-офицеров, была учреждена по высочайшему повелению 23 февраля 1870 года].
Присяжные несли суточное дежурство. Дежурный унтер-офицер должен был неотлучно находиться в равелине и помещаться в одной из комнат, в сущности в камере равелина; поддежурный должен был выходить с арестованными на прогулку и в баню, а остальное время неотлучно пребывать в помещении для команды, находившемся при равелине, и быть наготове заменить дежурного в случае его болезни. Присяжный обязан был смотреть за часовыми и за дневальными, наблюдать чистоту и порядок в доме, следить за действиями арестованных «с большой осторожностью и незаметным для них образом чрез стекла, устроенные в дверях арестантских помещений». Присяжному строжайше запрещено было входить в разговор с арестованными и принимать от них какие-либо заявления. Ключи от камер были у смотрителя, и без смотрителя двери камер не открывались. Инструкция рекомендовала вообще не открывать камеры более трех раз в сутки: утром для уборки, днем для обеда и вечером для вечернего чая. Все эти операции производились в присутствии смотрителя; вывод заключенного на прогулку в сад или в баню производился самим смотрителем при дежурном присяжном. Если в камеру входил кто-либо из лиц, имеющих на то право (шеф жандармов, комендант, доктор, священник), то кроме смотрителя их должен был сопровождать и присяжный и оставаться в камере; только получив специальное приказание смотрителя, он мог оставить арестованного и ждать окончания визита за дверью. Вот вкратце обязанности присяжных унтер-офицеров по специально составленной для них инструкции.
Для осуществления жандармского надзора были назначены в марте 1873 года унтер-офицеры: Захар Федоров, Афанасий Мартынов, Александр Александров, Николай Исаков. Последние два прослужили в равелине вплоть до катастрофы, которая разрушила равелин и сломала их личную жизнь.
Для того чтобы общий очерк условий заключения вышел полным и картина жизни в равелине законченной, к той характеристике уклада заключения, которую дает только что приведенная инструкция, остается добавить немногое.
На заключение в равелине и на освобождение из равелина требовалось специальное высочайшее разрешение. Сношения заключенного с внешним миром обрывались, лишь только он переступал мост, отделявший равелин от остальных помещений крепости. Заключенный должен был забыть, что за стенами равелина у него оставались друзья, родные. Лишь в исключительных случаях, вызывавшихся нарочитыми соображениями, давались свидания и дозволялась переписка – всякий раз с высочайшего разрешения. Самое употребление письменных принадлежностей позволялось в силу особого разрешения; как правило, они не допускались в камере. Чтение тоже должно было быть разрешено, но для удовлетворения этой потребности существовала библиотека равелина, в которой держались преимущественно книги духовно-нравственного содержания. Правда, давались книги и из библиотеки Трубецкого бастиона, но это делалось не всегда, да и там библиотека долгое время не пополнялась. Вход в камеры равелина, помимо служащих в самом равелине, был дозволен шефу жандармов, коменданту, врачу и священнику; последним двум – «в крайнем случае, с личного приказания коменданта».
6
Первый обряд по заключении в равелин – сдача казенных вещей, которые были на Нечаеве, и прием от него собственных – был выполнен на другой же день. Собственных вещей было немного: шапка теплая с бобровым околышем, шляпа летняя поярковая, пальто черного сукна, пиджак, полусапожки, брюки драповые, жилет, рубаха, подштанники, пара запонок к рубашке медных. На описи вещам собственноручная запись Нечаева: «Читал и нашел верным. № 5».
Казенные вещи, снятые с Нечаева, были препровождены в III Отделение при рапорте коменданта. На рапорте пометка: «Уведомить о получении, но вещи передать покуда в денежную кладовую для хранения, не обнаруживая, чьи они». Очевидно, начальство III Отделения хотело сохранить пребывание Нечаева в крепости в секрете даже от своих чиновников. [Впоследствии. 27 апреля, вещи были возвращены коменданту.] Когда был прислан первый, по заключении Нечаева, отчет о денежном расходе по равелину, то отдано было приказание не передавать ведомость, по заведенному порядку, в делопроизводство, ведавшее приходом и расходом, так как на ведомости значилось вместо одного (Бейдемана) два заключенных, и легко было догадаться, кто второй. С этого момента все бумаги по равелину хранились особо секретно непосредственно у управляющего III Отделением.
Граф П.А. Шувалов решился на экстраординарную меру, очень огорчившую коменданта крепости. Он потребовал, чтобы подчиненный коменданту смотритель равелина майор Пруссак сделал ему личный доклад о положении Нечаева в ближайшую пятницу и затем еженедельно по пятницам утром представлял ему через управляющего III Отделением донесения о состоянии Нечаева. Комендант крепости был крайне встревожен и обижен таким обращением к майору Пруссаку помимо него и имел объяснения с управляющим Отделением. От имени графа П.А. Шувалова было написано ему письмо, золотившее пилюлю. Кроме того, комендант был приглашен к графу Шувалову и для личных изъяснений 8 февраля в 4 ½ часа дня. В результате объяснений еженедельные записки представлялись не прямо смотрителем, а комендантом. [Часть записок сохранилась и в оригиналах смотрителя, и в воспроизведениях канцелярии коменданта. По большей части, комендант воспроизводил рапорты смотрителя буквально или, изменяя немного текст, обычно смягчал его.]
Такие еженедельные бюллетени о здоровье и времяпровождении Нечаева представлялись в течение длинного ряда лет; А.Ф. Шульц, покидая должность управляющего III Отделением, обратился 16 ноября 1876 года с письмом к коменданту крепости барону Е.И. Майделю, в котором просил его «известные письма, которые он в продолжение стольких лет адресовал на имя его, Шульца, совершенно секретно и в собственные руки, посылать впредь на имя товарища шефа жандармов свиты Е.В. ген. – майора П.А. Черевина».
В архивных делах сохранилось незначительное количество этих записок; быть может, со временем, с приведением к концу разбора всех разрозненных бумаг и дел архива департамента полиции, найдутся и остальные записки. Но и сохранившихся бюллетеней достаточно для того, чтобы оценить и совершенную исключительность отношения русского правительства к Нечаеву, и своеобразный высокий интерес этих документов для воссоздания жизни Нечаева в равелине. Мы не можем вспомнить из истории, русской и западной, аналогичного примера столь хронической мемуарной деятельности тюремщиков.
Нельзя сказать, что все эти меры принимались исключительно в целях предупреждения побега. За целость Нечаева ручались крепкие стены, двойные – крепости и равелина, – и начальство могло быть спокойно: отсюда еще никто не убегал. В осторожности начальства было много внимательности, быть может, даже с оттенком некоторой боязливости: что же, Нечаев человек отчаянный и на все может решиться! Но чем диктовалось внимание предупредительное, отношение снисходительное, необычное в строе равелинной жизни? Казалось бы, начальство бросило Нечаева в каземат, крепко заперло… чего же больше? Враг раздавлен: об нем можно было бы и забыть! Ведь был же забыт Бейдеман, который и равняться не мог с Нечаевым в ранге активного революционера. Нет, начальство – от смотрителя до шефа жандармов и царя – носилось с Нечаевым, по пятницам имело удовольствие читать бюллетени о его здоровье, заботилось о его чтении, приобретало ему книги, проявляло даже некоторую ревность друг к другу, как было в рассказанном случае обиды коменданта. Объяснения такого отношения могут быть даны только в плоскости построений психологических.
Правительство употребило все силы к тому, чтобы дискредитировать личность Нечаева, представить его человеком ничтожным, бездарным, беспринципным, безнравственным, но про себя оно так не думало: по крайней мере, не думали так, не могли думать так те высшие представители власти, которые приходили в непосредственное соприкосновение с Нечаевым. В боязливом и почтительном изумлении они должны были убедиться в том, что вера Нечаева в свой революционный идеал была безгранична и непоколебима, исключительна до фанатизма. Люди III Отделения не верили в православного Бога так, как Нечаев верил в русскую революцию: в частности, в судебном своем деле он верил в свою правоту – и эта его вера своей глубиной, громадностью и непреложностью смущала его следователей, судей, высоких тюремщиков – что бы они там ни декламировали о Нечаеве и как бы ни старались от самих себя скрыть такое воздействие фантастической личности, – смущала до такой степени, что они теряли при обращении с Нечаевым свой обычный тон, свою манеру. Правительство в лице III Отделения хотело бы только уничтожить Нечаева и не решалось сделать это сразу и окончательно, хотело бы только забыть о нем и боялось отдаться забвению, хотело бы все свои чувства к нему заключить в одном – чувстве презрения – и не могло. В отношениях III Отделения к Нечаеву не было спокойствия и выдержки; на протяжении его заточения оно не раз нервничало: уж не заражалось ли оно нервностью Нечаева? От послаблений режима начальство с каким-то сладострастием переходило к ожесточению, к мучительству. Осудив Нечаева, бросив его в крепкие и верные казематы равелина, одержав победу, правительство должно бы успокоиться и выйти из состояния войны с Нечаевым, но мы можем с полной определенностью утверждать, что оно не прекратило войны и продолжало вести ее с Нечаевым, заточенным, заключенным, и вело ее до самой смерти Нечаева. В безмолвной тишине равелина шла самая подлинная война. Враг был захвачен, связан, но не был побежден, ибо не было в нем тени раскаяния, не было атома признания власти победителя, ни в малейшей доле он не поступился своими убеждениями. III Отделение набило руку, работая над живым материалом, над душой и совестью человека; оно считало свою работу конченной не тогда, когда открывало корни и нити, а тогда, когда приводило к раскаянию, к душевному ослаблению своих пленников, пусть только временному, на время следствия, заключения. Сколько их прошло, начиная с декабристов, молодых, пылких, убежденных, и сколько из них, попадая в неволю III Отделения, испытывало чувство унижения своего я, несло какой-то ущерб своей цельной духовной личности, выходило с каким-то моральным изъяном! Нечаев не изменил своей революционной цельности, и эта непреклонность не могла не раздражать, не волновать специалистов по психологии из III Отделения, не вызывать и не питать стремления сломить этого упорного человека. Положение Нечаева было иное: он не считал себя побежденным, ибо так же блистательно, как и на свободе, светило ему солнце грядущей русской революции, и он был готов вести войну в твердой надежде, что победа будет за ним. Этой войной была заполнена вся его жизнь в равелине.
7
9 февраля смотритель равелина представил первое донесение следующего содержания:
«Арестованный в доме Алексеевского равелина под № 5 с 2 по 9 февраля вел себя покойно и был вежлив. Встает утром постоянно в 7 и ложится спать вечером около ½ 10-го час, кроме 2 февраля, в которое утром встал ¾ 8-го и лег спать в 11 ½ час. ночи. Спит вообще хорошо.
В продолжение всего времени днем читает «Военный сборник» 1869 г., часто ходит по комнате и редко ложится на кровать; в последнее время более стал приветлив, лицом веселее и начал смотреть в глаза, тогда как прежде избегал встреч, отвечал отрывисто, резким тоном, с опущенными глазами и понуренной головой.
Кроме изложенного, 4 февраля утром обратился к смотрителю Алексеевского равелина с просьбою дать ему клочок бумаги, чернил и перо для написания каталога книг, которые, как выразился, желал бы прочитать, а после обеда объявил: «Я не так утром передал мое желание насчет книг: так как я участвовал прежде в разных изданиях и привык к умственному труду, то прошу испросить позволение снабдить меня нужными книгами с французско-немецко-русским словарем, а равно бумагою, чернилами и пером для литературных занятий; я очень хорошо понимаю свое положение, может быть, я здесь и жизнь кончу, но все-таки хотелось бы не оставаться без всякого дела; согласитесь, рассудок потерять надобно; будьте добры, попросите коменданта, я уверен, что и III Отделение в этом мне не откажет».
6 февраля, когда был подан обед, снова повторил вышеупомянутую просьбу, дополнив: «Я очень доволен и сознаю, что я не в Турции, а в России, уверяю, что ничего либерального писать не желаю, а хочу заняться чем-либо историческим, потому и прошу материала, иначе с ума сойдешь».
Следующий бюллетень, за неделю с 9 по 16 февраля, не сообщил ничего нового о жизни Нечаева:
«Арестованный в доме Алексеевского равелина под № 5 с 9 по 16 февраля вел себя покойно и вообще вежлив. Регулярно вечером ложится спать в 10 и утром встает в 7 часов, ночи спит хорошо и здоров. Уборка № производится без изменения прежним порядком. Утром в 8 ½ часов – чай, в 12 ½ ч. – обед, а в 6 часов вечера – чай; аппетит всегда особенно хорош. Днем и вечером до сна читает «Военный сборник» за 1870 год, ходит и редко ложится на кровать, – все благополучно» [мы привели бюллетень в редакции майора Пруссака; в изложении коменданта он вышел короче].
И первый, и второй бюллетени были доложены царю.
Все просьбы Нечаева были удовлетворены самым предупредительным образом. Граф Шувалов словесно через коменданта разрешил Нечаеву заниматься литературным трудом. В камеру Нечаева были выданы письменные принадлежности, и III Отделение взяло на себя заботы о доставке ему книг.
9 февраля комендант переслал в III Отделение написанный Нечаевым следующий список книг, нужных ему для работы: «Словарь Рейфа» (часть немецко-русская), «Всеобщая история» Вебера (пространное издание), «Политическая экономия» Джона Стюарта Милля, «Статистика» Кольба, «История XIX столетия» Гервинуса, «История восемнадцатого века» Шлоссера, «Русская история» Соловьева, «Histoire de la Revolution Française» par Louis Blanc, «Histoire de la Revolution de 1870–71» par Jules Claretie» [ «История французской революции» Луи Блана, «История революции 1870–71» Жюля Кларети].
Прошла неделя, никакого движения по делу Нечаева не было, и комендант счел нужным обратиться к управляющему III Отделением А.Ф. Шульцу с новым побуждением: «Милостивый государь Александр Францевич. Вследствие словесного разрешения его сиятельства графа Петра Андреевича на дозволение известному арестанту заниматься литературным трудом, я при отношении от 9 февраля за № 35 препроводил к Вашему Превосходительству каталог книг, которыми он просит снабдить его для означенной цели. Не получив на это ни уведомления, ни книг, я имею честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь, не признаете ли возможным поставить меня в известность о том, какое по сему предмету последовало распоряжение со стороны III Отделения, присовокупляя, что если будет разрешено выдать книги, то из числа просимых им имеется в библиотеке равелина 16 томов «Истории России» Сергея Соловьева и 5 томов «Истории цивилизации Англии» Бокля».
Граф Шувалов положил резолюцию: «Известному арестанту могут быть отпущены те книги, которые упоминаются в каталоге, за исключением разве сочинения Louis Blanc, о чем и уведомить ген. от кав. Корсакова». Но как же быть с теми книгами, которые были в списке Нечаева и которых не было в библиотеке равелина? На докладной записке с изложением недоумения граф Шувалов написал: «В случае затруднения мы можем выручить, и в этом смысле может быть написан ответ коменданту». 20 февраля «в этом смысле» было написано коменданту, что он может распорядиться купить для Нечаева нужные ему книги с отнесением их стоимости на сумму, отпускаемую на содержание секретных арестантов.
Пока шла переписка о книгах, птичка показала коготки. Пресытясь, очевидно, чтением «Военного сборника», Нечаев возвысил свой голос. Произошло первое столкновение, о котором царь и III Отделение осведомились из третьего бюллетеня.
«Арестованный в доме Алексеевского равелина под № 5 с 16 по 23 число сего февраля вел себя покойно, читал «Военный сборник» за 1871 год, все благополучно, кроме 19 числа, в первый день поста, когда был подан ему обед постный, на каковой, взглянув, подобно хищному зверю, отозвался дерзким и возвышенным голосом, с презрительной улыбкой: «Что это меня хотят приучать к постам и, пожалуй, говеть? Я не признаю никакого божества, ни постов, – у меня своя религия; прошу вас, дайте мне тарелку супу, кусочек мяса, и я буду доволен», – почему в ту же минуту был остановлен, и сделано строжайшее напоминание с тем, если на будущее время позволит себе такой наглый разговор, будет возвышать голос и выражаться дерзко, то к укрощению подобного зачерствелого невежества будут приняты меры. «Что же касается супу и мяса, ты получишь! Но помни, это последняя снисходительность», – после чего совершенно молчалив, держит себя воздержаннее и вежлив. 21-го вечер постоянно ходил, часто поднимал руки на голову, был задумчив и лег спать только в ½ 2-го часа пополуночи». [Мы привели бюллетень в редакции майора Пруссака. В представленном в III Отделение отчете комендант значительно смягчил краски, наложенные простодушным майором. Комендант не хотел, чтобы этот инцидент привлек внимание III Отделения, и потому дал ему следующее изложение: «Нечаев, взглянув на кушание, с презрительной улыбкой и возвышенным голосом обратился к смотрителю: «Что это значит? Меня хотят приучить к постам и, пожалуй, к говению? Я должен вам сказать, что не признаю никаких религий, у меня своя вера, прошу дать мне тарелку супу и кусочек мяса, и я буду доволен». Затем, после сделанного ему смотрителем замечания быть умеренным в претензиях и выражать свои желания более скромным образом, был подан мясной обед, то он начал извиняться». Таким образом, III Отделение не узнало о манере обращения смотрителя, но зато комендант заключил инцидент извинениями Нечаева, о которых смотритель в своем докладе не сообщал ничего.]
Инцидент не получил дальнейшего развития. За это время пришли наконец книги, и в представленном 9 марта бюллетене содержались известия утешительного характера: «Известный арестант продолжал вести себя покойно и все более и более осваивался с своим положением, до 8 марта занимался чтением журнала «Русский вестник», а теперь приступил к рассмотрению переданных ему книг для литературного труда. С вчерашнего числа в комнате его находятся чернила, перо и бумага, появлением которых он очень обрадовался и объявил, что будет писать историю государственного права.
Письменные принадлежности будут оставаться у него в комнате до сумерок, в это время по окончании чая будут отбираемы и вновь вносимы утром, в 9 часов».
Но безоблачность настроения исчезла, лишь только в равелине появился новый элемент: жандармы. Мы уже упоминали о том, что до появления Нечаева равелин охранялся постоянной командой из нижних чинов крепостного гарнизона; для вящей уверенности III Отделение в дополнение к ним назначило еще также постоянную команду из жандармских унтер-офицеров. Вспомним то впечатление, которое осталось у Нечаева после столкновения с жандармами на суде в Москве, и мы поймем его настроение, о котором сообщал бюллетень за неделю с 9 по 15 марта:
«Известный арестованный с 9 марта вел себя спокойно, был весел и вежлив, 11-го же числа, когда утром при уборке комнаты в первый раз вошел к нему дежурный жандармский унтер-офицер, то, видимо, был поражен появлением новой личности.
После чего сделался задумчив и раздражителен и стал относиться к смотрителю с недоверием. 13-го числа вечером объявил, что чувствует себя не совсем хорошо, почему был приглашен к нему доктор, который, не найдя ничего особенного, предложил поставить горчичник и дать касторового масла. 14-го числа ничего не ел и не пил чая, из опасения, что его хотят отравить, причем выразил настоятельное желание видеть коменданта, объявив, что до тех пор, пока не переговорит с ним, не будет принимать никакой пищи.
Вследствие чего 15 марта утром он был посещен комендантом, которого встретил почтительно и, выслушав с полным доверием и покорностью сделанные ему увещания, успокоился и по-прежнему стал принимать пищу и заниматься чтением.
Доктор Окель, посещавший его в течение этого времени два раза, признал необходимым выводить его по временам на прогулку, почему он при хорошей погоде будет пользоваться таковою в равелинном саду ежедневно около часа».
Но посещение и беседа коменданта, очевидно, не успокоили Нечаева, и очень скоро случилось новое столкновение с новым смотрителем, жандармским майором Бобковым. Из безграмотного донесения сего майора нам не ясны ближайшие поводы к столкновению, но оно было вызвано жизненными интересами Нечаева, ибо в результате он объявил голодовку. Вот что писал Бобков:
«С 28 марта по 4 апреля уборка №, подача чаю, обеда была в обыкновенное время, на прогулку в сад ходили во время хорошей погоды под надлежащим присмотром.
Сего 1 апреля при подаче обеда в № 5 арестованному, который от него отказался, при входе же моем в № я его спросил: чего он хочет; он начал меня ругать неприличными словами, схватил стул, бросил его в меня, но дежурный жандармский унтер-офицер его не допустил и получил удар по левой руке, на которой образовалась опухоль, и в это время начал произносить разные слова про государя императора, – что меня оклеветали противу государя императора, будто бы я посягал на его жизнь, меня посадили сюда не для того, чтобы морить с голода, а ожидать конституции, которую обещал государь дать через год, и тогда меня из каземата выпустят.
С 1-го же по 5 апреля не употребляет никакой пищи и ни чая».
Сообщая о новом столкновении Нечаева, комендант в своем докладе в III Отделение смягчил опять краски, умолчав, например, о восклицаниях Нечаева по адресу царя, в то же время в объяснение раздражительности комендант сообщил некоторые данные и представил свои извинения.
«Содержащийся в Алексеевском равелине известный преступник, – писал комендант графу Шувалову, – с некоторого времени находится в крайне раздражительном состоянии: он с 1 апреля упорно лишает себя пищи под предлогом недоброкачественности и выражает неудовольствие на смотрителя майора Бобкова, обращаясь к нему с бранью и упреками, что его посадили в заточение с исключительною целью уморить голодом, но что в этом ошибутся, так как он скорее сам покончит с собой. Причем он 1 апреля при входе смотрителя в нумер бросил в него стулом, но жандармский унтер-офицер успел устранить полет оного. Кроме того, пользуясь дозволением заниматься в нумере литературными занятиями, написал записку, наполненную претензиями и преступными выражениями.
При посещении моем 4 апреля вместе с доктором Окелем означенного преступника я нашел его в утомленном состоянии и с полною претензиею на грубое обращение с ним смотрителя.
Доведя о сем до сведения Вашего Сиятельства, имею честь доложить, что претензии преступника на неудовлетворительность пищи не заслуживают никакого внимания, так как таковая готовится из самых свежих продуктов в числе 3 разнообразных блюд, так равно нельзя допустить вероятия и в грубом обращении с ним смотрителя, который по характеру своему скорее может быть снисходителен, чем строг».
И это столкновение не сопровождалось никакими последствиями для Нечаева. Не следует ли приписать этому столкновению временную замену майора Бобкова капитаном Соболевым? Нельзя выяснить, последовало ли улучшение пищи в ответ на заявление Нечаева об ее недоброкачественности.
Главный интерес и главная поддержка Нечаева в его заключении были книги. Борьбу за книги он вел во все время своего пребывания в равелине и настойчиво требовал от коменданта и III Отделения удовлетворения своих просьб о книгах. Он прибегал для этого к недозволенным способам обращения с начальством, а именно: на бумаге, выдаваемой ему для литературных работ, Нечаев… о ужас!.. осмеливался писать свои просьбы о книгах. О таком дерзком поступке, с извинениями за его допущение, писал комендант 20 апреля 1873 года: «Содержащийся в Алексеевском равелине арестованный под № 5, воспользовавшись выданною ему по счету бумагою для литературного труда, написал на мое имя прилагаемое у сего заявление о снабжении его дополнительно к искупленным по первой его просьбе еще новыми книгами, которое и передал состоящему в должности смотрителя капитану Соболеву во время утренней уборки комнаты и подачи чая.
Препровождая означенное заявление на усмотрение Вашего Превосходительства, имею честь присовокупить, что мною сделано строгое внушение, чтобы он на будущее время отнюдь не позволял себе без разрешения пользоваться бумагою для написания каких бы то ни было заявлений или просьб, предварив при этом, что в противном случае он будет лишен возможности иметь у себя в нумере письменные принадлежности».
«Незаконное» прошение Нечаева было следующего содержания:
«Г. коменданту Петропавловской крепости. Генерал! Если сочтено, на основании каких-либо соображений, неудобным доставить мне книгу Луи Блана «Histoire de la Revolution Française», – то позвольте просить вас заменить оную следующими сочинениями, допущенными в России:
«Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften» von Robert von Mohl [ «История и литература общественно-политических наук» Роберта Моля].
2. «La guerre et la paix» par Proudhon [ «Война и мир» Прудона]
3. «Revue des deux Mondes» [ «Журнал двух миров»] – за первую половину 1872 года, в книжках которого помещались мои статьи, весьма нужные мне теперь для работы, мною начатой.
Мне доставлены только 2, 3 и 5-й томы «Истории XIX века» Гервинуса; если остальных нет в русском переводе, то для меня все равно, или еще удобнее иметь их на немецком. Это сочинение озаглавлено в оригинале так: «Geschichte des XIX Jahrhunderts».
Позвольте надеяться, генерал, что эта просьба не встретит отказа и я не буду лишен возможности продолжать литературный труд, единственно привязывающий меня к жизни и до окончания которого у меня только и хватит сил дотянуть мое существование.
У моей сестры должна находиться небольшая библиотека русских и французских книг, оставшихся после меня, когда я отправился в эмиграцию. Так как мне не было дозволено даже и видеться с сестрой, то я не знаю, в целости ли теперь эта библиотека. Неужели окажутся препятствия для того, чтобы навести справки относительно этих книг и доставить их мне, если они целы? Если препятствий нет; то я прошу у Вас позволения отправить к сестре маленькую записку касательно этого предмета.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































