Текст книги "Атаман Платов (сборник)"
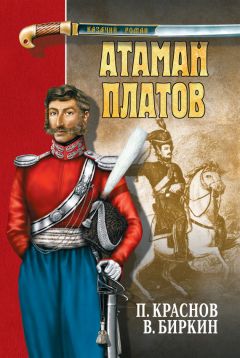
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
– Я подошел к Санькиному брату, – рассказывал он дальше, – и спрашиваю: ты что это подмигиваешь? – Тот смеется и тоже спрашивает: а ты разве не видел, что Санька пошел мыться? – Видел, – говорю, – ну, так что же? – Да то же, что он всегда так с нею поступает. Не скрывает вовсе, да и она нисколько не стесняется.
– А разве она не боится последствий?! – вырвалось невольно у меня.
– Каких последствий?! – захохотал Кутуков. – Ерунда! Теперь любая акушерка за пятишницу от любых последствий в два счета избавит.
При последних словах я даже остановился и во все глаза смотрел на юнкера Кутукова.
– Неужели правда все это?! – воскликнул я, пораженный его рассказом.
– Ей-Богу, истинная правда… Хочешь, пойдем вечером к Саньке. У него познакомишься с барышнями и, может быть, отобьешь у него красотку. Ты ведь теперь герой! Они на это падки…
Много еще болтал подвыпивший Кутуков, выкладывая мне тайны свободной жизни юношества. По его словам выходило, что почти нет ни одной гимназистки старшего класса, которую, по крайней мере, не целовали бы.
Подробно рассказал о романе и Володьки с Аней Степановой, о чем он знал от сестры. Наша Оля, Степанова и Кутукова были одноклассницы и поверяли друг другу тайны. Роман начался еще, когда Володька был юнкером. Переписка идет и по сию пору. Володька собирается жениться на Степановой, для этого хочет перевестись в Рязань, в Нежинский полк, – чтобы быть поближе к Аничке. Сам Степанов хочет жениться на старшей сестре Кутукова. Это хорошо, – она будет держать в руках этого красивого артиллериста.
– Вот оно что! – думал я. – Вот почему папа не любит общества молодых людей. Значит до него дошли кое-какие слухи и он боится, как бы и его дочек не образовали новые донжуаны. Если правда, что говорит Кутуков, так ведь это ужас. К таким господам, как Санька, наш Володька, Кутуков и прочая молодежь, нельзя и близко подпускать барышень. Обцелуют, обславят, а то еще и хуже сделают, Ну, куда теперь денется несчастная гимназисточка, любовница Саньки…
Глава IV. Столица
Прошла Пасха, отзвонили веселые пасхальные колокола, кончился апрель. А о переводе моем ни слуху, ни духу. Каждый день я заходил в офицерское собрание Нежинского полка или артиллерийской бригады и просматривал «Русский инвалид». Наконец, забил тревогу. Следовало бы самому ехать в С.-Петербург, да в кошельке было пусто. Папа предложил мне денег, и я тотчас уехал.
Останавливались и папа, и я в одних и тех же меблированных комнатах, недалеко от Николаевского вокзала. Сидя на высоте пятого этажа на балконе, любил я наблюдать красоту Невского проспекта. Мне пришлось за мою жизнь много ездить, без счета перевидал я городов, и русских, и заграничных, но такой улицы, как Невская першпектива, – не встречал нигде. Красота, величественная красота!..
Часам к 10 утра, затянутый в мундир, я уже ехал по знакомой дороге в Инженерный замок. Наверху широкой мраморной лестницы у входа в главное инженерное управление стоял старик-швейцар в повседневной синей ливрее.
– Еще рано, – доложил он мне. – Прием посетителей начнется с одиннадцати. Генерал Вернандер еще заняты.
Я был один. Стал прохаживаться по верхней площадке лестницы. Швейцар пристально приглядывался ко мне. Вдруг он подошел и почтительно задал вопрос, – не Биркин ли я? Меня это удивило, – я никогда не видал раньше этого старика.
– Откуда вы знаете мою фамилию? – спросил я его.
– По виду, ваше благородие, вы очень походите на вашего отца. Вот – силач был юнкер, мы все его знали. Вы не такой крупный, как он, но сходство очень большое. Так вот сразу вас и признал.
Я сказал ему, что тот крупный силач-юнкер был мой дядя, брат моего отца.
– Все равно сходство фамильное очень большое, – продолжал добродушно старик. – Я помню их еще юнкером… Я служил лейб-гвардии в саперном батальоне тогда. На разводе в Михайловском манеже мы стояли рядом с вашим училищем. Пришли рано. Холодно. Стали возиться по малости, чтобы согреться. Народ у нас в гвардии крупный, ребята все здоровые. Заспорили мы с юнкерами, кто сильнее. Правда, и юнкера были, как на подбор, тоже молодцы. Господа и говорят: давайте вашего самого сильного сапера, а мы дадим своего юнкера и посмотрим, чья возьмет, кто поборет.
– Мы, конечно, смеемся, – продолжал свой рассказ старик-швейцар, и лицо его светилось радостными улыбками воспоминаний юности. – Куды мол вам, барам, супротив нас, землеробов! Однако выставили, правду сказать, самого сильного, сухого да жилистого своего сапера, а юнкера – вашего дядю. Вышел он, мы и увидали сразу, что богатырь. Плечи, что арбузы, так из рукавов и лезут. Взялись они сперва по-русски навкрест, да наш ростом-то на голову повыше будет, – вашему-то дяде и неудобно. Однако и наш ничего сделать не может. Попробовал поднять, – куда там. Выгнул юнкер спину, и рука соскочила у нашего. Однако он рассердился и схватил вашего дядю одной рукой за шею, навзничь повалить хочет, а тот перехватил обе руки вниз, обхватил солдата под грудки и зажал. У обоих лица кровью налились.
Глаза старого солдата разгорелись. Он в увлечении дружелюбно взял меня за рукав.
– Послушайте, ваше благородие, что вышло-то: смотрим, у нашего богатыря и дыхание захватило. Сначала отпустил голову юнкера, потом, видимо, совсем задохнулся… прохрипел «пусти», да так страшно, что ваш дядя сразу его отпустил. Только руки отнял, так и грохнулся солдат на землю, да в обморок…
– Водой отливали. Стал такой бледный, что его даже домой отправили, другим заменили. Вовсе ослабел парень от барских клещей, – как мы потом смеялись. – Ну, что? – говорят юнкера. – Чья взяла? – Ваша взяла! – отвечаем мы. – Только оно понятно, – у вас пишша барская, харч настоящий, хлеб белый, а у нас с борща да каши откуда сил? – С той самой поры я и запомнил вашего дядю, так запомнил, что вот как посмотрел на вас, так и вас признал сразу. Лицо одно, только тот пошире и повыше вас был… А сила у вас тоже есть?
– Нет, – засмеялся я, – силы у меня совсем нет. Самого слабого сапера не поборол бы.
– Сила-то от Господа. Это верно… – философски заметил старик-швейцар. – Ну, что ж, пойду доложу о вас.
– Пожалуйте! – тотчас вернулся он и указал вход в кабинет генерала Вернандера.
Тот встретил меня очень ласково. Расспросил о здоровье. Видимо, уже знал обо мне. – А отчего же не перевели еще? – подумал я.
– О вас сделан запрос, согласны ли вы в Туркестан? – вопросительно посмотрел он на меня. Я так и обмер. Опять в глушь, опять за тридевять земель от родных. – Там нужны офицеры, – продолжал Вернандер, испытующе смотря на меня.
– Как прикажете? – ответил я, – лично мне хотелось бы в Севастополь. У меня было уже два раза воспаление легких.
– А!! Вот как… Это дело другое. – Генерал задумался. – Я ничего не могу сделать. Официально вакансий нет ни на Кавказ, ни в Севастополь. Одесса вам не подходит, да и там нет вакансий. Лучше всего я устрою вам аудиенцию у его высочества августейшего инспектора инженеров. Впишите вот в эту книгу, вот здесь, ваш чин, имя, отчество, фамилию… С Дальнего Востока… По болезни… Ходатайство о переводе на юг… Вот так! Отлично… – Наклоном головы генерал отпустил меня.
– Как дела, ваше благородие? – встретил меня на площадке швейцар. – Ага! К его императорскому высочеству… Хорошо, сейчас справлюсь… Через полчаса, – сказал он, вернувшись.
Действительно, через полчаса меня пригласили в кабинет великого князя. С почтением переступил я порог огромного полутемного кабинета. Что-то все очень уж хорошее, роскошное, но рассмотреть ничего не успел. Ко мне шел из глубины комнаты великий князь. Подошел почти вплотную. Высокий, на голову выше меня. Худой. Изящный. Величественный вид, настоящий князь. Золотые генерал-адъютантские аксельбанты. Он стал расспрашивать меня про войну, про работу. Отвечаю, а сам слежу за собой, чтобы не сбиться. Минут десять так меня расспрашивал князь, однако видно, что и он осторожен и вопросы задает обыкновенные.
– А зачем ходатайствуете о переводе? Нам офицеры нужны и на Востоке! – В голосе послышался упрек.
– Ходатайство возбуждено не по моему желанию, – ответил я, – а вследствие постановления комиссии врачей. Болел я немного, всего шесть недель и лично не просил о комиссии. Врачи признали сами, что климат Сибири вреден для моих легких. Я и здесь в училище болел воспалением легких.
– Так! Это дело другое. А зачем тогда сами явились сюда?
– Полюбопытствовал узнать что-нибудь о переводе, – отвечал я откровенно. – Через два месяца кончится отпуск по болезни и нужно опять ехать в Сибирь, а я полагал ехать уже к новому месту служения.
– Ваши однофамильцы, военные инженеры, как приходятся вам?
Доложил, что отец и дядя.
– Хорошо… Можете идти к подполковнику, – он назвал фамилию, – и скажите ему, что я разрешил вам взять любую вакансию по южному фронту.
– Покорнейше благодарю, ваше императорское высочество, – ответил я. Князь подал руку и крепко пожал мою. После этого я отступил, думая, что князь повернется и пойдет к себе. Но он стоял и продолжал смотреть на меня. Тогда я повернулся по уставу налево кругом и вышел из кабинета. Тот же швейцар поздравил меня с успехом и, поймав за рукав какого-то молодого писаря, сказал ему проводить меня к подполковнику.
В огромном зале, сплошь заставленном столами, сидели офицеры. К ним поминутно подходили писаря с бумагами. Я подошел к подполковнику и представился.
– Чем могу служить? – вежливо осведомился тот.
Я доложил.
– Тэк-с, – протянул он. – А куда вы желали бы?
– В севастопольскую крепостную саперную роту.
– Нет вакансий.
– Его императорское высочество разрешил мне избрать любую часть по южному фронту.
– Совершенно верно, но он не добавил: сверх комплекта-с.
Жалует Царь, да не милует псарь, – мелькнула у меня в голове старая русская пословица. Не идти же обратно к князю с жалобой на этого франта.
– Тогда можно ли в первый Кавказский саперный? – спросил я. Тифлис и гренадерское шитье на воротнике нравились мне тоже.
– Тоже нет вакансий! Есть в Туркестане.
– Никак нет, тогда разрешите пойти к генералу Вернандеру, Туркестан я не желаю. – Я собрался повернуться, но подполковник поднял руку.
– Кажется, во второй Кавказский есть вакансия. – Он порылся в столе. – Так и есть… Желаете?..
Что же поделаешь? – подумал я и согласился.
– Хорошо-с, недельки через две, три пройдет в приказе. Честь имею кланяться.
Дело было сделано. Думал немедленно вернуться в Рязань, но встретил Валю Горозеева и он затащил меня к себе домой. Собственно к своей мамаше, которая давным-давно разошлась с его отцом. Она жила уроками музыки. Тяжелая жизнь и либеральное общество студентов и студенток сделало и ее такой же неуравновешенной, настроенной революционно. У нее был целый склад журналов, выходивших во время свобод. Валя стал мне показывать все эти «Стрелы», «Молнии» и прочий социальный бред, с самыми грязными карикатурами, с нападками на правительство и полицию.
Особенно поразила меня картина, изображавшая улицу между двумя рядами трехэтажных домов. Улица залита кровью. Лежат убитые дворники, студенты, рабочие, городовые. Вверху два ангела уносят на небо студента. Убитый студент с браунингом в руке лежит распростершись на тротуаре, а его «чистую» душу ангелы влачат на небо. Зато внизу картины черти волокли в ад души городовых.
Валя весело смеялся и, указывая на карикатуры, говорил то за одних, то за других. Видимо, и он колебался в своих политических воззрениях.
– Почему журнал решил отправить студента-безбожника на небо? – спросил я Валю.
– Как безбожника? – удивился он.
– А разве ты не знаешь, что социал-революционеры отрицают и Бога!
– Это не эсеры, – вмешалась его мама, – а анархисты и боевики. Они действительно отрицают религию и даже Бога, говоря, что все произошло само собой. Впрочем, и эсеры почти все атеисты.
– Тогда зачем же они своих тянут на небо?.. А это что? – указал я на другой рисунок.
– Это Мин и Риман расстреливают железнодорожников на станции Перово. Беспощадно расправились!
– А разве революционеры не расправлялись в свою очередь беспощадно? – спросил я. – Кто начал первый кровопролитие?
Валя замолк. Мамаша собрала журналы, сложила их на этажерку и поджала губы. Разговор переменился. Валя рассказывал, что Ефимьев, фельдфебель первой роты нашего выпуска, навещал их довольно часто. Окончив академию, он пришел очень веселый и заявил, что только теперь он себя почувствовал настоящим офицером. Раньше стеснялся: так и казалось, что все смотрят, как на недоучку.
Это меня взорвало. Заявление Ефимьева, конечно, имеет свое основание. Все и повсюду вечно укоряют офицеров в том, что они не имеют высшего образования. Поэтому, мол, отсталые, ничего не знают, ничего не читают, бьют солдат и… проиграли войну. Таково мнение толпы, руководимой партийными вожаками. А мое мнение как раз обратное: нам помешали выиграть войну имению офицеры с высшим образованием.
– Вам это кажется удивительным, – обратился я к Валиной мамаше, которая смотрела на меня насмешливо. – Извольте-с факты: офицеры с высшим образованием, офицеры генерального штаба проиграли войну, а не мы. Это они, в силу высших тактических и стратегических соображений, начали бои с ничтожными силами и этим приучили японцев побеждать. Тюренчен, Вафангоу, Дашичао – все были ненужные сражения. В них мы потеряли веру в себя. Нужное же сражение, генеральное, мы выиграли. Мы, офицеры без высшего образования. Ляоян бесспорно выиграли мы, а нас заставили его бросить, отступить.
– Сама Ляоянская позиция, – продолжал я, не смущаясь явным несочувствием хозяйки, – построенная Ефимьевыми под руководством их гения, генерала Величко, оказалась никчемушной. Весь бой разыгрался на горах, впереди построенной ими позиции. Академический взгляд одно, а настоящее дело – другое. Поэтому пехотинцы и засели на горах, в наскоро вырытых окопах и раскатали японцев, отбив все атаки. Как видите, высшее образование наших инженеров-академиков нам не пригодилось.
Валя Горозеев и его мамаша смотрели на меня уже с некоторым сочувствием.
– Ну это были теоретики, – заметил Валя.
– Позвольте-с, дальше о практиках. Не вышло толку и из офицеров с высшим образованием генерального штаба. Сами они, образованные-то, не кинулись в бой, а сидели сзади да посылали дивизии и корпуса против Куроки по перекрещивающимся направлениям, без разведки, без связи, без руководства. Наши полки не столько бились с японцами, сколько перемешались между собой. Академики напутали так, что пришлось отступать, чтобы распутать. Выигранное сражение проиграли… Мукден – то же самое. Да и вся проигранная война так… Только необразованные недоучки своей кровью и отстояли еще честь армии и России. Можете все это передать господину Ефимьеву…
– Что же касается поднятия общего уровня знаний офицеров, – то это можно только приветствовать. Нам, саперам, нужен тоже диплом инженера. Нужен для того, чтобы не смели сказать, – не инженер-де, потому и ошибся. Только диплом не всеобъемлющий, как у военных инженеров, а поспециальнее и поближе к делу.
– Да и пехоте тоже нужен диплом высшего образования, чтобы не смели недоучками звать. Пусть устроят училища не с двухлетним курсом, а с трехлетним, даже четырехлетним и дадут им право высших учебных заведений. Вот это было бы дело. Тогда ни академия генерального штаба, ни инженерная, ни юридическая и не нужны. В штабы попадали бы прямо из строя лучшие и более способные к военному делу офицеры. Они бы не сидели по тылам и не берегли бы свое здоровье. Тогда, наоборот, каждый стремился бы вылезти вперед, чтобы выделиться, чтобы быть лучшим между лучшими.
– Как вышлю с Куропаткиным? Носились с ним: академик, профессор… ученик генерала Скобелева… Носились до тех пор, пока не увидели, что все пропадет, если его дальше оставить. Тогда обратились к неучу, солдафону Линевичу. Разве это не вселенская смазь академикам всяких сортов! Разве это не блестящее доказательство, что и все ваши академии – схоластика, а жизнь – истинная школа.
– Да вы сами революционер! – воскликнула мамаша Горозеева, смотря на меня уже совсем другими глазами. – А ведь правда. Взяли-то солдафона Линевича, не имевшего высшего образования. Вот изведу Ефимьева, когда придет.
Название «революционер» странным образом польстило мне. Удивительно, как даже маленькая похвала портит людей. В душе, по убеждениям, по жизни, наконец по врожденным привычкам я никак не мог бы даже стать похожим на революционера. А вот поди же… Похвалила малознакомая дама – и что-то зачесалось. А не из-за того же масса молодежи шла в их ряды… Из-за чувства мелкого удовлетворения личного тщеславия…
Ведь если революционеры хотели двигать жизнь вперед, улучшать ее, лечить от язв и недостатков, – то, казалось бы, путь прямой и один: иди на работу. Занимай должности офицеров, чиновников, полиции, жандармов, даже городовых и дворников. Личным примером и постоянной работой приноси пользу. Но это показалось им слишком серым, будничным и трудным. Да и орех не по зубам пришелся…
Там, в партиях лучше, там похвалы, геройство, привольная жизнь без работы и разнузданная свобода. Если Господь Бог захочет наказать, то Он отнимает прежде всего разум, – говорит народная мудрость. И Господь отнял тогда разум у русской интеллигенции, даже у многих представителей и носителей власти. Истинное наказание… Проиграли войну и теперь накинулись сами на свое – взялись разрушать государственную постройку – вместо улучшения ее и поправки. Все это мне стало ясно еще в Омске, куда мы попали прямо из Манчжурии. Короткое пребывание в столице теперь еще ярче подтвердило те выводы.
Глава V. Деревня
Пробыл в Петербурге я всего с неделю, а дома успела разыграться история. Младшие братья заболели скарлатиной. Мама с остальными уехала в Филатово, и меня по приезде отправили туда же. Скарлатина осложнилась у Кости. Его возили в Москву и делали трепанацию. За ухом образовался гнойник, угрожавший прорваться во внутреннее ухо, а там и до мозга недалеко. Врачи спасли Котьку, но папа провозился с ребятами до самого конца моего отпуска, и я его видел лишь урывками, приезжая изредка из деревни за закупками.
Филатово преобразилось. Петербургские родственники не хотели больше жить в старом растрескавшемся доме. Для них дядя Гриша выстроил дом в Николаевке между старым садом и железной дорогой.
Вся семья дяди уже переехала в деревню. Приехал также дядя Владимир Сергеевич. Он оставался по-прежнему парализованный и ходил на костылях. Сделался совсем седым и на вид стариком.
Мы наслаждались деревней вовсю. Купались, гуляли в роще, я ходил на охоту. Вечером нередко отправлялись целой компанией на станцию встречать поезда.
Главным воспоминанием о тогдашней деревенской жизни осталась бешеная жара в комнатах по ночам. Окна мы запирали ставнями из опасения, что мужички могут пошалить. Думали ли уже тогда мужички о шалостях или нет, – не знаю наверное. Очень уж далеко мы стояли друг от друга.
Случайно однако пришлось побеседовать и с мужичком, и беседа получилась примечательная. На купанье мы должны были ходить через громадный капустный огород. На нем – сторож, как водится, глубокий старик, до того ветхий, что нельзя было с ним разговаривать из-за глухоты. Иду как-то купаться, встречаю другого мужика. Поздоровались.
– Что думаешь делать? – спросил я. Вопрос естественный, – раньше я никогда не видал его около пруда.
– Да вишь, хотим карасей в пруде половить.
– Разве Григорий Сергеевич приказал рыбу ловить? – удивился я.
– Не-е, мы для себя… – угрюмо и смотря как-то в сторону ответил мужик.
– Разве позволил Григорий Сергеевич?
– Чаво там позволил?! – дерзко вскинул на меня глазами мужик. – Чать рыба-то Божья!
– Рыба-то Божья, – согласился и я, – да пруд-то дядин, а не твой.
– Да ён ничаво не скажет.
– Ну, коли не скажет, хорошо, лови себе на здоровье… А много карасей?
– Много… большие, в ладонь будут. Знаменитые караси. Да у яго и сетки-то нету… – оправдывался уже мужик. – А мы ничаво, мы половим малость и таё… Яму фатит.
– Хорошая капуста, – переменил я неприятный для нас разговор. – Чья капуста-то?
– Капуста?.. Капуста вишь не наша. Эфто место кажинный год снимает один московский. Эфто место, видишь, наше, только оно ни к чему. Врезалось клином между Проней, барской усадьбой и деревней. Только и годится, что под капусту. Обчество и сдает место московскому.
– А почем? Сколько туг десятин?
– Шесть десятин.
– Почем же сдает общество?
– Дешево, за двадцать пять цалковых.
– А сколько заработает московский на этом деле?
– Надо полагать, рублев 500 возьмет чистогану, – прикинул мужик в уме.
– Сколько же лет уже, как сдаете?
– Да годов десяток будет.
– Пять тысяч! – воскликнул я. – Да ведь если бы сами работали, то вам, значит, больше бы осталось.
– Вестимо больше. Работаем чать мы, сторожим мы, собираем капусту и грузим в вагоны мы же опять. Вся работа наша.
– А денежки получает он, московский…
– А денежки получает ён! – ответил мужик и загреготал.
– Так отчего же вы сами не работаете? Ведь общество ваше имело бы уже не пять, а может быть десять тысяч денег. Целый капитал! Могли бы школу устроить. Запасный магазин, лавку, все что угодно.
– Это мы и сами очень понимаем, только нам это нельзя.
– Почему?
– Потому, обществом работать нельзя.
– Отчего нельзя? Нет людей, кто бы сумел работать?
– Не! Люди-то есть, только обчеством нельзя работать. Ничаво не получится… Обчество, потому… Никак нельзя.
– Ссориться, что ли, станете?
– Нельзя! Вот тебе и весь сказ. Сказано, обчеством нельзя.
– А куда идут деньги, что за аренду получаете? – Мужик не сумел объяснить, я не сумел уразуметь. Оказывается, мы плохо понимали друг друга. Так я и не узнал, куда шли деньги за аренду. Тогда мне это не было интересно, теперь я жалею, что не мог допытаться, что делало общество с деньгами. Разговор перешел на политику. Вернее, на вопрос о земле.
– Чаго там об этом куске говорить, – сказал мужик, – с яго все равно никакого толку. Нам зямли нужно много, а не шесть десятин. Вот если бы, значит, нам помогли выкупить землю у вас, вот это было бы дело.
– А сколько у вас теперь на душу приходится?
– Мало! Три с половиной десятины. Раньше было пять, а теперь три с половиной, да не на душу, а на семью. Что с ней, с трех-то, получишь!
– А прикупить нельзя? Вот если бы вы капусту-то сами сажали, то и земли могли прикупить.
– Сами сажали! – иронически передразнил меня мужик. – Сказано тебе, с обчеством нельзя. Помощь нам нужна… А почему у царя в англицком банке 300 мельонов? – вдруг выпалил он и вопросительно-злобно уставился на меня. – А вон оно что! – подумал я. – Революция уже докатилась и сюда.
– А на что тебе царские деньги?
– Как на что? Да ведь это чать наши деньги. Рассейские!
– Почему ваши деньги? Царь ли, ты ли можешь держать деньги, где хочешь. Хочешь у себя в банке, хочешь в Англии.
– Да ведь это не яго деньги, а наши, мужицкие.
– Да кто тебе сказал эту глупость? Во-первых, я только от тебя впервые услыхал, что у царя в английском банке 300 миллионов. Может, тебе кто наврал? А потом, что ты хочешь делать с этими деньгами?
– Это мужицкие, наши деньги, – упрямо твердил свое мужик. – И царь должон их нам отдать. Вот мы земли и прикупили бы.
«Не дурень ты, паря. Потому-то царь и держит свои деньги в аглицком банке, что знает ваши замыслы», – подумал я. Однако не решился сказать это мужику. Вежливый еще был. Гораздо вежливее дурака и нахала мужика.
Я был до такой степени удивлен этим наглым заявлением, что даже растерялся и не нашелся, что ответить. В уме мелькнула мысль, что, конечно, лучше было бы держать деньги в своем, русском банке, но разве можно царю сделать такую ошибку? А если революция перевернет все? Куда денется тогда нищий император? Мужиченко, видя мое замешательство, смотрел иронически и злобно. Это отрезвило меня.
– А кто тебе сказал про это? – спросил я и сейчас же понял, что сделал ошибку. Но было уже поздно. Мужиченко тоже обратил внимание, с кем говорит, и недоверие сразу закрыло ему рот.
– Читали в газетах. Газеты сами так пишут. Ваши же газеты и пишут! – обрадовался он, что нашел выход. – Нам што, нам все едино, сколько денег у царя, только газеты сами пишут, что лучше бы царь мужику своему помог, а не англичанке. Вот оно што пишут.
«Может быть, и действительно было в газетах», – подумал я. Газеты черт знает что писали. Вот и смутили мужика. Сами мы себе яму роем… До войны меня мужики звали к себе чай пить и на первое место сажали, а теперь вот чем угощают, упреками, да еще плохо замаскированными. Я с недоверием посмотрел на мужика, он ответил таким же взглядом, и мы молча разошлись, даже не попрощавшись.
Этот разговор долго не давал мне покоя и еще более укрепил мое собственное политическое мировоззрение. Я ясно увидал, как глупо, как преступно глупо делать революцию.
Первого июня состоялся приказ о моем переводе на Кавказ. Я тотчас же написал рапорт в Омск, прося разрешения отправиться прямо в Тифлис по окончании отпуска и прислать все бумаги и деньги в Рязань. Добрейший Александр Александрович[62]62
Воронкевич.
[Закрыть] не замедлил исполнить мою просьбу. Недели через две я получил полный расчет и предписание и стал готовиться к отъезду. Мой денщик Матушкин уложил чемоданы. Меня так заинтересовало новое место службы, что, не досидев до конца отпуска, я двинулся на погибельный Кавказ.
Опять дорога-путь. Как все пути в нашей России, дорога была прелестна. Маленький Ряжск. Красивая петля подъезда к Воронежу. Дон… тихий Дон… Тихим его называют, вероятно, потому, что на его берегах всегда бушевали человеческие страсти. По-русски всегда так, – всегда все наоборот. Ах, ты разбойник, – кричит восхищенная мамаша, подбрасывая на руках безобидного младенца. У нас на тихом Дону, – говорит казак, забывая про Емельку Пугачева и Стеньку Разина. Здравствуй Царь-Государь в Кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону. Формула известная еще со времен Петра I и ярко выражавшая смысл желаний казачества: Не тронь, а то!..
Живописные станицы на вид уютны и домовиты. Вокзалы наполнены массой гуляющей публики и утопают в зелени. Самым некрасивым местом показалась мне столица войска, Новочеркасск: никакой зелени и грязный вокзал. К Ростову опять вид лучше. Вот вторично переехали Дон и помчались на юг. Опять богатые казачьи станицы. Жара «несосветимая» по местному выражению. После двух душных ночей в вагоне, часам к четырем дня, поезд подходил к Владикавказу.
Во Владикавказе я хотел сделать остановку, чтобы посмотреть этот город, а главное – знаменитый Казбек. Во Владикавказе же служил в пулеметной роте и мой давнишний друг и приятель по реальному училищу. У меня было сильное желание навестить его, и мы списались о дне приезда. Мой приятель встретил меня на вокзале и отвез в гостиницу, а не к себе на квартиру.
– Почему? – удивился я.
– Так, – был уклончивый ответ. – Я снимаю маленькую комнату у капельмейстера 81 полка, тебе там не понравится, да и тесно.
– Но в гостинице дорого, а я думал пожить у тебя с недельку.
– Ничего, в гостинице тоже хорошо, я ведь здесь временно и недавно. Меня из 82 полка назначили во вновь сформированную пулеметную роту, – говорил мой приятель.
– Работы много и работа интересная. Люди, как на подбор, молодцы. Забрался как-то к нам в казарму агитатор, а они его арестовали. Революционеры думали было устроить здесь вместе с горцами дебош и интересовались настроением пулеметной команды. Все подсылали узнать, как и что… Ну, после ареста двух разведчиков и притихли. Пулеметы не кишка для поливания улицы. Боятся нашу роту страшно. Да как и не бояться! Восемь пулеметов! снесем в минуту любую толпу. Офицеры молодцы…
– Вот только одно неприятно и тяжело, – продолжал приятель с легким вздохом, – почти все дни приходится нам сидеть в казармах, а когда тревожное время, то и ночи проводим там.
Особенно беспокойно было после бунта в Самурском полку. Слыхал об этом?! Там солдаты убили несколько офицеров и ранили самого командира полка… Все агитаторы проклятые! Они переодевались в солдатскую форму, приходили в казармы и развращали солдат, сбивая их с толку своими речами до того, что те теряли самообладание.
Следствие выяснило полностью, что бунт у Самурцев был подготовлен агитаторами. Нам потому сейчас же было отдано секретное приказание: не выходить из казарм. Опасались, как бы и наши Апшеронцы не устроили дебош. Тут ведь этих агитаторов хоть отбавляй. Каждый кинтошка агитатор! Весь Кавказ – это настоящее осиное гнездо! Не доглядишь, – и живо насмерть ужалят кинжалом.
Ты только подумай, – даже к нам, к пулеметчикам, забрались. Н-ну, можешь представить себе?! В пулеметную роту, в которую из всей дивизии набраны самые лучшие, отборные люди, – и тех пришли с толку сбивать. Наши пулеметчики их немножко погладили сперва, – мой друг сделал выразительный жест, – а потом прямо в жандармское управление.
Начальство сильно взволновано всеми этими революциями и приказало офицерам быть в казармах и днем и ночью. Вот мы и держим очередь: в роте постоянно два офицера налицо. Прямо как в кадетском корпусе!
А всему виной – газетные писания. Ведь это благодаря им наши унтера потеряли силу. Как можно было позволить писать так открыто, что будто наши унтера забивали солдат, мучили их, а офицеры-де ничего не делали… Ближе к солдату! – вопили газетчики, – а то офицеры были далеко от солдат, и мы-де оттого проиграли войну… Наш солдат был будто забит и неразвит…
Солдаты и окрысились против унтеров, стали пугать их, что укажут революционерам, чтобы те убили наиболее ретивых, или дома-де, в деревне, расправятся. Унтера после этого притихли, а солдатня еще больше распустилась. До такой степени, что пришлось вот особые пулеметные роты создавать и держать их отдельно от полков.
Мы, офицеры, все уже получили смертные приговоры, да только не боимся. Мы всюду громко говорим, что за каждого убитого офицера наколотим гору кинтошек… Вот они и не решаются нас трогать.
Все, что рассказывал приятель, меня уже не удивляло. Я сам достаточно видел, главным образом в Сибири. Мне было лишь непонятно и жалко, что общество само, своими руками, как бы умышленно старалось развалить армию, оплот порядка и права.
Не зная совершенно офицерской работы, общество вздумало учить нас… И добились того, что дискредитировали своими критическими и неосновательными рассуждениями офицеров, а еще больше наших помощников, фельдфебелей и унтеров. Тем ничего и не осталось другого, как покинуть сторону офицерства и перейти на сторону солдат.
Были сбиты с толку даже и многие офицеры, вообразившие, что вся суть только в них самих. Эти офицеры тоже стали смотреть с пренебрежением на унтера и безжалостно уничтожали их права и обычаем наросшие традиции. А вместе с тем уничтожалась и та стальная прослойка, что была между народом и барами, охраняя последних от народного недовольствия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































