Текст книги "Атаман Платов (сборник)"
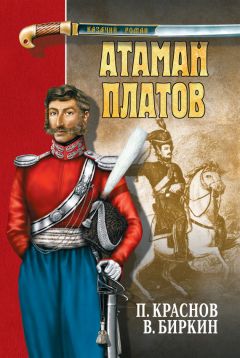
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
– A для чего это? – спросил один из скромных солдат.
Я внимательно посмотрел на его простое лицо и увидел, что разговор был ему совершенно непонятен. Нужно было кончать беседу.
– А для того, – ответил я, – что теперь за дьяволом и люди потянулись. Кто, как не черт, смущает теперь людей убивать, бомбы бросать, революции делать! Разве хороша стала жизнь теперь?.. Разве раньше, когда мы жили тихо и мирно, по-Божьему, не было лучше?
В глазах своих сапер я прочитал молчаливое согласие.
– Бог только не хочет в наши дела вмешиваться, чтобы мы сами поняли, где добро и где зло. Добро – дело тяжелое, много тяжелее зла, – на первый взгляд, для человека легковесного. При добре – себе во всем отказывать нужно. Ведь заставь вас силой добро делать, – вы и вовсе с ума посходите от злобы, все будете сами себя уверять, что вас мучают да обманывают. Вот Бог и устроил все так мудро, чтобы люди не думали, будто Он их из-под палки на добро гонит. Кто хочет, – пусть себе по своей воле за нечистым идет… А переполнится чаша терпения Божия, не одумаются люди, – Он тогда и накажет и самого нечистого, и его последователей.
– Да… понимаю, ваше благородие, – ответил солдат. Все примолкли. Торжественное молчание было разлито и в мощной природе Кавказских гор.
– Ну, довольно философии! Собирайтесь и айда домой. Уже четыре часа. До темноты нужно спуститься, – отдал я приказ.
Мы нашли тропинку для спуска совершенно неожиданно. Из-за поворота выросли две фигуры. Два старика татарина. Они безучастно взглянули на нас. Сняли туфли и разостлали свои бурки. Став на них голыми ногами, горцы повернулись на восток, сложили руки, будто держали коран, и начали молиться.
– Видите? – сказал я саперам, – вот кто истинно верит в Бога.
– Да мы и сами верим, – сказал скептик, – только мы хотим знать наверное, есть ли или нет, потому и рассуждаем. Как только уйдешь из нашего мира сюда, в горы, так и чувствуется Бог, а там, внизу, забываем про Него и грешим.
Спустились мы быстро по тропинке, натоптанной паломниками-пастухами. Тропинка эта привела нас к подножию обрыва, оттуда на плоскогорье, где стоял домик пастухов. Часам к десяти вечера мы были уже внизу в долине. Спали, как убитые. Обратный путь в лагерь мы совершили в два перехода.
Генерал был очень доволен нашим походом.
– Теперь я жалею, что не приказал вам поставить телеграфную линию на Ала-Гёз, – совершенно серьезно заявил он мне. – Но зато большой маневр сделаем. Приготовьтесь к нему заранее!
Глава XXXIX. Передышка
Молчанов встретил меня расспросами. Он сам гордился тем, что сделал поход по горам Персидской границы в отряде, посланном для истребления разбойников. Рассказывал, как было тяжело, как он строил хлебопекарные печи и выпекал хлеб вдали от жилья, в горах, на дожде и на вьюге. Я заметил в нем новую черту: необычайную самоуверенность и желание всегда говорить о себе. Появлялось иногда и настроение, вроде как у Дукшинского.
Несмотря на жару, мы учились с раннего утра до полудня и, мокрые насквозь, приходили домой. Два раза генерал Червинов устроил атаку крепости Александрополя с переходом через его глубокие рвы. Принимала участие и пехота. Маневр был двухсторонний. Рвы глубины солидной, сажень до десяти; в них спускались и по шестам и по канатам. Вверх лезли по лестницам и накоплялись у подошвы бруствера, пока по его гребню била артиллерия.
Подходил конец ротного периода и начались экзамены. Военно-телеграфной ротой генерал остался доволен. Он выбрал по списку шесть телеграфистов, и каждый из них дал больше тридцать слов в минуту. Нигде не было заминки. Воспользовавшись хорошим настроением генерала, я попросил разрешения устроить игры и призы в день ротного праздника, приходившегося перед началом бригадного периода.
– Хорошо! – немедленно согласился генерал. – Это хорошо. Устраивайте!
– Я хочу попросить немного денег на призы, – продолжал я.
– А какие призы?
– Часы за телеграфирование. Мелкие подарки за гимнастику, влезание на телеграфный столб, смазанный салом…
– Только не салом, – перебил меня Червинов. – Нечего портить одежду. Я совершенно согласен дать телеграфисту приз за влезание на столб, но не согласен портить одежду. Отлично, устраивайте!
Телеграфные роты всегда любили праздники и устраивали их обычно очень хорошо. Так и теперь взялись за дело серьезно. Построили сцену и разучили небольшую пьеску. Приготовили места для зрителей. Палатки для гостей. Шатры для состязаний в телеграфировании. Для гостей приготовили чай и печенье. Народу набралось к нам много.
После молебна и здравиц рота прошла церемониальным маршем. Потом генерал сам произвел испытание на призы. Решено было дать пять призов. Село за ключи человек тридцать, все специалисты, в надежде получить хорошие серебряные часы.
Генерал Червинов роздал им вырезки из газет и дал сигнал. Ключи застучали. Через пять минут новый сигнал, и ключи тотчас же остановились. Каждая ошибка, – слово долой со счета, как было уговорено, и несмотря на это, первый приз был выдан за сорок два слова в минуту.
– Это рекорд. – сказал генерал. – Да ты не работал ли на телеграфе раньше?
– Так точно, я телеграфист по профессии, – ответил солдат, получая первый приз. Пятый приз достался телеграфисту не профессионалу, а обучившемуся у нас, в роте. Он отбил в минуту тридцать пять слов. Генерал остался очень доволен этим.
– Вот эти тридцать пять слов для меня дороже, чем сорок два слова профессионала. Тут видна работа роты… Спасибо, молодцы!
Вечером был спектакль и все закончилось музыкой и танцами. Порядок был полный. Телеграфисты сами наблюдали за тем, чтобы все шло безукоризненно. Все были довольны и призами, и подарками, и удавшимся праздником. Бригада принимала постепенно хороший, настоящий солдатский облик.
Иванов, страстный охотник, тяготился уже тем, что не мог походить вдоволь с ружьем. Он придумал поездку на озеро Арпагёль, откуда берет свое начало быстрый Арпачай. Мы воспользовались двумя праздниками и выехали, взяв с собой теперь уже унтер-офицера, Гродзицкого, а для вещей и переезда татарина с двуколкой.
Уселись и поехали. Дорога идет все время в гору. Лошадь тянет еле-еле. Выехали мы рано утром, а к озеру доехали лишь к четырем часам дня. Расположились на берегу. Поставили палатку. Иванову было нехорошо, его трясло в лихорадке. На озере виднелась масса бакланов, летали и утки, а мой приятель не мог и головы поднять.
– Идите одни, – сказал он мне. – Я приму хины. Взял с собою, будто знал. К завтрашнему дню отлежусь, а вы идите, не теряйте времени.
Мы пошли искать места на засидки. Озеро круглое, как пятак, и только около версты в диаметре. Кругом невысокие горы. Тут попадается красная каменная утка. Она выводит детей в камнях и потом только спускается к озеру.
Стало темнеть. Слышен свист полета, и я увидел двух уток, летевших к озеру. Беру на прицел, и одна звучно шлепается в воду прямо передо мной. Слышу, что и Гродзицкий выстрелил. Досидели мы до полной темноты. Я убил двух уток, он трех, – не густо! Иванов критически посмотрел на нашу добычу. Наскоро выпили чая и залегли спать.
Раным-рано разбудил нас Иванов. Он уже выздоровел, и его брала нетерпячка. Мы решили идти кругом озера с двух сторон. Еще было совсем темно, когда мы выступили. На воде слышались всплески, и орало утиное царство. В воздухе раздавался поминутно свист крыльев.
Когда стало немного светлее, я изумился количеству птиц. Это были бесчисленные стаи. Мы начали не стрелять, а палить. К десяти часам утра я уже расстрелял все патроны своего ложного патронташа, тридцать две штуки, а убил всего семь уток. Вернулся к шалашу и стал греть чай. Не успел чайник вскипеть, как пришел Иванов, а за ним и Гродзицкий. Оба хорошие стрелки и оба убили десятка по полтора уток.
Иванов нервничал. Он тоже расстрелял все заряды и мы, даже не закусив толком, принялись лихорадочно набивать патроны.
В самое пекло, часов с двенадцати, мы вошли в озеро и отправились бродить. В камышах оказалось еще больше уток. Но стрелять здесь было трудно. Они ныряли и быстро скрывались из глаз. Однако уходили не все, и к вечеру мы опять вернулись с богатой добычей.
Усталость взяла свое, мы заснули, как убитые. Рано утром приказали татарину запрягать. Сосчитали трофеи. Было всего шестьдесят уток. Завернули их в бурку и, велев кучеру ехать на дорогу назад, мы решили еще раз пройти по воде.
Занятная штука – охота в водяных зарослях. Идешь медленно по самую грудь в воде, держа ружье наготове. Вот впереди, шагах в двадцати, тревожно выглянула голова утки. И тотчас спряталась. Шлеп… шлеп… раздались удары крыльев, и целый выводок нырнул в воду. Вынырнут они шагов за пятьдесят от этого места, скрытые водорослями с большими, вроде как у лопухов, листьями.
Горе той утке, которая попробует взлететь. Да, они, кажется, и сами знают это. Передо мной взлетело лишь две утки, и обе были убиты. Их осторожность начала даже меня раздражать. Долго ни одна не взлетала. Мне это надоело, и я начал стрелять прямо в то место, где замечал движение. Раза два не убил ничего, а по третьему или по четвертому разу попал удачно. Первым выстрелом убил трех молодых уток и заставил взлететь матерую, которую также подстрелил влет.
Вернулся я к двуколке с шестью утками, а Иванов и Гродзицкий убили вдвоем тоже только шесть. Итого, семьдесят две утки за полтора дня и две полуночи охоты. Домой вернулись уже поздно вечером. Иванов взял себе штук шесть хороших, жирных уток для дома, – а остальных мы отдали в собрание. За это нас на следующий день угостили вином. Особенно доволен был первый саперный батальон.
Ему нужно было опять давать ответный обед кунакам-северцам. Здорово пили кунаки. Так здорово, как я еще и не видел. И только кахетинское, ни водки, ни шампанского.
– Шампанское для Тифлиса, – говорили они. Впрочем, мне кажется, что тут крылась милая кавказская привычка бережно относиться к другу и не отягчать кунацкий бюджет. Состоятельные кавалеристы отлично знали, что бедным саперам шампанское было не по карману, и поэтому, вероятно, говорили, что не любят его.
Кунакам первый батальон устроил богатый обед. Мы уступили им свое место и обедали в маленькой столовой. На этот раз первый батальон не пригласил офицеров второго. Дело было чисто кунацкое.
Только увидев меня и Иванова обедающими в маленькой столовой, – мы пришли позже, отсыпаясь от охоты, – подвыпившие гости и хозяева окружили нас, благодарили за отличных, вкусных уток и так кричали: «Утка плавает!» – что мы с Ивановым едва удрали от них и то веселыми ногами. Кончился кунацкий обед поздно.
Кончили попойку часам к четырем утра, а в шесть часов и наша бригада, и их полк в конном строю встретились на плацу перед крепостью. В субботу всегда бывал маневр.
Как крепко не была бы отуманена голова вином, а на занятия пожалуйте. У кавалеристов на этот счет было еще строже, чем у нас. У нас можно было отговориться болезнью, у них – нет: свои знают, что болезнь благоприобретенная… А по кавказскому адату: «пей, ума не пропивай», – поют и саперы, и кавалеристы.
Пей, душа, покуда пьется,
В песне горе забывай.
На Кавказе так ведется…
Пей, ума не пропивай!
– гремит застольная песня повсюду. Пей сколько хочешь, а на занятия пожалуйте, и чтобы вида не подал, что пьян. А то разнесет командир, а у кавалеристов и от приятелей попадет.
Червинов, не терпевший пьянства, ничего не мог поделать с кавказским адатом. Запретить встречу кунаков было немыслимо. Это могло окончиться таким скандалом, что сам Червинов не усидел бы на месте. Законы куначества хранили свято. Попробуй-ка он запретить встречу кунаков. Подняли бы шум и Нижегородцы, эти гвардейцы Кавказа, и гренадеры. Живо сжили бы генерала, не посчитавшегося с законами куначества.
Глава XL. Горячая работа
Бригадный период и управление им перешли целиком в руки генерала. Саперам было теперь работы по горло. Ставились минные колодцы, гремели взрывы, строились два большие укрепления для будущих маневров.
Попали на маневры и мы, военно-телеграфные роты. Командиру первого батальона, полковнику Глаголеву, приказано было организовать шестисуточный телеграфный маневр.
Вечером мы получили задание поставить линию на десять верст. С утра вышли на работу. В двенадцать часов была получена телеграмма с приказом перенести линию к другому пункту и соединить Александрополь с татарской деревней за двадцать пять верст от города. Работали остаток дня и часть ночи. Начало и конец работ отмечал Глаголев, следивший все время за ходом их по телеграммам.
Часть ночи и до полудня мы отдыхали; лишь усиленно работали наши телеграфные аппараты. Отказов не было. После полудня получили новое приказание – перенести линию по гребню гор, от татарской деревни до деревни у реки Арпачай. Теперь уже около тридцати верст телеграфной линии. Проработали весь остаток дня и всю ночь.
Четвертый день был нам дан для отдыха. А к вечеру его получили новое приказание – соединить нашу линию с линией первого саперного батальона. Взглянул я на карту и удивился: ровнехонько шестьдесят верст! Нужно было еще найти первый батальон, что удалось нам только к утру. Работу эту окончили лишь к двенадцати часам ночи.
Как на грех, – отказ! Где-то линию перервало. От моего пункта и до указанной деревни было как раз тридцать верст. Я приказал с двух сторон и из середины скакать верховым надсмотрщикам и осмотреть тщательно линию. Ночь – хоть глаз выколи! И среди такой тьмы, – ищи-ка, где линия испорчена?
На мое счастье удалось исправить порчу. И как раз вовремя: только я получил донесение, что линия исправлена, – раздалось в ночной темноте цоканье подков. К моей палатке подъехал генерал Червинов в сопровождении Глаголева и конвоя.
– Поставили линию? – был его первый вопрос.
– Так точно.
– Телеграфист, запроси деревню. Кто у аппарата?.. Название деревни… Передай телеграмму!
А в телеграмме было сказано, чтобы станция деревни немедленно послала верхового к начальнику штаба бригады со срочной телеграммой от генерала: «Отметить час прибытия этого верхового».
Конечная деревня была недалеко от Александрополя. Верховой мог доехал до лагеря в полчаса. Вот и проверка, говорит ли действительно деревня или аппарат спрятан за версту от нас.
Мы только переглянулись. Как назло у моего фельдфебеля, большого доки, была думка поставить ложный аппарат, если порча окажется серьезной. Молодец генерал, – знал, как поверять! Счастье, что я отклонил предложение фельдфебеля.
A что было делать и нам, если бы порча оказалась серьезной, если бы надсмотрщики не могли ее скоро обнаружить?.. Чтобы не получить разноса, – поневоле пришлось бы поставить ложный аппарат.
Генерал осмотрел все и лег на землю, завернувшись в бурку. Через час заступал аппарат, и пришла телеграмма от начальника штаба полковника Исакова, очевидно условная заранее, специально рассчитанная на проверку. Генерал прочел телеграмму, положил ее в карман, пожал мне руку.
– Хорошо. С заданием справились… Молодцы телеграфисты! – Сейчас же он сел на лошадь и уехал в темноту.
Через два часа вновь пришла телеграмма-приказ: перенести линию на такие-то пункты. Теперь было нечто ужасное. Расстояние оказалось такое, что шестовой линии не хватило, пришлось не только включить весь имеющийся кабель, но и послать за кабелем в лагерь. Только к вечеру шестого дня мы справились с этой линией; она была в сто десять верст длиной и шла полукругом, так что оба конца ее подходили к Александрополю. Генерал телеграмма за телеграммой запрашивал о ходе работ.
На седьмой день он приказал снимать линии, собраться вместе и войти в лагерь поротно, доложив ему сейчас же о приходе, чтобы он мог немедленно осмотреть роты. Я со своими солдатами вернулся к пяти часам вечера. Генерал сейчас же вышел к нам.
Вид телеграфистов был грязный. Еще бы! Провести в поле семь дней, почти не умываясь; времени ведь не было даже иногда поесть. За работой не знали ни дня, ни ночи. Не удовольствовался генерал осмотром первой шеренги, куда мы поставили людей, почище одетых.
– Первая шеренга, три шага вперед! Марррш!.. – скомандовал он сам и пошел осматривать вторую шеренгу. Сутки тому назад лил проливной дождь. Сапоги у некоторых солдат разлезлись, а один так разорвал штаны, что было видно голое тело. Не догадались мы его заменить. Генерал сосчитал ряды на всякий случай. Хитрый был человек. Увидел он оборванца и рассердился ужасно.
– Что это за безобразие?.. Вы срамите русскую армию!.. раскричался он и орал на меня форменным образом. – Что скажут туземцы при виде такого оборванца?!. Где это ты так оборвался?.. Как тебе не стыдно быть в таком виде?!
– Не виноват, ваше превосходительство, – не растерялся телеграфист. – Ночью подвода опрокинулась. Меня зацепило, я схватил вожжи, а лошадь потащила, вот и оборвался.
– А зашить не имел времени?!
– Никак нет, не имел, все время в работе был! – Ответ успокоил генерала.
– Все равно. Русский солдат, русский сапер не должен быть грязным. Твой вид испортил всю вашу молодецкую работу. Прощаю только потому, что погрешностей в работе не было, а впредь извольте помнить: какая бы работа ни была, а вы должны явиться всегда исправными в одежде! А вам, штабс-капитан, – обратился он ко мне, – объявляю выговор за неряшливое состояние роты.
Повернулся и ушел. И командир за ним.
– Слышали, ребята? – спросил я своих солдат. – Понадеялся я на вас, – вот и попало. Оказывается, мне еще и за вашими штанами нужно было смотреть. И это телеграфисты!
– Да он и вовсе дурак, ваше благородие! – сказал вдруг фельдфебель. – Я ему сказывал, чтобы бежал в палатку, будто больной, живот, мол, заболел. И переодел бы штаны. А он, растяпа, услышал, что идет генерал, и побоялся выйти. Всю роту осрамил. Такой маневр и испортить штанами!
Фельдфебель испытывал истинное горе. Обидно было и мне. Но я винил не сапера, а самого себя, что не досмотрел и что не понял раньше генерала. Наоборот, раньше мне казалось, что наш вымазанный вид будет лучшим доказательством нашей горячей работы. Генерал повернул дело иначе и именно так, как мне нравилось самому. Значит, сердиться и нечего.
Но все огорчения были исправлены бумагой от военного министра, извещавшего, что мое прикомандирование к Донскому кадетскому корпусу разрешено с 4-го августа 1908 года. А что же аттестация? – мелькнула тотчас же мысль, – значит, исправлена: пьяницу ведь не допустили бы! – Я пошел к адъютанту. Булгаков был, видимо, в хорошем расположении духа.
– Конечно, – ответил он, – ваша аттестация другая и даже особенно хорошая. Теперь я вам ее могу показать. По секрету, конечно.
Он вынул листик бумаги с печатным заголовком: «аттестация». После всех необходимых формул и сведений о моей личности, рукою командира было написано, что я старательный и выдающийся работник, отлично знающий свое дело и достойный к выдвижению на командование ротой. Твердых политических убеждений и имеющий большое влияние на товарищей в хорошую сторону.
– Я имею большое влияние на товарищей в хорошую сторону?! – удивился я. – В чем же заключалось это влияние?
– Значит, начальство заметило, в чем оно заключалось, – политично ответил адъютант. – В аттестации такую вещь даром не напишут.
Я поблагодарил Булгакова и ушел.
Твердые убеждения, влияние на товарищей в хорошую сторону, – вертелось у меля в голове. Намек на борьбу с партией Вачнадзе, что ли? Наверное, это отметили.
Теперь я успокоился. Жаль было покидать строй, но все же оставаться в батальоне, насквозь зараженном революционными идеями, чрезвычайно неприятно. Правда, теперь, под влиянием генерала и Григорьева, эти идеи заглохли, но кто может поручиться, что они выветрились окончательно? Явится на смену Григорьева опять тип Исаевича, и снова многие перекрасятся.
Старая армия до этой несчастной войны с Японией была крепка, как железо, благодаря аристократии казармы, – как их называл Моравский: фельдфебелям Андреевым, взводным Елисеевым и ефрейторам Касперовичам. Их убеждения были, – что они начальство, а потому должны охранять Веру, Царя и Отечество, должны и солдат учить этой первой заповеди воина.
О политике не было ни слуху, ни духу, потому что нельзя было болтать «здря». Кулаки непосредственного начальства были еще тверже их твердых убеждений в своем праве учить.
После японской войны стали искать виновного стрелочника и нашли его в лице унтер-офицерского состава. Общество накинулось на ни в чем неповинного строевого офицера и его помощника, унтера. Штатские писатели возвестили всему миру, что мы не были разбиты наголову только потому, что наш серый солдатик, «наша серая скотинка», не подгадил и ходил безропотно на убой… Чем Россия и была-де спасена от позора…
Эх, наша Россия! Бедный народ наш! – думал я. – Ты и не подозреваешь, что, облаивая армию, облаиваешь себя самого и себя самого ослабляешь; что придет день, когда горько раскаешься ты в этом, но будет поздно. Своей преступной несправедливостью ты обижаешь своих детей и вернейших слуг, лучших в мире офицеров и унтер-офицеров. И теряешь их, простых, скромных, но крепких, как сталь.
Вместо их на сцену появляются уже хамелеоны, обученные тобой вертеться между долгом и молвой… Но это будет уже не сила твоя, а слабость. Не думаю, чтобы они были верны монархии, как майоры Горталовы, не думаю чтобы теперешние фельдфебеля Симоновы могли бы решиться пойти против всей роты, как сделал бы, не задумываясь, это Андреев.
Внутренний голос говорил мне, что я ухожу с поля сражения и предоставляю борьбу другим. Мне следовало бы оставаться и, работая совместно с верными офицерами, вернуть душу армии на старый путь беззаветного исполнения долга. Однако я не мог и у себя пересилить чувство зависимости от молвы. Мне чрезвычайно обидно и тошно было слушать клички: жандарм, черносотенец и опричник! Стоило лишь попасть в общество невоенных, и тотчас со всех сторон тыкали социалистические шпильки. Тыкал каждый, чтобы казаться либералом, передовым и подчеркнуть отсталость и необразованность офицерского общества.
Спорить было трудно. Ругаться тоже нельзя было, – это только усилило бы врагов. Оставалось лишь удалиться от общества, которое бродило все сильнее и яростнее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































