Текст книги "Игра в ящик"
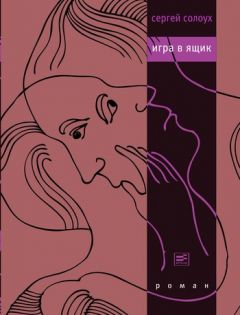
Автор книги: Сергей Солоух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
Он перешагнул через светящееся от алкогольных, звездных испарений тело и легко зашагал прочь. И смех его разбирал до самой станции, так ему показалось уместно и здорово быть Ромкой, именно Подцепой в этом ИПУ, которое, по меткому выражению такого многоликого Гарика Караулова, всех и всегда в ББ. Самым главным получается. Как бригадир в этом совхозе – моряк в тельняшке. Номер один. Вот так. Знай наших.
Дорогой в электричке Роман Подцепа думал только о работе. О том, как примет в своей отдельной комнатке с кухонькой и туалетом ванну. Горячую, все окончательно смывающую, и сядет добивать методику. Прямо сегодня. Прямо сейчас. Немедленно. Он и в деревню зачем-то потащил машинописные листки, густо исписанные, словно сортирная стена стишками, синим шариком профессора Прохорова.
Если ты отлил, зараза.
Дерни ручку унитаза.
И в самом деле, действительно, там, в этой Вишневке, Роман что-то такое и впрямь от себя отделил, как будто очистился, как будто избавился от чего-то несвойственного, чужого, приобретенного, отягощавшего зачем-то его сердце. От сомнений. От мучительного ощущения нарушенного плана, даже его ошибочности, может быть. Нет, эта штабелевка и шестьдесят восемь рублей, которые через неделю привезет Матвей Гринбаум, не были случайностью. Работа, она, работа все снова поставила на место. Ясно и точно подтвердила главное. Все правильно он делает, Роман, все верно, просто иногда требует от судьбы невозможного, а она и так за него горой. Убедился. В который раз.
И еще в своей силе. И даже не от денег, которые Ромка вдруг счастливо заработал и скоро отошлет домой, так просто было и легко. А от мысли, что всегда и везде, в любой ситуации берет верх его чистое, верное подцеповское начало, а значит обязательно и непременно победит оно мутное, неразъясненное иванцовское, и все будет в порядке с Димкой. И с Маринкой. И с ним самим самим. Р. Р. Подцепой.
В Удельной Рома вышел покурить в тамбур и так там носом к надписи «не прислоняться» и простоял остаток пути. Электричка ускорялась, тормозила, и сизые струйки папиросного дымка, словно линии на Ромкиных миллиметровках, то уши зайца описывали, то контуры верблюда. Лишь поверни на девяносто градусов – и вот тебе иллюстративный материал к статье Подцепы и Гринбаума. Все связано и все взаимообусловленно в этом, не самом худшем из миров. Наконец из круглой и дырявой, как душевая лейка, заплатки на потолке тамбура вывалилось в общей куче нужное слово «Фонки», и Ромка вышел.
Звякнули карабинчики переходящего общажного рюкзачка, резиновые губы раздвижных дверей звучно проверили свою любовь на прочность, и поезд «47 километр», в который Рома запрыгнул в Раменском, сменив презирающую мелкие подмосковные остановки «Рязанскую», кто-то молниеносно, только молодецки свистнув, на раз два, выдернул из-за его спины. Прямо перед глазами аспиранта ИПУ им. Б. Б. Подпрыгина красовалась табличка на двух ножках «Томилино». Следующая Фонки, следующая.
Но следующую электричку с остановками везде расписание обещало только через тридцать пять минут. Пешком быстрее. Ромка сошел по лестнице с платформы, купил в пристанционном магазине батон за 22 копейки, сунул его за пазуху, словно второе, вспомогательное сердце или печень, и двинулся к Миляжкову. Он шел и ел, и сладкий аромат белого московского хлеба мешался с сибирскими хвойным концентратом вечнозеленых томилинских сосен. Дорога бежала вдоль насыпи и через пять-семь минут у переезда влилась в Егорьевское шоссе. Отсюда наикратчайший путь к общаге через поселок ВИГА, а если вдруг прямо сейчас подкатит 346-й, то можно попасть домой совсем уже молниеносно. Рома глянул через пути за переезд, не едет ли случайно полосатый ЛиАЗ – друг пешехода, а потом в другую сторону, туда, где у поселка должен был торчать кривой навес автобусной остановки. Но вместо знакомого козырька увидел толпу людей, обступившую нечто похожее издалека на зиловский самосвал.
– Пьяный! Он пьяный, вы только посмотрите на него… алкаш проклятый, – вылетел из толпы истошный женский крик навстречу приближающемуся Роману. Словно в лицо ему дыхнуло что-то мерзкое и необыкновенно горькое.
Большому, похожему на увальня из зоопарка аспиранту с почти уже доеденной второй запасной печенью вдруг стало неприятно и неловко до детских мурашек. Второй раз за сегодняшний день чужая женщина его стыдила. Сейчас уж публично, громогласно и точно совершенно незаслуженно и не по делу.
Подцепа хотел обогнуть, быстро пройти мимо этих ненужных ему воскресных зевак, но на секунду, кого-то выпуская, толпа вдруг расступилась, и то, что Роман увидел, заставило его резко, со всей медвежьей силой врезаться в живую изгородь, ворваться внутрь и встать на колени перед лежащим на земле человеком.
– Михаил Васильевич, – дико пропел Роман, – Михаил Васильевич…
Но профессор не был пьян. Пьяного держали два дюжих рога, жестоко заломив за спину руки, слюнявым, безглазым, как у белой статуи, мурлом безжалостно впечатав в раскрывшийся железным цветком передок грузовика. Что-то текло из обнаженных радиатора и двигателя, всем своим весом севших на изогнутую трубу поваленного козырька. Темная лужа образовалось и под головой профессора. Роман в каком-то полупомешательстве положил руку на черный с искрой проседи висок и тут же с ужасом отдернул. Голова научного руководителя была еще теплой, но мягкой, как у детской игрушки.
Домой в общагу Роман Подцепа пришел только под вечер. Но, вместо того чтобы принять ванну, о которой так сладко грезил всю дорогу из Вишневки, он в ванной долго и бессмысленно топил головастиков. Горячими струями душа смывал со стенок мелких, черных, как сперматозоиды, перед дальней дорогой дрожавших и корчившихся сик. Потом он бросил это глупое занятие и прямо в куртке и в ботинках прошел в комнату. Сел на кровать. И только тут Роман Подцепа сообразил, что забыл в квартире у Прохоровых свой рюкзак. И тупая полуглухота-полуслепота, владевшая им столько часов, покуда он куда-то бегал, шел, ездил, звонил, что-то делал, и делал, и делал, здесь, в момент полной и окончательной остановки, обернулась острым, каким-то обоняемым и осязаемым каждою клеткой тела отчаянием.
Ну и когда он теперь сядет за свою методику? Когда получит назад папку, откроет ее, погрузится в спасительную, одну только надежду и разрешенье обещающую работу. Задыхаясь, ничего перед собой не видя, бормоча: «Придурок, идиот, дебил» – Роман дергал ручки, открывал и закрывал ящики стола, переворачивал бумаги, как будто где-то тут могла сама собой родиться и спрятаться копия оставленной в осиротевшем доме, исчирканной синим шариком машинописи. И вдруг под спудом старых миллиметровок, в нижнем ящике мелькнули тесемки. Папка. Не может быть! Роман до крови расцарапал руку о деревянный угол, ныряя за добычей. За серой папкой «Дело».
Но это было не то. Совсем не то.
«Дмитрий Александрович Белобокин. Щук и Хек»
ЩУК И ХЕК II
Вы, конечно, точно так же как Щук с Хеком, сразу догадались: папа не приехал встречать свою семью, потому что даже в такой замечательный день был, как обычно, очень и очень занят. И будете совершенно правы.
Зато все перепутаете и даже переврете, если при этом станете думать, будто папа Щука и Хека вообще собирался встречать жену и детей. Совершенно он не собирался компрометировать себя таким поступком. В той организации, где он работал, это бы сразу оценили как неумение устроить самый простой арест и задержание. А папа Щука и Хека умел устраивать оперативные мероприятия лучше всех. И совсем не случайно он давно уже был не простым следователем, а старшим. И как старший следователь он очень легко, стоило ему лишь взяться за дело, раскусил свою жену, гражданку Серегину.
Слушайте. Старший следователь Серегин не просто так послал в заштатное Миляжково длинное и обстоятельное письмо о том, как он разоблачил скрытого врага и был за это награжден саблей, орденом и реквизированной квартирой. Он хотел испытать свою жену на ее мелкобуржуазную сущность: смогла ли она преодолеть свое мещанское арзамаское прошлое вблизи самого красивого на земле города с красными звездами в небесах. Таких высоких и ярких, что свет их летит далеко-далеко и даже доходит в безлунные ночи до самых Фонков, все в этих Фонках очищая и облагораживая. Но только не маму Щука и Хека, так уж крепка в ней оказалась частнособственническая психология.
Папа, конечно, ждал, что, получив письмо мама немедленно ему ответит, может быть, даже пошлет «молнию» о том, что саблю и орден надо оставить, а вот квартиру следует немедленно сдать государству. Пусть в ней организуют детский приют или коммуну для подростков-сирот, отцы которых были летчиками или танкистами. Но мама Щука и Хека не стала слать «молнию». Даже простого письма не написала. Так уж эта женщина обрадовалась, что будет теперь жить в Москве, как барыня и эксплуататор трудового народа. И когда папа Щука и Хека это понял, он сам послал жене «молнию», чтобы она никуда не торопилась. И даже наоборот, оставалась на месте, потому что очень скоро за ней придут специальные уполномоченные люди и заберут.
И это будет правильно, тем более что сам папа Щука и Хека давно уже сошелся с одной молоденькой машинисткой из секретного отдела и собирался с ней переехать как раз в эту самую новую реквизированную квартиру с видом на Красную площадь. Нужно было только поскорее обставить все три большие комнаты новой хорошей мебелью, которую папа каждую неделю штука за штукой ездил бронировать за собой на склад конфиската. Правда, из-за того, что комнат было целых три, да еще кухня и темная кладовка, быстро это сделать не получалось, но папа все равно надеялся встретить Новый год уже на новом месте.
Но только тут вдруг мама Щука и Хека взяла да с чемоданами и с детьми тронулась в Москву. Вы, конечно, знаете, случилось это оттого, что два малолетних саботажника и вредителя, Щук и Хек, сожгли в печи телеграмму от своего отца, старшего следователя Серегина. Но вы вновь очень сильно ошибетесь, если вдруг решите, будто есть на свете нечто такое тайное, что рано или поздно не станет явным для папы Щука и Хека.
Конечно, честный и добросовестный советский проводник сразу же, как только два несовершеннолетних преступника раскололись, прямо из поезда, стоявшего у платформы Авиамоторная, передал всю полученную секретную информацию куда следует.
И теперь становится понятно всем, каким хорошим следователем был товарищ Серегин, если сумел всего лишь за полтора часа организовать и отправить на Казанский вокзал оперативную группу захвата. Однако уже после того, как ему доложили, что вся троица взята и будет вот-вот доставлена, у него возникли некоторые сомнения относительно дальнейших мероприятий. Но нет, пусть враги не беспокоятся, это были не такие малодушные интеллигентские сомнения, от которых человек вынимает из кобуры револьвер и стреляет себе в рот. Это были совсем другие, хорошие сомнения, в результате которых на смену лучшему решению приходит просто уже отличное.
В отношении мамы Щука и Хека все казалось простым и ясным. Этой женщине была гуманно предоставлена возможность выдавить из себя по капле чуждую советскому народу мелкобуржуазную идеологию, только мама вместо этого наоборот, копила ее, собирала в стаканы и ведра, а потом со всей страшной, черной отравой поехала в Москву. Отправилась в самый красивый город на свете, чтобы его, конечно, опоить и уничтожить на радость всем фашистам в мире. Таких коварных врагов в наше суровое революционное время нужно без промедленья разъяснять и не миндальничая кокать.
Но вот что делать со Щуком и Хеком? Ведь теперь их папа совершенно точно знал, что зараженная насквозь бациллами мещанских желаний мама-лавочница не хотела и не могла правильно воспитать его сыновей. Не отучала день и ночь ребятишек старшего следователя от глупых и вредных привычек. Не растила из них пионеров, строителей коммунизма и счастья на земле. Даже страшные тайны не научила мальчиков хранить эта жалкая мама, ни на что, если честно, не годная, кроме дела о подпольной троцкистской террористической группе.
И вот вначале, расстроенный все той же бездной вредительства в семейном секторе, которое ему так неожиданно, но со всей ясностью открылось, старший следователь Серегин хотел отдать обычный в таких случаях приказ. Отправить этих безнадежно испорченных детей на фабрику, где шьют трехпалые рукавицы для снайперов-красноармейцев, чтобы дети там честно трудились всю свою оставшуюся жизнь и никогда больше не пробовали играть в конармию, и уж тем более реввоенсовет. Но сначала, как честный и принципиальный отец, он должен был сам поставить специальными щипцами вечные метки на руки самой жизнью выбракованным Щуку и Хеку. Только немного подумав, старший следователь Серегин правильно рассудил, что Щук и Хек еще очень маленькие, а значит, еще, пожалуй, поддаются перековке. Нужно им лишь только пройти через настоящее большое испытание, чтобы очистить и закалить свой дух и стать потом не просто пионерами, а даже, может быть, вожатыми или значкистами ГТО. А где способен по-настоящему возмужать и окрепнуть слабый детский дух? Конечно же, на фронте. Это все знают, и уж тем более папа Щука и Хека, сам еще недавно красный командир. Вот почему он в конце концов принял правильное и единственно верное решение: отделить детей от совершенно безнадежной мамы и отправить прямо на фронт, который в тот момент самого резкого обострения классовой борьбы стоял буквально у ворот. А это значит, его передовая проходила не как обычно через Бутырский централ, а непосредственно по внутренней тюрьме НКВД.
Папа снял телефонную трубку, и тут же тюремный парикмахер обрил и Щука, и Хека под ноль, а затем уже два строгих надзирателя отвели ребятишек в камеру на пятом этаже самого охраняемого здания в городе под красными звездами. И так все это было сделано быстро и четко, что Щук и Хек совсем потеряли ориентацию и даже подумали, что привели их не наверх, под крышу, где сороки и воробьи, а, наоборот, вниз, в глубокий подвал, где только раки и мокрицы. А на самом деле просто окошко в их камере было очень-очень маленьким и проделано оно было под самым-самым потолком, да к тому же закрыто в два слоя решеткой и деревянным щитом. Ни лучика дневного света не проникало в это со всех сторон закрытое помещение, и так тускло светила маленькая лампочка и так сильно воняла большая параша, что Щук и Хек даже не сразу заметили, как с деревянных нар поднялись и молча подошли к ним целых три человека. Комиссар Тимур Гараев, моряк Гейка и военный хирург Николай Колокольчиков. Все они уже второй месяц находились под следствием, многое повидали, но только маленьких ребятишек в темной камере встречали первый раз.
– За что? – спросил Щука и Хека комиссар Гараев, который был здесь выбранным старостой и по этому праву всегда начинал разговор.
– Мы саботажники, – затянул Щук басовито и однотонно, а Хек стал выводить потоньше, но с переливами:
– Мы злодейски сожгли телеграмму от нашего папы, старшего следователя Серегина, а потом цинично пошли это дело перекурить в тамбур скорого поезда…
– В тамбур? Скорого поезда? – от возмущения таким антисанитарным и негигиеничным поступком советских детей доктор Колокольчиков даже попятился и сел на нары. – Оба?
– Оба, – хором сознались малолетки и заплакали еще громче.
– Да вы же самые настоящие преступники против социалистического государства, – гневно сказал моряк Гейка, строго поглядев на зареванных братьев. – Вы же против курса партии на здоровое материнство и детство, а значит, объективно заодно с фашистами и буржуями всех мастей.
После этих слов моряк немедленно отобрал у Щука и Хека буденновки с красными звездами на лбу. И правильно сделал, потому что мальчики только бессмысленно их мяли и теребили, а неумеха Хек даже пытался своей собственной вытирать слезы со щек.
– Порвать и в парашу? – спросил Гейка у Тимура, показывая ему два самодельных колпака с ушами.
– Нет, подожди, – отстранил комиссар слишком решительного моряка.
Он сел на корточки и посмотрел Щуку и Хеку очень внимательно прямо в глаза. Да, опытный комиссар Гараев сразу увидел то, чего не заметили два других его торопливых товарища. На руках у Щука и Хека нет черных несмываемых меток, а значит, самая справедливая в мире народная власть не отказалась от них окончательно, несмотря на всю тяжесть совершенных ими деяний. Страна еще верит в этих запутавшихся и заблудившихся мальчишек, она дает им возможность вернуться к трудам и боям и даже, может быть, стать пионерами, если они, конечно, по-настоящему поработают над собой и смогут исправиться.
– Не плачьте – сказал Тимур Гараев и погладил Щука и Хека по обритым головам. – Вы, конечно, оба страшно виноваты перед рабочими, крестьянами и красноармейцами. Но вам повезло, вы попали в камеру, где сидят настоящие патриоты и коммунисты, кристально чистые люди, которые оказались здесь только затем, чтобы своими показаниями и образцовым поведением на суде помочь Стране Советов победить всех разом внутренних и внешних врагов. Мы отучим вас от вредных привычек и научим полезным.
– И даже хранить страшные военные тайны научите? – неуверенным, дрожащим от страха и слабой надежды голосом спросил Щук комиссара Гараева.
– Обязательно.
– И тогда нас может быть примут в пионеры? – тут же не к месту бухнул маленький простодушный Хек, краснея и даже не смея от сильного волнения поднять глаза.
– Может быть, – ответил ему комиссар и улыбнулся самым краешком губ. – Посмотрим, как вы сегодня вычистите парашу. Это будет вашим первым самым простым заданием.
– А буденновки пока изъять, – затем коротко и четко скомандовал он, повернувшись к молчавшему все это время Гейке. – Изъять, но сохранить.
– Есть, – по-военному односложно ответил своему старосте моряк.
А доктор Колокольчиков ничего не сказал, но обрадовался больше всех, потому что раньше это была его обязанность – день за днем драить толчок. Но делать это доктору давно уже не хотелось, ведь он верил, что его очень скоро оправдают и выпустят отсюда, а чистые руки для военного хирурга важнее всего на свете.
Знайте, доктор Николай Колокольчиков давно уже спасовал перед трудностями. В тот момент, когда все настоящие большевики, коммунисты и беспартийные только и думали о том, как бы поскорей погибнуть с клеймом врага народа ради окончательной победы и всеобщего торжества первого в мире государства рабочих и крестьян, доктор Колокольчиков хотел фланировать вольняшкой по больничному коридору. Он хотел ходить налегке, в белых перчатках и с пинцетиком в кармане, и ни по какому поводу не волноваться. А за всеми этими громкими рассуждениями о пролетарской антисептике и советской анестезии пытался всего лишь навсего скрыть трусливое желание перерожденца спасти свою собственную шкуру.
Только жалость к себе – это всегда первый шаг к предательству, и неудивительно, что однажды ночью, когда, наигравшись в буру и сику, моряк и комиссар уснули, Николай Колокольчиков на тонкой папиросной бумаге химическим карандашом написал письмо товарищу Сталину. Он написал в Кремль, в дом под красными звездами, малодушное письмо о том, что ни он сам, ни комиссар Тимур Гараев, ни уж тем более моряк Гейка ни в чем не виноваты, стали жертвами подлого оговора и должны быть как можно скорее отправлены из тюрьмы домой. Но уже окончательно и бесповоротно доктор встал на путь предательства, когда во время утреннего шмона тихонько положил это свое послание в карман одному надзирателю по прозвищу Фигура, и шепотом при этом пообещал отдать ему еще и все свои деньги, если только тот перешлет письмо адресату. Через день Петр Пятаков по прозвищу Фигура пришел за деньгами, а доктор Колокольчиков с той поры стал беречь себя и ждать скорого освобождения.
Глупый доктор недооценил силы классового чутья, которое просыпается в любом человеке, даже двух таких маленьких, как Щук и Хек, от ежедневного непосильного физического труда. Он решил, что ребятишки всего лишь навсего пара маленьких сопливых и нечистоплотных нытиков, вконец испорченных долгим и растлевающим влиянием чуждых элементов. Хирург бесстыдно думал, что метки каленным железом на руки детям не поставили случайно, как это бывало у него самого в больнице, по недосмотру или потому что выключилось электричество. Он был уверен, что никогда-никогда уже в маленьких бритых головках Щука и Хека не заговорят пролетарское сознание и революционная бдительность. Вот почему доктор Колокольчиков так неосмотрительно переложил на ребятишек всю грязную работу в камере. Он даже пятки перестал чесать перед сном матросу и комиссару и вовсе не желал теперь жевать пайковый хлеб, чтобы из него получился клейстер, без которого из тонких книжных или газетных листочков невозможно сделать плотные как картон игральные карты для соревнований на сообразительность и координацию движений. Он берег свои зубы и десны. Но в самой глубине своей полностью разложившейся души он, наверное хотел, чтобы детишки следователя Серегина так и остались темными и неразвитыми. А каждый день он пунктуально отучал их от курения, скорее всего только для вида, только для того, чтобы все вокруг продолжали верить, что он наш, советский врач, который стоит на страже пролетарской гигиены и профилактики, советского материнства и детства.
Такой необыкновенно подлый и двуличный человек встретился на жизненном пути Щука и Хека. Настоящий враг, а не жалкий лазутчик, кот Васька, у которого фашизм большими немецкими буквами написан прямо на его рыжей морде. Но жалеть Щука и Хека не надо, потому что одновременно с врагом встретился на их жизненном пути и человек с большой буквы, комиссар Тимур Гараев. Тимур Гараев верил в оступившихся детей, в их светлое пионерское будущее, но главное, как настоящий большевик, он ни одной секунды не сомневался в неодолимости и жизнестойкости настоящего классового чутья и пролетарского самосознания.
Вот почему по прошествии двух недель, в течение которых Щук и Хек без устали все подбирали, драили и мыли вместо доктора Колокольчикова, и даже черный хлеб жевали на клейстер, чтобы после каждого шмона заново мастырить карты, комиссар Гараев решил подозвать мальчиков к себе. Доктор Колокольчиков как раз в это время был на очередном допросе, и дети могли его совсем не бояться.
– Друзья, – сказал Тимур строго и торжественно, – сегодня я хочу проверить и убедиться, что вы на правильном пути. Для этого я вам задам всего один вопрос, но очень и очень важный. Ответить на него вы должны быстро и без раздумий. Итак, слушайте внимательно. Что вы думаете о докторе Колокольчикове?
– По-моему, он самый настоящий жид, – глядя комиссару прямо в глаза, быстро и без колебаний ответил Щук. А Хек с удивлением и уважением посмотрел на своего старшего брата, который раньше не мог даже русского от татарина отличить. Но поскольку Хек был хоть и маленьким, но очень честным, то сам он добавил вот что:
– А по-моему, товарищ Гараев, этот Колокольчиков даже хуже жида. Он предатель и перерожденец.
– Почему ты так решил? – не без удивления спросил Тимур догадливого мальчугана.
– А потому, что я из той бумаги и клейстера, которые остались от вчерашней колоды, сделал маленький перископ и в него сегодня всю ночь из-под одеяла наблюдал за доктором Колокольчиковым.
Когда Хек произнес слово «перископ», пришло уже время его старшему брату посмотреть с гордостью и уважением на младшего. Ведь еще недавно этот Хек даже треугольный галстук не мог вырезать из бумаги, не то что настоящий, работающий оптический прибор.
– Ну и что же ты увидел? – между тем спросил Хека комиссар Тимур.
– А то, что Колокольчиков всю ночь писал донос на папиросной бумаге, а потом спрятал его в щелочку на нарах под матрасом.
– Гейка, а ну проверить, – быстро скомандовал Тимур.
Моряк бросился к топчану Колокольчикова и действительно нашел в щелочке под матрасом плотно свернутую полоску папиросной бумаги. Только это был вовсе не донос, а письмо, которое, если бы не ранний вызов на допрос, Коля Колокольчиков, конечно, опустил бы, как обычно, в карман надзирателю по прозвищу Фигура. И адресовано оно было на сей раз не в Центральный Комитет, а невесте Тимура Гараева, красивой девушке Жене. Писал ей доктор Колокольчиков о разном, но главным образом, конечно, о своей любви и о том, что должна Женя непременно уйти от Тимура к нему, Коле Колокольчикову, потому что очень скоро его освободят личным указом товарища Сталина, а вот Тимура еще неизвестно. Ведь он по утрам вовсе не чистит зубы и даже не делает дыхательной гимнастики. Молча прочитал все это комиссар Гараев. Потом, ни слова не говоря, сложил письмо узкой полоской и отдал матросу.
– Верни на место, – коротко велел он Гейке.
А затем уже сам повернулся к Щуку и Хеку. Лицо у него в этот момент было очень суровое, но глаза необыкновенно добрые. Он погладил мальчиков по головкам и ласково сказал:
– Спасибо, товарищи. Сегодня моя очередь мыть парашу.
Когда доктор Колокольчиков вернулся с допроса, ему никто ничего не сказал. А сам он ни о чем не догадался. Он просто заметил, что параша уже чисто и хорошо вымыта, и поэтому решил, что может раньше начать и дольше обычного отучать Щука и Хека от курения. А делал это предатель и вредитель доктор, окончательно и полностью уже себя разоблачая, точно так же, как контрреволюционная мама Щука и Хека. Но из-за того, что тюремная махорка была очень крепкой и грубой, мальчиков намного дольше, чем когда-то в Миляжково, мутило и так кружилась голова, что они не могли полночи уснуть. Только старались, а когда не спишь, а лишь стараешься, можно все услышать и даже увидеть через полузакрытые веки.
Вначале, правда, ничего интересного не происходило. Ночь шла, как обычно. Доктор проиграл комиссару в буру свитер и кальсоны. А потом уже моряку в сику фото артистки Любови Орловой, которое было у него зашито в матрасе, под самым изголовьем. Расстроенный Колокольчиков лег на матрас моряка, в котором ничего хорошего не было зашито, даже ваты и то положено с гулькин нос, закрылся с головой одеялом и стал думать о скором освобождении. И оно, наверное, ему приснилось, потому что очень скоро одеяло съехало с серого лица доктора и стало слышно, как он довольно и громко храпит.
И тогда со своего матраса приподнялся комиссар. Он внимательно посмотрел на спящего доктора Колокольчикова, потом на неподвижных Щука и Хека, а только после этого на моряка Гейку, который уже стоял с подушкою в руках посреди камеры и ждал приказания.
– Давай, – тихо сказал ему Тимур.
И тут же быстрый Гейка накрыл лицо предателя Колокольчикова подушкой, а сам сел на нее сверху. Через мгновение рядом с ним, плечо к плечу, оказался и комиссар. Минут десять они так сидели молча и неподвижно. Руки и ноги доктора давно уже перестали дергаться, вонь параши снова проникла в маленькие носы Щука и Хека, заглушая громкий бой их детских сердец, а комиссар с моряком все сидели верхом на военном хирурге и молча глядели на тусклую лампочку. И лица их светились в темноте сильнее слабого электрического прибора под потолком. Они горели ярко и ровно, как звезды над самым красивым городом в мире.
Утром доктор Колокольчиков не встал на построение перед шмоном. Тогда в камеру пришел начальник этажа комкор Квакин и сразу установил, что подследственный Николай Колокольчиков скончался прошедшей ночью от разрыва сердца.
Целых три дня после этого ничего не происходило. А может быть, и происходило, только Щук и Хек этого не замечали. Потому что целых три дня им никто не давал никаких нарядов и даже не отучал от курения и поэтому дети спали круглые сутки. И лишь на третью ночь они проснулись от того, что дверь в камере открылась и зашел надзиратель Фигура. В руках у Петра Пятакова был листок бумаги и фонарик. А за спиной у него в проеме двери стоял комкор Квакин.
– Кто здесь на г? – громко спросил надзиратель.
– Я, Тимур Гараев, – ответил комиссар, поднимаясь.
– Тогда выходи, – сказал ему комкор.
Утром комиссар не вернулся. Не вернулся он и на следующий день. И на следующий. И тогда Щук и Хек все поняли. Комиссар Гараев, товарищ Тимур, в точности так, как того требовал революционный момент, ответил на все вопросы прокурора и судьи. Он держался героем и за это его отвели в подвал, где раки и мокрицы, и там поставили к стенке. Только потому, наверное, что Щук и Хек были еще совсем маленькими, им не стало радостно и весело от того, что вот свершилась мечта мужественного и самоотверженного человека. И смог он честно отдать всю свою жизнь до последней капли делу окончательной победы Советской власти во всем мире. Совсем наоборот, Щуку и Хеку сделалось страшно. Мальчики стали думать, что их тоже очень скоро вызовут на букву щ и букву х, и придется им уже совершенно точно идти в подвал, где раки и мокрицы, так и не побыв в этой жизни пионерами, вожатыми и значкистами ГТО. И стали они от этих страхов во сне пинаться, и рвать край одеяла пальцами, и даже плакать.
Только плохой сон – это не предатель Колокольчиков, которого можно просто накрыть подушкой, а потом за ноги и за руки вытащить из камеры. Это правда. Но правда и то, что плохой сон можно потушить, как лампу, если только знаешь простые секреты физики, математики и физиологии. А моряк Гейка все простые секреты знал. Ведь он пять лет учился в мореходном училище, и все пять лет только на хорошо и отлично. А еще он знал, что Щуку и Хеку нечего бояться подвала. Нет пока в революционном праве такой статьи, а чтобы дорасти до той статьи, которая есть, Щуку и Хеку надо много и упорно трудиться. Работать над собой, стать пионерами, вожатыми, значкистами ГТО. Но главное избавиться от всех вредных привычек, ведь гигиена для советских детей самое главное, как бы это понятие и ни трактовал, ни извращал подлый предатель и вражеский наймит врач Колокольчиков.
И вот в одну из ночей, когда дети во сне особенно много ворочались и громко просили пить, моряк Гейка поднялся со своего топчана и в кучке вещей, проигранных когда-то военным хирургом в буру и сику, нашел две буденновки. Ничего с ними не стало за то время, что пролежали они среди исподнего и ношеных штанов. Все так же гордо топорщились шишаки, а красные звезды на лбу ярко горели. Бережно положил моряк Гейка ту, что побольше, на подушку Щука, а ту, что поменьше, на подушку Хека. Потом быстро подул на горячие детские лбы, и через минуту ребятишки уже не плакали, а сладко сопели и чмокали губами, засунув ладошки под щеки. А это означало, что плохие сны погасли, как выключенная лампочка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































