Текст книги "Игра в ящик"
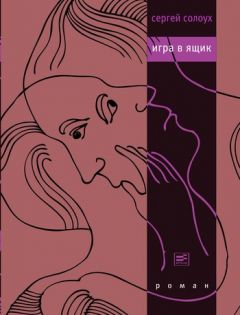
Автор книги: Сергей Солоух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
И случилось это очень вовремя. Не успел моряк улыбнуться и обрадоваться силе простых секретов физики, математики и физиологии, как в ночном коридоре раздались шаги. Дверь в камеру отворилась, и зашел надзиратель Фигура. В руках у него, как обычно по ночам, были листок бумаги и фонарик. Только моряк не стал ждать, когда Петр Пятаков назовет его букву. Он сам шагнул в коридор, потому что оставил за своей спиной крепкую и надежную смену, Щука и Хека.
Утром мальчики проснулись и нашли на своих подушках буденновки. Они надели их на головы, обнялись и стали слушать, как на крыше воробьи и сороки кричат: «турум-бай» и «турум-бей». Глупые птицы, конечно, не знали, что Щука и Хека приняли в пионеры. Просто они радовались оттепели, которая внезапно пришла в большой город под красными звездами в самой середине декабря. А еще в середине декабря в кабинет папы Щука и Хека пришел самый большой командир, который только был в папиной организации. Он лично вел дело того морского летчика, который в поезде всех угощал кедровыми орешками.
На самом деле это был совсем не простой военный летчик. Он не летал бомбить самураев и не садился среди леса на брюхо, чтобы забрать раненых красноармейцев. Вместо этого он возил на своем быстром аэроплане командарма всех дальневосточных войск. Вот по какой причине этого летчика и вызвали в Москву. Чтобы он, как настоящий большевик и сын рабоче-крестьянского народа, помог своей стране разоблачить фашистский заговор в штабе дальневосточных войск. Ведь рыба начинает гнить с головы, и это знают все. Даже дети.
Вот только летчик почему-то неправильно понимал историческое требование момента и совсем не хотел сотрудничать со следствием. Чтобы сломить его бессмысленное сопротивление, самый главный командир, который только был в папиной организации, решил устроить этому летчику очную ставку с мамой Щука и Хека. Командир зашел в кабинет папы, чтобы договориться об этом, и увидел там маму. Мамина красота так его поразила, что он тут же отстранил папу от следствия. Обвинил его в превышении властных полномочий и жестоком обращении с подозреваемыми. Как настоящий советский человек, папа сейчас же во всем признался, даже в связи с молоденькой машинисткой из секретного отдела и еще одной беспартийной женщиной, которую он никогда не видел, но которая до чертиков надоела самому главному командиру. И когда все это случилось, самый главный командир понял, что теперь совесть папы Щука и Хека совершенно чиста и его можно спокойно отвести в подвал. Самый главный командир махнул рукой, и папы не стало.
А Щуку и Хеку решением особого совещания дали десять лет дальних лагерей, чтобы там, за Синими горами у Синего моря, сыновья разоблаченного следователя Серегина смогли искупить вину отца. Так закончить свои испытания и стать уже настоящими пионерами с личными делами и порядковыми номерами. Это во-первых. А во-вторых, просто не путались под ногами и не мешали новому счастью своей матери.
РАМА
Козье счастье Бори Катца, единственная за долгие, худосочные три года в ИПУ несомненная и настоящая удача – угловая всем на зависть комната на самом тихом и уютном третьем этаже, вынесенная слепым декабрьским жребием к ногам сорокового воробьиного размера, – и она оказалась в конце концов форменной ловушкой и засадой. На первый взгляд такая благодать – всего лишь две некапитальные стены на самой дальней границе приватного периметра с сортирчиком и коридорчиком, один лишь угол кухоньки, метр на полтора и только, пропускали звуки. Но какие. За одной легкой, бумажной перегородкой в такой же кухоньке-клетушке круглые сутки что-то с назойливой больничной неизменностью глухо сопело и звонко капало, а за второй – тонким, тончайшим водоразделом с соседским санузлом – уже не что-то, а кто-то с пугающей внезапностью валился, сраженный продуктами санитарии журчанья и сопенья, падал, то предварительно с размаху хлопнувшись в полкирпича общего достояния, то по-простому, без удара, осеннею ленивою метлой сползая по нему. Известковые мурашки звездами сыпались на черную газовую плиту, где зрели в кипятке сосиски. Брезгливый Боря тут же зараженные междустенным опылением выбрасывал. Катц вздрагивал при виде незнакомых пятнышек и прекращал дышать, носом поймав не ту отдушку. И время тогда переставало двигаться, не видоизменялось, как в карантинном боксе инфекционного барака.
За тонкой горчичною стеной гнездилось сумасшествие. Импотенция в широком смысле слова, да и в узком тоже, нет сомнений. За склеенными жиденьким цементом половинками не думали о главном, о том, о чем денно и нощно должен по умолчанию и по определению печься любой аспирант третьего года обучения. Как не сдать ни пяди. Как умереть лицом на запад, а спиною на восток. Не отступив ни шагу от деревни Крюково, ну или Миляжково, что тоже Московской области.
Там, с той стороны стены, безвольно и позорно хотели жить. Существовать, пусть даже капитулянтски откатившись за Урал. За много тысяч километров от столицы. Во тьму Караганды, Прокопьевска или же угольной жемчужины Якутии города молодежи Нерюнгри. Абсурд! И тем не менее сосед, такой же аспирант на выданье А. А. Панчеха, не суетился днем и ночью, не ходил в институт, не подлизывался к научному руководителю, не выполнял общественные поручения отдела аспирантуры и даже на субботнике по благоустройству территории, где можно было на глаза попасться всему составу директората, и то не появился!
Безумец вечерними и утренними клизмами на бледной и необитаемой дистиллированной воде выводил из организма шлаки. Кроме того не реже пяти раз в день, для разжиженья крови и общей активации ее обращения по малым и большим кругам, невидимый носитель пораженческой, капитулянтской философии бегал на месте.
В такие минуты отзывчивый и чуткий рояльный пол общаги немедленно вынуждал крепкие моляры Бори подхватывать насосную чечетку, и следовавшее за этим благотворное и неизбежное улучшение кровоснабжения мозга отдавалось невыносимым гулом в ушах Б. Катца. Неотделимые от головы виски раскалывались. Хотелось выстрелить в окно. И два раза в упор. Но даже простейший, элементарный выход – панический исход и тот был чреват мучительнейшими последствиями. Борис не мог покинуть свой вожделенный, некогда такой желанный коридорный куль-де-сак, не миновав соседской двери. И какой бы бесшумной молью, институткой ни пытался Боря просквозить мимо, или принципиально иным манером – быстрее звука, пулькой мелкашки, дунуть вон, через раз на третий его встречали.
– Борис, – радостно мир заслонял огромный, несмотря на все усилия по укрощению плоти, и непрозрачный, как сухое дерево, борец за вечную активность через ночной контакт с системой парового отопления А. А. Панчеха, – минутка есть? Зайдешь?
С некоторых пор сутулый великан по прозвищу Махатма испытывал искреннюю, неподдельную симпатию к своему мелкому, с армейской выправкой соседу-антиподу и даже мог бы, только намекни Борис, запросто одолжить ему для дела любую из наличного арсенала клистеров и грелок. Ребристый или гладкий каучук всех мыслимых оттенков трупных пятен и гангрены. Ну а поскольку Катц тянул, задерживал дыханье, маялся и отводил глаза, Андрей Панчеха дружелюбно и без спроса сам предлагал, совал под нос товарищу нечто другое. Нечто такое, от чего немыслимо и невозможно было в условиях общаги отказаться, взять и проигнорировать. При каждой встрече безо всяких просьб Андрей протягивал Борису руку. Сухое и шершавое весло.
И это было самым страшным, потому что именно так, посредством простого товарищеского рукопожатия, Борис Аркадьевич и опасался в конце концов погибнуть. Заразиться. Подхватить какую-нибудь гнусную йогу от соседа. Впитать нечто несовместимое с той жизнью, ради которой Боря рванул сюда, в Европу, из своей Сибири.
Катц опасался дурь получить как насморк. Ложные представления о смысле жизни воздушно-капельным путем. Цап, и поплыли. Домой, где воздержанье и морковная диета, естественная доблесть и геройство всех, кто не прикреплен к столу заказов.
Нет! Боря будет жрать жиры и углеводы пачками, горстями, а если надо и круглосуточно, покуда не добьется своего. Здесь, в ЛПЗ Москвы. В сорока минутах езды от Вешняковского универмага и в сорока пяти от магазина «Будапешт». Он, Боря Катц, будет пихать в себя любые окислители, а если надо, и канцерогены. Прямо в пищевод. Пока не встретит и не покорит носителя печати. Не адских и зловредных идей раздельного питания, а штампа, отметки о прописке, безукоризненного, идеально черного московской или пусть смазанного несколько, но все равно правильного прямоугольника подмосковной, непременно, и вот тогда Боря надышится и руки мыть не будет вовсе. Ну а до той поры, до этого момента, чтобы не пасть жертвой ложноножки и спирохеты, чтоб не сгинуть в дистиллированной воде нелепых заблуждений, Борис, и без того строгий в вопросах личной гигиены, применял совсем уже драконовские меры обеззараживания как кожи, так и местности.
В частности, для освеженья рук после нечаянных встреч с Махатмой в фермопилах коридора Борис Аркадьевич носил в комбинированном портфеле-дипломате с медальным серебром замочков плоскую фляжку крепкой туалетной зелени «О’жен» и плотную аптечную турунду белой ваты. И так частенько и по-свински от него несло теперь профилактическими мерами на базе едких компонентов московской фабрики «Свобода», что девушки, носители необходимых штампов, и так-то слишком стерильного и осмотрительного Борю не жаловавшие вниманием, совсем к нему остыли. Красивого урода в банке с формалином, как сговорившись, отказывались принимать за парный себе, живым, объект. Рассматривать – пожалуйста, и даже трогать иногда, а остальное ни за что. Холодом реагировали, встречали все заходы и намеки консервированного горошка. Оловянного солдатика великого похода за лучшее снабжение, как продуктовое, так и промтоварное.
Зато естественная ненависть, которую испытывал в этот последний Борин год к своему жалкому, насильно навяленному аспиранту научный руководитель Лев Нахамович Вайс, своей неуправляемостью, какой-то дикой, волчьей пружиной уже не в шутку пугала самого завлаба, этого хладнокровного как рыба и бессердечного как жаба, до ослепительного, все отражающего блеска рафинированного гада.
– Вы что, дурак? – однажды даже поинтересовался Лев Нахамович, никогда в жизни не сообщавший то, что думает, тем более то, в чем уверен. Даже в беспамятстве, под пыткой, в лихорадке, не то чтобы вот так вот от души, вслух, да еще в присутствии О. Прохоровой и О. Рослякова.
И это огорчало. Ведь, с одной стороны, именно отсутствие рабочего контакта с научным руководителем и превратило окончательно и бесповоротно А. А. Панчеху в человека без имени и отчества, с дурацким прозвищем, кликухой, да еще женского, сомнительного рода, склоняющейся по типу всем вам крышка и финита – Махатма, Махатмы, Махатме и т. д. А с другой, научный руководитель, блистательный пройдоха, жулик, один-единственный мог совершить чудо. Волшебник Л. Н. Вайс мог дать добро на предзащиту, махнуть рукой и пропустить Борька через научный семинар и так, законным образом, официально продлить Борино пребывание в Миляжкове МО, на месяц, а неофициально, уже по инерции – на два или, быть может, три. Дать лишний квартал, а с ним и шанс пусть не в московском, так в подмосковном ЗАГСе в красивую пологую черту без лишних завитушек свести горбы и ямы аспирантской нелегкой линии.
С пчелиной, гудящей середины мая Борис пахал. Не шлялся по арбатским переулкам, где, по общажному преданию, один донецкий парень, такой же, в общем, аспирант, как все, однажды встретил свое счастье. Младшую дочку маршала с полным набором и пайком. Не рыскал Боб и по мелкому песку бульваров, где внучки секретарей ЦК, как утверждали знающие люди, выгуливают кривоногих, как обувные этажерки, такс.
Всю накопленную за два с половиной года патентных изысканий tensile strength «разрывающую интенсивность» Б. Катц пытался zurückgewinnen «выиграть назад», как и положено фурайхоииру-баттэри, тут долгое «и» на полный кубик легких. Но если собственное новое заповедное слово по заявленной в теме Бориной работы проблеме упреждающей коррекции радиальной девиации в магнитных подшипниках шахтных маховиков-накопителей как-то пока не формулировалось, не вытанцовывалось, не клеилось, зато старые, чужие, переведенные с двух европейских и одного азиатского языка, лепились единым духом, строились одно к другому, вальсировали мальчик с девочкой за будьте здоровы. Как результат клейки и пайки в конце июня двести пятьдесят машинописных страниц, благоухающих шипучими, летучими молекулярными решетками московской фабрики «Свобода», легли на стол Л. Вайса.
– Что это? – спросил Лев Нахамович, безо всякой подготовки и напряжения издав ртом звук, который из себя часами выманивал с помощью разнообразных и сложных приспособлений трудолюбивый и настойчивый Махатма.
– Работа, – не дрогнув, твердо и решительно ответствовал Борис.
И вновь проклятый женский род. Неверный и таинственный. Работа. Лишь через месяц выяснилось, что аспирант и его научный руководитель вкладывают в это незатейливое существительное, склоняющееся по тому же продуктивному типу, что и Махатма, работа, работы и работе, работу, совершенно разный, никак не совпадающий, гармонии и мира не сулящий смысл.
Пару недель, покуда антисептика линяла, а взгляд Льва Нахамовича твердел и фокусировался, завлаб злословил. Шутил. Пачку листов, пуд, весом превышающий в два раза весь, от введения до заключения, кандидатский стандарт и норматив, Вайс счел анекдотической попыткой представить первую главу, одну-единственную, состояние вопроса. И только-то. Упоминались тезки Л. Н. Вайса Лев Толстой, автор четырех томов «Войны и мира», и Лев Моисеевич Мишурис – автор единственной в истории ИПУ двухтомной докторской на тему управления горным давлением. Оба, скорее с юмористическим, нежели негативным, уничижительным оттенком. Вся горечь и безнадежность последнего досталась Боре, когда, прослушав дежурные рекомендации о необходимости существенного сокращения и вообще большего внимания и уважения к согласованию определяющего и определяемого слова, Катц, окрыленный отеческим, универсальным тоном наставлений, вдруг птенчиком чирикнул:
– Лев Нахамович, автореферат тоже надо подготовить к предзащите?
– Какой автореферат? – как дачный краник на летней заре, поперхнулся столь неуместным и многосложным словом Л. Н. Вайс.
– Мой, – доверчиво лучась, неумолимо гнал волну Борис Аркадьевич. Качал. Лез на рожон.
Вот тут-то Лев Нахамович и опростоволосился. Ляпнул постыдное, немыслимое, несовместимое с его безукоризненными манерами лощеного проныры, английским твидом, блестящей итальянской кожей и сигаретами с ментолом Salem из олимпийских недоступных закромов:
– Вы что, совсем того?
Контакт с научным руководителем трагически терялся, а с А. Панчехой, он же Махатма, наоборот, все четче и яснее намечался, обрисовывался. И что ужасно, и то и это пугающе разнонаправленные перемещения в пространстве и во времени – на почве патентных изысканий.
Японскую зацепку Катц разгадал немедленно, не дал себя поймать, когда Махатма, тогда еще практически Панчеха, сугубый теоретик, не спятивший совсем и окончательно на почве раннего артрита и позднего тромбофлебита, как-то в холле неожиданно завел опасную сближением беседу о корнях солнца. Уже тогда, почти два года тому назад, беду предчувствуя надпозвоночной нежной шерсткой в любом дуновении с востока, Борис просто не стал вникать, только такую трудную и непривычную фамилию запомнил, по аналогии, как пару новых значков кандзи. Пан и Чеха.
Но вот когда в начале этой зимы уже готовый, агрессивный вирусоноситель Пана Сеха спросил, и снова на ходу, на лестнице, как бы нечаянно, не может ли Борис ему достать в патентной, до слез знакомой и родной Б. Катцу библиотеке, ВНПБ, копию давно забытого авторского свидетельства, ничего не екнуло, не оборвалось в душе несчастного.
– У них страничка десять копеек, – сказал Борис по-деловому и тут же получил увядший листик казначейского билета. А через полчаса еще и записульку с номерочком.
И с этого момента Боря Катц, очистку не приемлевший, а сотрясения капилляров и сосудов покрупнее попросту мучительно боявшийся, стал самым дорогим, желанным гостем в безумном клистирном централе за стеной.
– Борис! Минутка есть? Зайдешь?
В спартанской обстановке соседской кельи физическим, осязаемым и обоняемым воплощением и в мыслях запрещенного Борисом drang nach Osten, апофеозом всей враждебной водно-моторной деятельности Махатмы рос прибор АИ-1. На стапелях, в железной раме, под угольной, газетной пылью мутного портрета своего изобретателя, академика с таперской бабочкой-кокеткой на белой шее и строгой, как у космонавта, Звездой Героя на черном грифельном борту пиджака, воздвигался гидроаэроионизатор. Вечный двигатель здоровья, философский камень с электроприводом, устройство и принцип действия которого раскрыла, высветлила Махатме окончательно и полностью пара бумажек, доставленных собственноручно Б. А. Катцем из дома на Бережковской набережной, а. с. 115834.
– Борис, ты не поверишь, – шипел, шуршал весь шелушащийся от чистоты и праведности А. Панчеха и тыкал длинной отверткой пальца то в портрет бритого по всей окружности кумира, то в трубками топорщившийся агрегат на раме. – Все гениальное просто. Очень просто. Это точило и больше ничего, обыкновенное точило, только вместо абразивного круга диск-распылитель. Центробежная сила, механическое измельчение воды, производит гидроионы в объеме, пропорциональном квадрату угловой скорости… Это я сам подсчитал, – скромно добавлял Махатма. – Элементарное точило, поставленное на попа. А остальное физика, ты понимаешь?
Ну как не понять? Боря Катц, не славившися сообразительностью, ловивший на лету лишь птичий помет да глупые смешки вдруг поскользнувшись, в данном конкретном случае, в вопросе, касавшемся буквально жизни и смерти, суть ухватил на раз, просек, можно сказать, в первый же день, в момент его же собственной неосмотрительностью инициированной закладки чудодейственного точила с квадратом скорости в функционале.
Все! Рано или поздно к сонму всех ненавистных звуков, сочившихся, струившихся и падавших из-за двух общих стен, просившихся к Борису в уютный, тихий уголок, скоро добавится еще один, свистящий, ноющий, зубной, а вместе с ним, возможно, и невидимое, неосязаемое, но всепроникающее излучение. Неукротимым ионным ветром бациллоносных блох пихающее прямо сквозь кирпич и краску непосредственно к Б. Катцу в кухню. На образцово разложенные там продукты питания и столовые приборы. В предчувствии чудовищной разум и волю пожирающей антисанитарии Катц собирался умирать. И даже примерялся, глядел с тупою неопределенностью на серенький асфальт и клумбу под своим окошком.
И так тоскливо и безнадежно Борис ее гипнотизировал, что, утомленная Бориной нерешительностью, сама мостовая в один прекрасный день взяла и прыгнула. И Боря, как-то утром явившись на работу, увидел в холле главного корпуса портрет в траурной рамке, и тут случилось не придуманное, не навеянное перетоками бесцветной жидкости за стеной, а настоящее, обыкновенное несчастье, без длинной, корабельной, так его пугавшей руки Махатмы. Борис сошел с ума. Рехнулся. Б. Катц решил, что только он один на белом свете может утешить Олечку Прохорову и таким образом стать наконец-то постоянным обитателем Миляжково, с пропиской в профессорском поселке с непрофессорским названием ВИГА.
Какая мертвая петля! Уже давно Борис потерял надежду, не видел себя рядом с Олечкой, не числил ее в списках спасителей Отечества. Эту милую особу, когда-то ему довольно странным образом благоволившую и даже порой адресовавшую приватно, лично какие-то пусть и весьма своеобразные, но в общем-то теплом, сержантской грубоватой нежностью окрашенные слова и выражения. Пусть и не общего, быть может, негармоничного ряда, спрягающиеся и склоняющиеся индивидуально, но было же, все было именно для него, а потом вдруг разом – холод общих правил.
– Добрый день.
– Здравствуйте.
Не пара. Ну конечно, он осознал в конце концов жестокую реальность и всех юных сотрудниц научной библиотеки ИПУ Б. Б. переводил в кино. Вечерние сеансы – пятьдесят пять копеек за один билет. А когда удача ему не улыбнулась в возрастной группе до двадцати двух, Боря поднял планку до двадцати семи. И теперь два с полтиной уходили, а то и трешка, на субботние походы в театр с очкастой крашеной блондинкой из диссертационного фонда. Но баста. Ни в какие таганки-современники на Малой Бронной Катц больше не попрется. Он просто завернет в институт и пожмет маленькую, беленькую, от короткопалого отца унаследованную руку. И скажет… Что он скажет?
– Меня тоже поили этой… как ее… ну, этой… валерианкой… но ты не пей… выплевывай куда-нибудь… потом полгода голова не варит… нет, правда… нет, серьезно… ничего вообще не лезет… тридцать три раза повторяешь и не запоминается…
И еще он Олю поцелует как брат, впервые в жизни, в щеку. И все проблемы сами собой разрешатся в естественной логической последовательности, потому что Олечка Прохорова – не заносчивая профессорская дочь, какой была еще недавно. Олечка Прохорова отныне сирота. Такая же, как и он сам, Борис Аркадьевич Катц.
Два дня Борис дышал и скребся. Сидел в лаборатории, прохаживался по коридорам и посещал библиотеку, но даже тенью Олечка не мелькнула. В утро прощанья Борис потратился на шесть гвоздик и долго брился. Такой отважный и решительный, он растерялся, дотянув до похорон. До многолюдного собрания. И все, что казалось таким простым и легким при встрече один на один, сделалось почти невозможным под звуки магнитофонного Баха. Боря уже готов был не пойти, отложить все на потом, на рано или поздно неизбежную и неминуемую встречу в коридоре или лаборатории, он даже куртку снял – и вдруг увидел добрый знак. Книгу. В стопочке на антресолях шкафа – ту самую, Олечкину, давнюю, завернутую в выцветшую прошлогоднюю передовицу, которую он чуть было… не важно, не сделал же, не выбросил, не сдал… Значит, так надо.
Боря снова полез в рукава, а небольшой и мягкий талисман легко поместился во внутренний карман словно нарочно плотной, хоть и летней, югославской куртки, не выпирает. Радужный рыбий бок зеркала, вделанного в дверцу шкафа, отражал черную гладкую водолазку и общий строгий серый тон. Боря шагнул к двери, раскрыл ее, и то, что Махатма, Пана Сеха, не высунулся тут же, не опустил шлагбаум, стало еще одним хорошим знаком. Все правильно. Вперед.
На крыльце общаги стоял Роман Подцепа и курил. Серая гильза беломорины желтела и некрасиво подмокала, съедаемая огоньком уже у среза изломанного мундштука.
– Идешь? – словно тотчас же, на первом же встречном задумав испытать всю меру своей решимости, спросил Б. Катц.
– Иду, – глухо ответил Р. Подцепа и не прищурился, не отвернулся, как мог бы, должен был, дескать, ты проходи, дружок, ход не задерживай, мне все равно другой дорогой. Два несводимых в кучку глаза слегка ожили, замученный окурок полетел в кусты, и Рома выступил плечо к плечу, пошел рядом с Борисом.
Конечно, через две-три недели соберется на заседание Совет, Подцепе назначат нового научного руководителя, и он опять попрет как паровоз, давя всех окружающих, но это через месяц, а сейчас Роман Романович такой же, как и Боря, бесперспективный лопух, аспирант третьего года с пачкой никому не нужных, под бледную копирку отстуканных страничек. Внезапная нелепая гибель профессора всех уравняла на пару дней или недель, все сделала возможным. Борис хотел спросить об Олечке Романа, который наверняка, конечно, ее видел, но вместо этого внезапно поинтересовался, слышит ли Подцепа на своем пятом этаже, как падает Махатма.
– Махатма? – переспросил Роман и перестал быть роботом.
Его особый, гениально отвязанный от всех законов симметрии и соосности глаз навелся вдруг на Борю. Черную пешечку, обманным ходом пристроившуюся под бочок ферзя. Узнал Р. Р. Подцепа того, кто взял его на буксир, и удивился. И так нехорошо и молча, что немочь сизой голубкой накрыла Борю Катца, слабость бедренных и икроножных мышц лишила сил, но повернуть назад уже не было никакой возможности. Уверенность в себе, еще минуту назад железной кочергой толкавшая Бориса в спину, бесследно испарилась. Несчастный локотком пытался невидимую книгу-талисман прижать поближе к сердцу, чтоб напитала верой и теплом внезапно и безвольно ослабшее. Но все напрасно, прежнее ощущение равенства больше не опьяняло, и думалось лишь об одном: через три недели соберется на заседание Совет, Подцепе назначат нового научного, и он опять попрет как бронепоезд «Большевик», а Боря так и останется бесперспективным лопухом с пачкой никому не нужных, под бледную копирку отстуканных страниц.
И лишь увидев Олечку, Б. Катц опять воспрял. Она была бледна, несчастна и вся понятна. Вот только подойти к ней и заговорить не было ни малейшей возможности. В переполненном холле главного корпуса ИПУ алый плюшевый гроб на черном бархате постамента, словно сторожевая лодка, торпедный катер, отделял близких и родственников от медленно струившихся волн сочувствия с другой, подветренной стороны. В спину дышали, и цветы пришлось положить второпях, где-то в ногах, в районе живота, а Олечка сидела рядом с матерью у изголовья и, кажется, в этот момент вовсе на Борю не смотрела. Зато на нее саму не отрываясь пялился лысоватый молодой человек, маячивший прямо у Оли за спиной. Больше того, время от времени плешивый субчик со сдавленной картошкой носа, которую до этого Борис видел лишь у директора ИПУ А. В. Карпенко и только ему прощал, трогал плечо и руку девушки и тем особенно расстраивал Б. Катца. Счастливая мысль, что это родственник, конечно же, двоюродный, троюродный, пришла не сразу, но тут же успокоила. Борис собрался вновь, резиночка решительности, авиамодельная венгерка, в очередной раз саму себя подкинула к зениту.
«Гроб, – соображал Б. Катц, – таскать – не выражать сочувствие, желающих немного, а я как раз не откажусь… Ни в коем случае. Сам выдвинусь и даже… может быть, таким вот образом… в первый автобус попаду, где Олечка. Скажу ей…»
И вновь лишь мысленно. Какой-то человек со старой перхотью на вороте пиджака и свежим ручьем пота на загривке сунул Борьку венок. И вереница еловой, траурной геральдики, сама собой образовываясь и вытекая в распахнутые двери, засосала Катца. А с гробом подсуетились совсем иные, Бориным сценарием не предусмотренные люди – Левенбук, Прокофьев, Подцепа, Караулов и Гринбаум. Шестого Боря даже не знал, как звать. На улице Катц просто растерялся, не к той машине сунулся, последним сдал увитый черной лентой лапник и едва не остался вообще без места не в главном, ритуальном, а в самом обычном, нанятом институтом для грустного мероприятия автобусе. В одном из трех снятых автохозяйством прямо с маршрута, с линялой цифрой 353 на лбу. Этот желтый, замученный челночным бытом ЛиАЗ оказался самым недужным и медленным из всех, и, выгрузившись на кладбищенский песок, Б. Катц увидел, что снова опоздал.
Теперь к гробу пристроились посланцы Отделения разрушения. Вся в полном составе грузинская футбольная колония общаги: левый крайний Вахтанг, правый крайний Зураб, Гия-большой и Гия-маленький по центру, а также присоединившийся к ним стоппером-опорником Алан Салаев. Шестого Боря опять не знал, но и не важно, в любом случае это был не он, не Боря, самый необыкновенный в мире Катц с буквой «т» внутри.
Сердце аспиранта терлось о ребра и аукалось за ухом. Все было не так, и еще глаза мозолил мерзкий тип, троюродная сволочь, маячивший за спиной несчастной, почти родной, но по-прежнему недостижимой Олечки, то в профиль – трехлинейкой со штыком, то развернувшись вдруг анфас – полковым флагом. Сейчас, когда начались речи, Борис, задвинутый на самый край, сбоку видел отчетливо: проклятый прилипала мало того что безволос не по годам – ядреный шишак пузца болтался впереди свиньи, уродливо и неестественно, будто привязанный.
– Валентин Антонович Карпенко, – кто-то негромко сказал у Катца за спиной.
Но Боря не понял, к чему бы это могло относиться и зачем вообще здесь прозвучало.
– Вцепился мертвой хваткой, – в ответ поддакнули совсем уже беззвучно все там же, за спиной, но и это Б. Катцу не прояснило молнией картину мира.
Над головою, низко-низко, качая крыльями, моргая габаритными огнями, разворачивались самолеты, выбирая одни из трех лежащих в секторе Миляжкова ворот столицы. Быково, Домодедово или же Внуково. И Боря под распростертыми крылами «Аэрофлота» продолжал надеяться. Общая тайна, книжка, никому не видимый предмет, соединял его с девушкой в черном, то расплывавшейся туманом, то резким силуэтом проступавшей на фоне высокой желтой кучи у края узкой прямоугольной ямы. Именно книга уже один раз сводила Олю с Борей, давала первый шанс, так почему бы не второй, последний и решительный?
Увы, та же вода оказалась отравой, желчью, битумом. Да и почему он в нее вступил, Борис не смог бы объяснить. Свой талисман, волшебный приворотный томик в газетной вытертой обложке, Катц собирался прижимать, лишь чувствовать у левого соска в момент решающего разговора, но вместо этого взял да и выудил. Вдруг засветил, лишил сакральности и силы.
Совсем все отключилось в бедной голове, сварилось, отстегнулось, когда уже и не надеясь и даже не прося, Борис увидел наконец-то Олечку. Одну и совсем рядом. Прямо перед собой.
Она стояла стебельком у столбика серебряной ограды соседней могилы, с ордой неодинаковых белых камней рядком, и неизвестно отчего, кто, почему, зачем вручил, в руках держала большой портрет отца. И сходство казалось ошеломляющим. Может быть, это помутило разум?
Боря рванулся. Что-то сердечное и трогательное мешалось и рассыпалось в нем, какие-то воспоминания о том, как незнакомые совсем соседи водили его, осиротевшего, в кафе-мороженое «Лакомка» и как почти что год мать не ругала за тройки и даже двойки…
– Так смешно гладила, от шеи вверх, как знаешь… кошку гладят против шерсти, чтоб получался лев…
Конечно, шансов у него и с этим не было, но тронуть сердце девушки он мог. Запасть ей в душу наконец-то. Образовать вожделенную, пусть и бессмысленную связь. Но лишь остатки прежней, столь же нелепой, вычистил, поскольку, вперед шагнув, нырнув, Б. Катц протянул Олечке не губы, не нежный лепет, а книгу, каким-то образом, сам собой выпрыгнувший из-за пазухи объект в старой газете, потертой на углах. Слова же, теплые, живые, из сонма роившихся, боровшихся в Борином черепе домашних образов, как раз наоборот, почему-то не выпрыгнули, не посыпались. Откуда-то из-за уха, где с утра зарядили злые телефонные пульсы, тыкнулось деревянное:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































