Текст книги "Игра в ящик"
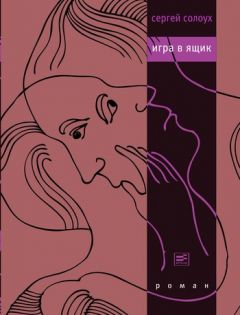
Автор книги: Сергей Солоух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
Но что-то безрассудно лихое его вперед толкало мордой, как глупый пес, и даже, кажется, слегка покусывало, но главное – смотрела девушка, смотрела прямо на него, такая, казалось и воображалось Боре, понятная, почти родная, глазами в пол-лица, и вместо скромного и столько уже раз его с пустыми руками оставлявшего: «Я в планетарий, не составите компанию?» – Катц лихо брякнул, усильем воли восстановив приятность тембра:
– Нам по пути, я точно знаю… – И так приветливо осклабился, что смуглое лицо в пигментных пятнах перед ним стало равномерно серым безо всяких признаков веселеньких горошин.
– С чего это вы взяли?
– Ну так… уверен, да и все… предчувствие такое…
Аргументация была настолько убедительной, а пустота вокруг настолько безнадежной, что девушка, в последний раз панически стрельнув по сторонам большими чайными глазами, с жертвенной дрожью от борьбы отказалась. Отдала пакет с базарною черешней и магазинной газированной водой субботнему грабителю. Не вытащил тихонько на базаре лягушку кошелька из полиэтилена, так за углом решил отнять. Все сразу, черноволосый мелкий орел, похожий на печенега-степняка, тут, за углом поликлиники, у входа во флюорографическое отделение, над урной с ватками и баночками привязавший коня.
Но полтысячелетия мирного сосуществования явно сказались на боевом духе причерноморских воинов. Сухой и ловкий гагауз не кинулся немедленно бежать с богатою добычей. Он залучился, заискрился и девушку с чудесным птичьим профилем и летним камуфляжем на щеках не только поразил, но обнадежил своей тактикой, и даже заинтересовал.
– Меня зовут Борис… – пролепетал, волнуясь, Боря, пакетом с нежной ношей от переизбытка чувств непроизвольно постукивая о колено.
– Не Рабинович часом? – закончить ему не давая, прищурилась девица.
– Нет, Катц, Катц… Боря Катц, – так радостно и глупо объявил Борис, что даже позабыл ввернуть нечеловечески занудную фигню про удивительную, выигрышную свою букву «т».
– Ах, Кац, ну да, фантазией не блещем, – вдруг осмелела незнакомка, и дивным образом естественный цвет кожи на ее лице стал восстанавливаться, и море, от уха и до уха мертвое вновь стало клумбой. А легионерский нос в центре всеобщего цветения и вовсе показался Боре в этот миг верхом божественного совершенства. – Ну, если Кац, тогда вперед, – с вызовом предложила девушка. – Только пакетом не бейте по ногам, пожалуйста… Там ягода…
– Не буду, – промычал Борис и хряпнул сине-белым по кирпичам ближайшего угла.
Чудная незнакомка сморщилась от конской галантности этого наивного и дикого монгола, но промолчала. Вокруг по-прежнему, на сколько глаз хватало, лишь птахи, московские воробьи, составляли все разнообразье теплокровных.
– Туда?
– А вам в любую сторону, выходит, по пути?
Смущенный Катц решил не отвечать. Иронии и юмору он во всех случаях предпочитал серьезное и вдумчивое отношение к предмету. И потому, решив на скользкую дорожку не вступать, не поддаваться опасному соблазну, задумался о настоящей теме разговора, ну, например, «Почем сегодня черешня на Палашевском»? или «Чуреки не обвешивают?». И пока Борис решал и выбирал между двумя-тремя наиболее волнующими и актуальными, он плыл, с пакетом «Внешпосылторг» в руке, а рядом с ним чуть позади, слева, на привязи, как плоскодонка будущей чудесной жизни, девушка из дома на Герцена или, быть может, Палиашвили. И никто, ни одна душа не попадалась им навстречу, ни словом, ни взглядом – ничем не разрушала волшебства мгновения. Пересекли Малую Бронную, вступили в безымянную аллею с консерваторскими подвалами и возле мастерской какого-то ваятеля, похожей на большой заброшенный гараж, совсем уже шальная мысль стукнула в голову Бори. Нет, не на Патриаршии она его ведет, не в тихий скверик перед Гнесинкой. Домой, прямо к себе домой, добровольного помощника, прекрасного душой и телом. И вероисповеданьем предков. В квартиру с видом на раскрытые, как книги счастья, на одной странице высотки Калининского.
И точно, едва лишь повернули на Щусева, тихая спутница, тоже, возможно, от красоты мгновенья и сама ставшая серьезной и что-то, как и Боря, обдумывавшая в разрезе важной темы «черешни и чуреков», легонько подтолкнув кавалера в открытые ворота, произнесла:
– Сюда.
Свершилось. Пригласила. Так он и знал. Сейчас Борис увидит звезды. Кремлевские рубины с той необыкновенной, виски и горло обмораживающей точки обзора, о которой сибирский паренек сны видел и ясным днем, и темной ночью всю свою жизнь. Из окна московской, отдельной квартиры. С комфортной высоты полета жилкооперативовского лифта.
– Сюда, – между тем повторили рядом, и даже тронули Борину руку, чтоб пропустить, точней направить, и он пошел по ступенькам высокого крыльца в подъезд, охваченный огнем и задыхающийся… Не думая и не подозревая о страшном и трагическом пробеле в своем московском краеведении, уже бессильный прочитать в счастливой слепоте вывеску с гербом у косяка знаменитой на всю округу норы Волка. Егора Андреевича, начальника отделения.
Дверь отворилась сама собой, впустила Борю, и справедливость всех его самых смелых предположений и догадок тотчас же подтвердилась. Б. Катц увидел звезды. Но не сразу. Сначала пакет решительно рванули из его руки, а выдернув, со зверскою, отчаянной силой припечатали и синим глобусом, и буковками ВПТ по кормовой довольно плоской части романтического парусника с буквой «т». Перетянули, влепили по тощему незащищенному крестцу, и тем отправили Борька в партер, где яростно продолжили лупить как сверху, так и сзади уже в козлиной позе блеяния и дойки, бесконечно усиливая и умножая униженье кошмарным визгом:
– Всю ягоду мне обстучал, подонок. Грабитель. Вор. Гаденыш. Я тебя сразу раскусила, тварь…
Боря поднял глаза, надпись «Дежурная часть» расплывалась в небесах, а на земле двоилась фигура человека не с крупными рубиновыми, а с золотыми зубастенькими звездочками на плечах, а между ними весело ходила гармонь улыбки. И разъезжалась, и съезжалась. Боря опустил глаза и увидал то неприглядное, отчего товарищ в сереньких погонах так сладко улыбался, – темную струйку мерзкой влаги, прямо из-под него, Б. Катца, стрельнувшую к ботинкам представителя законной власти.
– Нашей соседке вот так же обчистили квартиру, грабанули месяц тому назад… сумки ей поднесли… Поверила… Только меня не проведешь, морда татарская… Чучмек поганый… Не на ту напал!
И снова отчаянным ударом Б. Катца попытались из отряда парнокопытных и бескрылых перевести в подкласс летающих фугасных…
– Спокойно, гражданочка, не волнуйтесь. Не надо самоуправства. А то уже последнее раздавите. Ягодка-то дорогая наверное? С базара. Да и пакетик изодрали. Красивый. На Профсоюзной отовариваетесь? А человек, вы поглядите, и так уж не в себе…
Подлая струйка, сочась из-под Бориса, полнела, удлинялась, и шапка ее отвратно пузырилась. Он думал, что умрет, но сердце гнусно продолжало биться.
– Мы разберемся. Разберемся. Свою работу сделаем. Спасибо вам за бдительность.
– Лимита? – ласково спросили Катца, когда за девушкой его мечты закрылась дверь караульного помещения.
Но Боря не мог ответить, губы его дрожали и взор застилали воды всех морей и океанов.
– Вставай уже, иди, там дальше по коридору в туалете ведро и тряпка. Замывай эту черешню с газировкой…
Черешню? В туалете, никем не наблюдаемый Б. Катц себя ощупал. Со спины весь низ рубахи был сырой и верх черного плиса мокрый, но области позорные: промежность, пах, ширинка на замочке – сухие, снаружи и изнутри. Значит, действительно, черешня с газировкой. Чужие перезревшие плоды, а не пузырь свой собственный. От облегчения, нечеловеческого счастья того необычайнейшего сорта, которого Катц ждал, в котором собирался захлебнуться всего лишь четверть часа тому назад, Боря теперь готов был ментовскому старлею целовать руки и мыть его ботинки благородной, розовой от давленых плодов водой. Действительно, свершилось. Но мент к себе не подпускал, ушел за стойку и оттуда из-за барьера добродушно поучал дурака с большою грубой тряпкой.
– Эх ты, нашел к кому пристать, выбрал себе райончик… да и еще с жидовкой связался… Совсем соображения нет? Заносчивее этих сук во всей Москве не сыщешь…
Боря возился, ползал. Со всею тщательностью, на три раза все половицы перетер, буквально вылизал, и глядя на блестящий результат, все еще с тряпкою в руке, спросил:
– Так хорошо?
– Пойдет, – сказал товарищ с акульим золотом на общем сером, и вдруг добавил: – А я, ты знаешь, сам-то мордва наполовину, с Волги, но за эту, как она тебе сказала, «морду татарскую» смазал бы ей по губам, честное слово, да служба, видишь. Служба. В общем иди, свободен, но чтобы ноги твоей в этом районе больше не было. Крепко запомнил? Навсегда?
– Да.
Борис вышел за дверь, увидел небо и очнулся лишь через полчаса на круто уходящей к Сретенке ленте Рождественского бульвара у облупившейся стены заброшенного монастыря.
«Какой лживый, подлый город» – была первая ясная мысль, чирикнувшая в красивой, коротко стриженной голове у человека, застывшего на пузатой подбрюшине под самым сердцем вечной столицы, когда-то подчистую и не раз побритую его неверными и ложными, но приснопамятными предками.
«Научный руководитель зовет, заманивает лишь для того, чтобы как крепостного приковать к тачке, товарищи, и глазом не сморгнув, водят за нос, дурачат, как подопытного с клеймом, и даже куска не кинут со своего шикарного, обильного стола… Но это все чужие, какие-то умники, выскочки, везунки… Или наоборот такие же, приезжие на рынке… Со злобы и от бессилия… Но девушка с черешней… она… ведь не чужая… она ведь плоть от плоти, кровь от крови… как она могла, как… ведь мама говорила…»
И тут, в тени святых, тленом поеденных стен, у брошенной обители, жуткое откровение было ниспослано Борису.
«А ведь я, – внезапно осознал Катц, – ну, если бы тоже жил на Герцена или Палиашвили… и ко мне привязалась бы такая… такая… такая…» – он не находил определения, покуда оно само внезапно не сорвалось с шершавых губ:
– Рязанская, рязанская, – прошептал старинным кирпичам и мхам Борис.
«Такая подгребла рязанская, со шнобелем, я бы, конечно, тоже ее, ну, как-нибудь бы постарался с хвоста скинуть…»
И в ярком, внезапно вспыхнувшем перед глазами свете Боря и свои тяжкие обиды на научного увидел совсем в иной, ужасной, но понятной теперь до самых темных далей перспективе:
«И для меня, если сидел бы так же у кормушки в академической конторе, роскошествовал и прохлаждался за чужой счет, любой новый роток, свалившийся на голову, был бы, конечно, ну естественно…»
Боря покрылся пятнами, как будто с древних кирпичей старинных стен таинственным, шаманским образом мхи переползли, переселились на его юную чистую кожу, и произнес слова, которыми не то что язык, разум его до сей минуты не владел, не оперировал:
– Татарской мордой, чучмеком херовым…
«Когда я возвращалася, все очень удивилися». Обратно. Вечное «обратно», оно его природное и здесь ему другого не дано. Не откреститься. Ася, ися. Но ничего, есть и достойный выход из положения. В конце концов, «обратно» не только диалектное, белиберды-буйбекское «снова», повторно и в очередной раз, отнюдь нет, «обратно» – это вполне нормальное, словарное наречение со значением «назад, в другую сторону, туда, откуда заявился». Вот этим-то и следует воспользоваться. Хоть так-то сохранить лицо, ну или то, что от него осталось.
Прямо с вещами завтра утром Боря поедет в порт, купит билет и улетит домой. Навсегда. И так отвяжется от унизительных и вечных -ся и -сь, гнусных во всех иx видах и сочетаниях. Взаимных, косвенных и безобъектных.
Возвращался в Фонки Катц медленно, слово прощаясь со всем чистым, прекрасным и всегда новеньким, все глубже погружаясь, уходя в зону вторую, третью, покуда закономерным образом, естественным порядком не уткнулся в совсем уже негодное б/у.
На лестнице общаги, преграждая Боре путь к чемоданчику с индийскими замочками и сумке с японским в цвет синтетики боков зиппером, сидела, кузнечиком разведя острые колени, худая, жидковолосая и пьяная. Созданье было в юбке, но чего-то белого, синего или на худой конец красного под этой раскрытой во всю ширь полоской ткани не было.
Борис зарделся и тут же побелел. Под легкой, на одну пуговичку застегнутой мужской рубашкой тоже ничего не было, только две мальчишеские фиги и медалька. Монетка с переплетенными лучами шестиконечной звездочки.
– Это мне знаешь кто дал? – неожиданно членораздельно объявило существо, сначала неторопливо открыв моргала, а потом и разлепив губы. – Сын Покабатько дал. Да, Славян. Я ему, а он мне… Серебряная, если не наврал.... Наврал, конечно… Сплав какой-нибудь… А еще у меня от Славяна трихомоноз был… От него самого трихомоноз был, такая мерзость, а от его медали серебряной никакого счастья, хоть и обещал… О, – внезапно дернув головой, как будто выныривая на секунду из бессознательного в осознанное, задорно протрубил бывший носитель заразного заболевания. – О… А я вижу, куда ты смотришь, а я знаю, кто ты…
И, расплываясь в хитрой и радостной улыбке, в лохмотья пьяное лицо женского пола объявило Боре Катцу, Борису, впервые в жизни, наверное, не представившемуся, не сделавшему сообщения о редкой фамильной букве «т»:
– Ты иврей!
И так это забавное открытие вдохновило сидящую, что она даже попыталась встать, а когда не получилось, довольно требовательно приказала:
– Помоги..
– Зачем?
– Ты отведешь меня домой.
– Я?
– Ты. Потому, что ивреи, отибав, домой отводят, на лестнице не бросают, я знаю…
И такой ужас накатил на Борю, еще не остывшего от мусорского гостеприимства и частных заключений по национальному вопросу, от одной мысли, от одного предположения, что это вот, вот это, оно может думать, будто бы он, Борис, Борис Аркадьевич, Катц с буквой «т» способен притронуться, тем более взять, здесь, на лестнице. И такое отчаяние беднягу забрало, что, ошарашенный и смятый, он даже отпираться не посмел. Борис Аркадьевич протянул несчастной руку.
Путь был недолгим. Через Фонковский проезд к ближайшей двенадцатиэтажке. Боря посадил прозрачное и липкое словно медуза создание на коврик перед дверью и готов был тут же сделать ноги, но вновь его остановили, причем привычным образом.
– Ты что, дурак? – спросили с пола. – Как я достану ключ?
– Какой?
– От дома. Он же под ковриком. Какой ты, блин, смешной, чтобы не потерять по пьяни, я его там прячу. Подними.
В какой-то совершенно голой, но затоптанной однушке на дедовском комоде стояло фото члена-корреспондента академии наук, директора ИПУ им. Б. Б. Подпрыгина с размашистою надписью: «Моей двоюродной племяшке Ирочке Красноперовой. Дядя Антон».
Борис вернулся в узкую прихожую и долго смотрел на грубую и темную медальку на совершенно белой, цыплячей, будто бы вареной коже.
– Ты хороший, я тебя люблю, – в ответ сказали с пола нежно. И тут же с пьяной непосредственностью капризно повелели: – Да вытащи ты из-под меня этот кирпич, какой ты, блин, неловкий…
Борис нагнулся и достал из-под ребристой ягодицы изгаженный, изгвозданный в конец и навсегда томик. Обложка держалась на двух нитках и отвалилась сразу, открыв засаленный и мятый титульный лист с двойным полуколечком от стакана чая.
«Владимир Прикофф. Рыба Сукина. Сидра. Анн Арбор. Иллинойс».
Катц постоял минуту с превратившейся в грязную, жалкую рвань, когда-то абсолютно новой, знакомой ему до слез и боли книгой, а потом сел на пол. Трезвый рядом с пьяной.
О маме, о Дине Яковлевне, он в этот момент не думал вовсе.
РЫБА СУКИНА III
Семь лет жизни с Валентиновым, «амюзантнейшим господином», как он сам себя рекомендовал на французский семоке манер, ничего не оставили в памяти Сукина, кроме бесконечной череды городов, непрерывно сменявших один другой, сначала быстро и красочно в южной Европе, а потом однообразно и утомительно в северной Америке. Черепичные крыши Монпелье и цинковые бензоколонки Айовы, песочные камни Рима и анютины глазки Сан-Франциско, словно бестолковая пачка почтовых карточек, частично уже выцветших, стершихся, потерявших углы и склеившихся между собой, бессмысленно отягощали его память и просто не давали чему-то новому и светлому войти и задержаться ни на поверхности, ни в глубине ее. Война и революция, которые, по общему мнению, решительным и необратимым образом повлияли на образ мышления и чувства всякого русского, не отозвались в сердце Сукина ни одним звуком, не вызвали ни единого душевного движения отчасти в виду особенностей умственного устройства самого Сукина, отчасти благодаря постоянной заботе и протекции его опекуна Модеста Ильича Валентинова. Это был приятный внешне и несомненно очень талантливый, как определяли его те, кто собирался тут же сказать о нем что-нибудь скверное, человек. У него были чудесные карие глаза и чрезвычайно привлекательная манера смеяться. Глубоко циничный и аморальный по всем общественным и человеческим канонам, он удивительным образом, основания к тому находя именно в своей грубой, сугубо физиологического свойства философии, мог быть участливым товарищем в жизни и вполне надежным компаньоном в делах. На указательном пальце Валентинов носил перстень с адамовой головой, всегда цветной фуляр вместо галстука и брюки по самой последней европейской моде. Театр счастливо оставался для него много лет и страстью, и источником вполне достойного дохода. Волей случая став одним из первых экспонентов так называемой «русской темы», он успел до войны сколотить недурное состояние, переименовывая в угоду географии свою легкую на сборы антрепризу в берлинскую, белградскую и даже венецианскую. Во время войны, путешествуя с Сукиным по Америке, где краткость расстояния от одного кинотеатра до другого сравнима лишь только с воробьиным милиджем заправок «Стандарт Ойл», расчетливый и быстрый Валентинов не мог не разглядеть завидных коньюктурных горизонтов нового народного искусства. Вернувшись в девятнадцатом в Европу, он основал в живописном Лекивиле под Парижем кинематографическую студию «Инвино» и к началу двадцатых оказался вполне успешным поставщиком малоотличимых одна от другой, но именно благодаря тем же слезам и в тех же местах любимых публикой полнометражных мелодрам с Лялей Сережко в амплуа первой звезды, а также бесконечной серии коротеньких комических лент «Братья Биду в цирке», «зоопарке» и «на том свете».
К этому времени целлулоидных, быстрых дивидендов отношения Валентинова с Сукиным давно уже и во всех смыслах соответствовали нафталинной скуке пыльного, книжного слова «опекун». Подросток, сохранивший все то же детское безволосое лицо, нежный персиковый овал губ и темные, всегда полуприкрытые сливочно-карамельными веками глаза, невероятным образом вдруг вытянувшийся на добрых двенадцать сантиметров за лето девятнадцатого и пополневший с какой-то тягостной, мучной безнадежностью за зиму двадцатого, стал сразу взрослым, бесполым существом в глазах Модеста Ильича Валентинова. Сукиным. Сыном Сукина. Воспитанником, которого уже невозможно было со сладкой полуобморочной задержкою дыхания вообразить заводной ягодкой, съедобной механической игрушкой, с умопомрачающей бестолковостью ползающей по шершавой прохладной белизне ночного ложа и скользкой жаркой коже самого Модеста Ильича. Весь этот шоколад-мармелад, с изрядной скидкой как постоянный и солидный клиент, Валентинов получал теперь в одном недорогом, но несомненно приличном мавританском заведении на рю Фобур-Монмартр, а Сукин был предоставлен сам себе, отчего, словно часы, лишенные вдруг надоедливого подзавода, буквально замер на неопределенной четверти неопределенного часа. Как ушко иголки, косо воткнутой в пухлую подушечку, его русая голова и днем и ночью мерцала светлой прядью над высоким синим полуокружьем мягкого кресла у окна гостиной. И очень часто, уезжая в полдень в Лекивиль или возвращаясь под утро из девятого аррондисмана к себе домой на рю Вавен, рив гош, Валентинов не мог отделаться от ощущения, что там, на синем плюше, не мальчик, ставший подростком, а присланная каким-то местным старьевщиком непрошеная статуя, до такой степени Сукин казался оцепеневшим и слышавшим как будто бы одно лишь только смутное рокотание птиц и рыб раскинувшегося поблизости Люксембургского сада.
– Ел? – спрашивал Валентинов заспанного казака, взятого из русских бараков под Парижем, который, прислуживая, подавал ему теплый халат и мягкие домашние туфли.
– Так точно, трижды, и всякий раз заканчивали горячим шоколадом, – молодецки докладывал ему бравый сухопутный денщик, и это Валентинова обычно успокаивало.
Один или два раза Модест Ильич брал Сукина с собой в веселый Лекивиль, но и там, в студии «Инвино», где всеобщей суетой непременно заражался любой случайный визитер, Сукин умудрялся хмурой и неподвижной горой просидеть весь день в темном углу на куче какого-нибудь забракованного помрежем реквизита. Школа, представлявшаяся естественным дивертисментом в этом возрасте и ситуации, была самим Валентиновым вычеркнута из списка возможностей весьма решительно, и не только потому, что покойный Сукин-отец неоднократно и сокрушенно жаловался ему на неспособность сына ладить со сверстниками, а тетя Сукина что-то настойчиво повторяла, стоя уже на подножке коляски, по поводу «полной социальной неадаптированности психики ребенка» и даже связала Модеста Ильича неким обещанием ни в коем случае не отдавать мальчика в общественное образовательное учреждение. Практичный, как швейная машинка или домашний постирочный агрегат, ум Валентинова просто не находил смысла в какой бы то ни было попытке просвещения воспитанника. Уж очень живо помнились Модесту Ильичу те пароксизмы неудержимого зверского смеха, которыми неизменно и против даже его воли разрешались все полушуточные, но от того не менее мучительные попытки научить Сукина рассчитывать хотя бы время или расстояние.
– Смотри, малыш, от Гастауна до Гейзленда семьдесят пять миль. На нашем экспрессе «Идаго Блю» мы едем в среднем, пусть, двадцать пять миль в час. Так за сколько же доберемся до места? Успеем в игрушечную лавку до закрытия?
– За три часа.
– Молодец. Как ты узнал?
– Отнял от пяти два. Вы же сами сказали, двадцать пять, а это два и пять, я знаю.
– А почему не пять от семи? – спрашивал мальчика Валентинов, отсмеявшись и на ходу смахнув дурные капли безвкусных слез со щек и крышки кожаного несессера, в котором что-то механически и совершенно бессмысленно продолжал искать. Он понимал, что и смеялся зря, и испытание затягивает напрасно, но бес всегда оказывался сильнее. – Почему взял двадцать пять, а не семьдесят пять, допустим? А? Семь и пять. Чем же скорость лучше расстояния, скажи, голубчик?
– Зачем вы меня путаете? – потупившись и губы поджав обиженной конфетой, очень тихо, едва слышно отвечал Сукин. – Вы же сами говорили, что нужно время, вот я и вычел вам из скорости в час мили.
Чувство стыда не было ведомо Модесту Ильичу Валентинову, этому кем-то заботливо и ладно скроенному хаму его заменяло нечто вроде ощущения крайнего физического неудобства, словно он вдруг ногу отсидел или неловко оцарапал палец о металлический крючок новых кальсон. И для того, чтобы избавиться от внезапно возникшего чувства крайней неловкости, после каждого такого непрошеного урока дорожной арифметики приходилось Валентинову, прибыв в очередной Бердслей или По, тотчас же после регистрации в отеле везти мальчика в торговые ряды местного даунтауна и покупать все, на что хватало текущей дневной наличности, – шоколадного ангелочка в цветной фольге, пару бутылок кока-колы, скаутские часы со светящимся циферблатом, роликовые коньки, приделанные к высоким черным сапогам на шнуровке, бинокль, коробку жевательной резины, длиннополый макинтош с шерифскою звездой и еще много всяких глупых безделушек – очков с темными стеклами и перочинных ножичков с серебряной ручкой.
Но область точных наук не была единственной закрытой от мысленного взора маленького Сукина темными шторками его неповоротливого ума. Образ негодной к восстановлению фотографической камеры, с навсегда опущенной, как веко, диафрагмой, частенько приходил в голову Валентинова. В очередной раз киноантрепренеру ясно представилась пленка, серебро которой не сможет проявить никакой, даже самый концентрированный раствор германского метола и гидрохинона, во время недавнего пикника в Буа Булонь, среди солнечного летнего дня ангела его воспитанника.
– Ле куто, – сказал мальчик, подавая гарсону нечаянно оброненный на пол нож.
– Точно не ля? – весело поинтересовался Валентинов, когда официант ушел менять прибор.
– Точно, – с хмурой, совсем уже необаятельной уверенностью не мальчика, а недоросля ответил ему Сукин. – На ле все, что кончается на «то». Лото, пальто, я знаю, только вы всегда меня нарочно путаете. И наша консьержка тоже.
Таким образом, школа отпадала по всем показателям, включая антропометрические. Рост метр шестьдесят пять в подготовительной ступени вязался лишь с учителем-корсиканцем, а никак не учеником из русских. И оставался один только мягкий плюш громоздкого кресла, занимавшего добрую четверть гостиной на рю Вавен, да черные костяшки домино, которые Сукин часами раскладывал вихляющими и логики лишенными китайскими дорожками прямо у себя на коленях, на куцем и кривом куске очень плотного картона, наткнувшись на край которого, как будто ойкнув, замирал, чтобы полдня потом изучать саму собой сложившуюся тропку с перепутанными следами звериных лап. Модест Ильич Валентинов не вполне даже понимал, смешит его или раздражает унылый и бестолковый вид этого гималайского следопыта в кресле. Однажды он привез для Сукина шахматы в красивой коробке с красными и белыми квадратиками, но тот ее, кажется, и раскрывать не стал. Какой-то новый интерес у Сукина вызывали, пожалуй, только большие русские книги с картинками, которые Валентинов время от времени покупал специально для воспитанника в магазине издательства Дарюшина у парка Монсо. Одну из таких, увесистую, в крепком синем переплете, с большими и нежными, как настоящие акварели, иллюстрациями на отдельных глянцевых листах, Сукин как раз держал на коленях в момент, когда казак Иван, по обыкновению беззвучно, в своих мягких, будто бы из рыбьей шкуры сделанных сапогах подошел к огромному креслу и тронул молодого барина за плечо.
– Я не хочу чаю, потом… – пробормотал Сукин, не поднимая головы и не оборачиваясь.
Белые полотнища парусов легкой шхуны на рисунке бушующего моря с первого взгляда казались обыкновенным пусто-пусто, но чем больше Сукин вглядывался в тревожные переливы цветов, тем явственнее проявлялись, как тени, едва видимые, но несомненно художником намеченные точки два-один. Весь мир был полон знаков и намеков, но вновь, как и всегда, Сукин оказывался бессилен понять их тайный и спасительный смысл.
– Вас просят, – сказал Иван, продолжая стоять у Сукина за спиной. – Вы бы прошли к аппарату…
– К аппарату? – изумленно повторил Сукин последнее донесшееся до него слово, и даже слегка повернулся на круглых валиках кресла, отчего мягкая воронка его уха с аккуратной дырочкой посередине оказалась прямо перед глазами слуги. Сукин так давно слился с серой, темной обстановкой комнаты, так давно уже ощущал себя ее ватной, неподвижной и безличной частью, что решительно было теперь невозможно поверить, будто кто-то где-то вдалеке мог вызвать его, пригласить, назвать по имени, да не просто так, про себя или тихим шепотом, а по-настоящему, через барышню-телефонистку и слугу-казака.
– В кабинете, в кабинете… – между тем повторял Иван, теперь уже подавая Сукину руку.
Но Сукин встал самостоятельно и, ступая едва ли не по ногам слуги, прошел мимо него с таким темным и в один миг заострившимся лицом, что в голову сама собой явилась мысль о полной и окончательной слепоте подростка, все свои дни проводившего в полутемной гостиной с синими книгами. Однако взор Сукина помутила ясность, какое-то внезапное и удивительное движение света за порт-фенетром гостиной, словно по мокрой улице вдруг быстро промчался таксомотор и свет его фар, пройдя сквозь решето переплета, на одно мгновение лег ему под ноги призрачной черно-белой лестницей. Сукин оттолкнулся от световых ступеней и оказался в кабинете Валентинова, где блестящая точка на телефонной вилке указала ему путь к кожаному бювару, на котором лежала холодная трубка.
– Да, – сказал Сукин, осторожно приложив ее к уху.
– Миленький мой, мальчик мой сладкий, – пропела в ответ мембрана, – как я долго тебя искала.
На столе, бочком приткнувшись к телефонному аппарату, лежал свежий французский кинематографический журнал с лицом очередной знаменитости, немой и черно-белой, но Сукину показалось, что он видит прямо перед собой тетю, зеленоглазую и золотоволосую, с мягкими и горячими губами.
– Я пришлю за тобой машину, – между тем продолжало теплой волной накатывать на Сукина такое знакомое и нежное дыхание. – Через полчаса. Ты будешь готов через полчаса? Ты будешь? Мой сладкий, отчего ты молчишь? Мы поедем в цирк или зоопарк. Куда ты хочешь больше всего?
Неожиданно Сукин подумал, что уже вторую неделю Валентинов грозится отвезти его к дантисту. Иван пожаловался, что у воспитанника пахнет изо рта, и Валентинов сейчас же вспомнил о своем долге опекуна. Зубного врача и его жужжащую осой машинку Сукин по-настоящему боялся.
– А можно… – сказал он наконец, – а можно никуда? Просто к вам? Можно?
– Ах, ну конечно, солнышко мое. Конечно, – будто собака, трубка лизнула Сукину ухо. – Конечно. Через полчаса. Ты слышишь? Через полчаса.
Потом по-французски сказали «отбой», но Сукин этого не понял. Он стоял с умолкнувшим эбонитом в руках и смотрел себе под ноги. Свет, просеянный листвой мокрых платанов, закрывших окно кабинета своими обильными кронами, раздробился и замер подле Сукина маленькими неподвижными островками собачьих ушей и кроличьих спинок, а жил лишь один населенный мальками совершенно микроскопических пылинок световой конус, косо падавший из бокового ой-де-бефа прямо на маленький турецкий пуфик в ближнем углу. Всего этого не было, когда пять минут назад Сукин вошел сюда, и вот теперь, от внезапного полуденного прояснения небес, его сердце словно на миг замерло, и кисло-сладкое до судорог предчувствие растворения в чем-то прозрачном и невесомом охватило Сукина, как некогда, давным-давно, в Москве, на Гоголевском бульваре, с его черно-белой будочкой городового справа и старыми доминошниками слева. Спустя пять минут Сукин вышел в переднюю и принялся что-то искать в тесном пространстве между низенькой подставкой для зонтов и высокой дубовой вешалкой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































