Текст книги "Трамвай «Желание»"
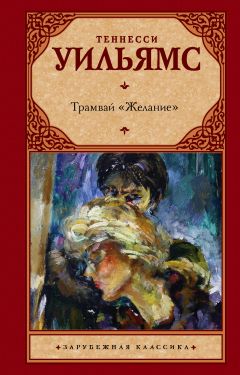
Автор книги: Теннесси Уильямс
Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Папа. Ушел!
Брик (дружелюбно). Да, ушел.
Папа. Сын!
Брик. А?
Папа (шумно и глубоко затягивается сигарой; затем, внезапно наклонившись, с шумом выдыхает дым и подносит руку ко лбу). Вот так так! Ха-ха! Слишком сильно затянулся, голова немного закружилась…
Бьют каминные часы.
Почему людям так чертовски трудно разговаривать?
Брик. Да…
Часы продолжают мелодично отбивать десять часов.
Приятный, спокойный бой у этих часов, люблю всю ночь слушать, как они бьют… (Он поудобнее устраивается на диване, откинувшись на подушки.)
Папа сидит прямо и неподвижно, полный какой-то невысказанной тревоги. Все жесты, которыми он сопровождает свои слова, резки и напряженны. В течение своего нервного монолога он тяжело, с присвистом дышит, сопит и время от времени бросает на сына быстрые робкие взгляды.
Папа. Мы купили их тем летом, когда ездили с Мамой в Европу. Черт побери это бюро путешествий Кука, никогда в жизни не проводил так скверно время, уверяю тебя, сынок. В их гранд-отелях – жулик на жулике, того и жди облапошат! Мама накупила там столько всякого добра, что в два товарных вагона не вместилось, ей-богу! Всюду, куда нас заносила нелегкая, она покупала, покупала, покупала. И конечно же, добрая половина ее покупок до сих пор даже не распакована, валяется в подвале, который этой весной затопило водой! (Смеется.) Эта Европа, скажу тебе, – сплошной аукцион, большая распродажа с торгов, больше ничего. Все эти старые, обветшалые «достопримечательные места» – настоящая барахолка, и Мама там прямо обезумела: сорила деньгами без удержу, только и делала, что покупала, покупала, покупала! Слава богу еще, что я человек богатый, денег куры не клюют, и вот, поди же ты, половина этого добра плесневеет в подвале. Нет, слава богу, что я богатый человек, а то… Но я богат, Брик, чертовски богат. (На мгновение его глаза загораются.) Знаешь, какое у меня состояние? Ну-ка, угадай, Брик! Угадай, сколько я стою?!
Брик неопределенно улыбается, потягивая виски.
Почти десять миллионов! И это, учти, только деньгами и акциями, не считая двадцати восьми тысяч акров лучшей земли во всей долине!
Вспышка, треск, и ночное небо озаряется мрачным зеленоватым светом. На галерее раздаются радостные вопли детей.
Но жизнь себе не купишь ни за какие деньги. Нельзя выкупить обратно жизнь, если твоя жизнь прожита. Жизнь – это такая вещь, которая не продается ни на европейской барахолке, ни на американских рынках, нигде в мире. Человек не может купить себе за деньги жизнь, купить себе новую жизнь, когда его жизнь подошла к концу… Эта мысль отрезвляет, очень отрезвляет, и она неотступно преследовала меня, снова и снова прокручивалась в голове – до сегодняшнего дня… После того, что мне, Брик, пришлось испытать за последнее время, я стал печальней и набрался мудрости. И еще одно воспоминание сохранилось у меня о Европе.
Брик. Какое, Папа?
Папа. Холмы вокруг Барселоны в Испании и ребятишки, которые бегали по этим голым холмам в чем мать родила. Они просили милостыню, повизгивая и завывая, как просят есть голодные собаки. А на улицах Барселоны полно толстяков священников. Масса священников, и все такие жирные, такие благодушные, ха-ха! Знаешь, я мог бы накормить всю эту страну! У меня достаточно денег, чтобы накормить всю эту проклятую страну, но человек – животное эгоистичное, и тех денег, что я раздал этим жалобно клянчащим ребятишкам на холмах вокруг Барселоны, вряд ли хватило бы даже на то, чтобы обить один из стульев в этой комнате, да-да, на эти деньги нельзя было бы даже поменять обивку вон на том стуле!.. Черт возьми, я швырнул им деньги, как бросают корм цыплятам, я запустил в них горстью монет, чтобы отвлечь их, а самому успеть забраться в машину – и укатить прочь… А потом еще в Марокко помню случай. У них там, у арабов, к проституции приучают лет этак с четырех-пяти, ей-богу, не преувеличиваю. Помню, однажды днем в Марракеше – это такой старый арабский город, обнесенный стеной, – присел я на обломок стены, чтобы сигару выкурить, а жара там, надо сказать, стояла несусветная, и вот на дороге напротив меня останавливается арабская женщина, долго-долго смотрит на меня… Стоит она, значит, как вкопанная, в пыли, посреди раскаленной от зноя дороги, и смотрит на меня, пока я не начинаю смущаться. Но слушай, что было дальше. На руках она держала голого ребятенка, маленькую голую девчушку, которая, может, и ходить-то недавно научилась, и вот через минуту-другую женщина опускает малышку на землю, что-то говорит ей шепотом и подталкивает ее вперед. Малышка, которая едва начала ходить, топает ко мне… Вот черт, вспомнить такое – и то гадко становится! Протягивает свою ручонку и пытается расстегнуть мне брюки! Ребенку не было и пяти! Можешь ты этому поверить? Или, по-твоему, я это выдумал? Я вернулся в гостиницу и говорю Маме: «Давай собирайся! Мы сейчас же уезжаем отсюда…»
Брик. Что это ты, Папа, такой разговорчивый сегодня?
Папа (пропуская его слова мимо ушей). Да, сударь, так уж устроена жизнь, человек – животной смертное, но и умирая, он не жалеет других, куда там… Ты что-то сказал?
Брик. Да.
Папа. Что?
Брик. Подай мне костыль – я не могу встать.
Папа. Куда это ты собрался?
Брик. Прогуляться к бару…
Папа. А-а, на, возьми. (Подает Брику костыль.) Да, так вот, человек – животное смертное и, если у него есть деньги, он покупает, и покупает и покупает. Я думаю, он скупает все, что только может купить, по той причине, что где-то в глубине души лелеет безумную надежду: а вдруг я куплю среди прочего вечную жизнь?! Но так никогда не бывает… Человек – это такое животное, которое…
Брик (стоя у бара). Ну, Папа, ты разошелся сегодня: говоришь без умолку.
Пауза. Снаружи доносятся голоса.
Папа. Намолчался за последнее время: ни слова не говорил, сидел и глядел в пространство. А на душе такая тяжесть лежала. Зато сегодня у меня камень свалился с души. Поэтому я и разболтался. Почувствовал себя на седьмом небе…
Брик. Знаешь, чего бы мне хотелось больше всего?
Папа. Чего?
Брик. Полной тишины. Мертвой тишины, которую ничто бы не нарушало.
Папа. Почему?
Брик. Потому что тишина покойней.
Папа. Слушай, оставим-ка мертвую тишину для могилы. (Довольный, посмеивается.)
Брик. Ты кончил говорить со мной?
Папа. Почему тебе так хочется заставить меня молчать?
Брик. Да ведь сколько раз уже так бывало! Ты говоришь: «Брик, мне нужно с тобой побеседовать», но, когда мы принимаемся беседовать, настоящего-то разговора так и не получается. Потому что ничего не говорится. Ты восседаешь на стуле и разглагольствуешь о том и о сем, а я делаю вид, что слушаю. Я стараюсь показать, что слушаю, но на самом деле не слушаю, почти не слушаю. Людям… ужасно трудно… общаться друг с другом… А у нас с тобой это вообще не…
Папа. Ты когда-нибудь испытывал страх? Я хочу сказать, ты когда-нибудь по-настоящему ощущал ужас перед чем-то? (Встает.) Минуту, я закрою сейчас эти двери… (Закрывает двери на галерею с таким видом, словно собирается сообщить важный секрет.) Брик…
Брик. Что?
Папа. Сынок, а ведь я думал, что у меня это!
Брик. Что – это? Что – это, Папа?
Папа. Рак!
Брик. О…
Папа. Думал, костлявая уже положила мне на плечо свою тяжелую, холодную лапу!
Брик. И все время молчал об этом.
Папа. Свинья визжит, а человек молчит об этом, хотя у него нет того преимущества, которое есть у свиньи.
Брик. Что же это за преимущество?
Папа. Не знать… что ты смертен – большое утешение. У человека нет такого утешения, он единственный среди всех живых существ ведает о смерти, знает, что это такое. Прочие твари – те живут и умирают в неведении, так уж заведено в мире. Они умирают в неведении, ничего не зная о смерти, и все же свинья визжит, но человек – иногда он может и помолчать об этом. Иногда он (в словах старика звучит подспудная яростная сила) умеет молчать об этом. Как ты думаешь…
Брик. Что, Папа?
Папа. Не наделает вреда этому колиту стаканчик виски?
Брик. Нет, сэр, не наделает. Может, даже пойдет на пользу.
Папа (с внезапной волчьей ухмылкой). Черт возьми, у меня слов нет! Я как заново родился! Бог ты мой, я ожил, живу! Я жив, сынок, жив!
Брик глядит вниз – в свой стакан.
Брик. Ты лучше себя чувствуешь, Папа?
Папа. Лучше? Еще бы! Я могу дышать полной грудью! Всю свою жизнь я был как крепко сжатый кулак… (Наливает себе виски.) Бил, молотил, крушил! А теперь я собираюсь разжать эти стиснутые в кулак руки и легко касаться ими всего… (Протягивает руки и как бы ласкает воздух.) Знаешь, что у меня на уме?
Брик (неопределенно). Нет, не знаю. Что же у тебя на уме?
Папа. Ха-ха! Развлечения! Развлечения с женщинами!
Улыбка на лице Брика несколько тускнеет, но не исчезает.
Уф, Брик, это зелье все нутро обжигает! Да, мальчик. Я тебе сейчас одну вещь скажу – ты, наверно, и не подозреваешь. Мне пошел шестьдесят шестой год, а я все еще хочу женщин.
Брик. Силен ты, Папа. По-моему, это удивительно.
Папа. Удивительно?
Брик. Восхитительно, Папа.
Папа. Что верно, то верно, это и удивительно, и восхитительно. До меня вдруг дошло, как мало я брал от жизни. Упустил столько возможностей, потому что хотел выглядеть порядочным, боялся нарушить приличия. Порядочность, приличия – дерьмо это, вздор! Все это чушь, чушь, чушь! Я понял это только теперь, после того как заглянул смерти в лицо. И раз уж костлявая убралась восвояси, я постараюсь взять свое – пущусь, что говорится, во все тяжкие!
Брик. Во все тяжкие?
Папа. Да-да, во все тяжкие! Какого черта! Я спал с твоей матерью всю жизнь, лишь пять лет назад завязал, это, значит, мне шестьдесят уже было, а ей – пятьдесят восемь, и никогда она мне даже симпатична не была, никогда!
В холле уже некоторое время звонит телефон. Входит Мама.
Мама. Мужчины, неужели вы не слышите, как телефон надрывается? Я услыхала звон с галереи.
Папа. Ты могла пройти через любую из пяти других комнат, которые выходят на галерею с этой стороны. Зачем тебе понадобилось идти обязательно через эту?
Мама, сделав шаловливую гримасу, выбегает в холл.
Хм! Знаешь, когда Мама выходит из комнаты, я не могу вспомнить, как эта женщина выглядит, но, когда Мама возвращается в комнату, я вяжу, как она выглядит, и думаю: «Глаза бы мои на тебя не смотрели!» (Наклонясь вперед, хохочет над своей шуткой, пока хохот не отзывается болью в животе, и тогда он с гримасой выпрямляется. Его смех становится глухим, сдавленным, и он, с некоторым сомнением взглянув на свой стакан с виски, ставит его на стол.)
Брик тем временем поднялся и проковылял к дверям на галерею.
Эй! Куда это ты?
Брик. Выйду подышать.
Папа. Нет, погоди. Тебе, молодой человек, придется побыть здесь до окончания этого разговора.
Брик. Я думал, он окончен, Папа.
Папа. Он даже еще не начинался.
Брик. Значит, я ошибся. Прости. Я просто хотел подставить лицо ветерку с реки.
Папа. Включи вентилятор и садись-ка вот на этот стул.
Из холла доносятся голос Мамы.
Голос Мамы. Ну и чудачка вы, мисс Салли! Никогда не знаешь, что вы выкинете в следующий раз, мисс Салли. Почему вы меня-то не попросили объяснить вам это?
Папа. Боже, она опять говорит с этой старой девой, моей сестрой.
Голос Мамы. Ну всего доброго, мисс Салли. Приезжайте к нам как-нибудь, да поскорее. Папа будет до смерти рад повидаться с вами! Хорошо, до свиданья, мисс Салли…
Слышно, как Мама вешает трубку и весело гогочет. Папа издает стон и закрывает уши руками.
Мама (появляясь на пороге). Представляешь, Папа, это снова звонила мисс Салли из Мемфиса! Знаешь, что она сделала? Позвонила своему мемфисскому врачу и заставила его растолковать ей, что такое этот спастический колит! Ха-ха-а-а! А теперь звонит мне, чтобы сказать, как ее обрадовало, что… Э! Пусти же меня!
Папа придерживал все это время полузакрытую дверь, не давая ей войти.
Папа. Нет, не пущу. Я же ясно сказал, чтобы ты не ходила взад и вперед через эту комнату. Давай-ка поворачивай и иди через какую-нибудь из остальных пяти.
Мама. Папа? Папа? О Папа! Ты же на самом деле не думал так, когда наговорил мне этих вещей, ведь правда?
Он плотно закрывает перед ее носом дверь, но она продолжает взывать.
Дорогой? Дорогой? Папа? Ты ведь не думал так, когда наговорил мне этих ужасных вещей? Я знаю, что ты так не думал. Я знаю, что в глубине души ты этого не думаешь… (По-детски причитающий голос обрывается со всхлипыванием, и слышны ее тяжелые удаляющиеся шаги.)
Брик снова направился было, опираясь на костыль, к дверям на галерею. Садится.
Папа. Оставить меня в покое – это все, о чем я прошу эту женщину. Но она никак не может примириться с мыслью, что она меня раздражает. Это оттого, что я слишком много лет спал с нею. Должен был бы давным-давно забастовать, но этой старухе, ей все было мало – а в постели-то я молодцом был… Не надо мне было столько своей силы на нее тратить… Говорят, природа отпускает мужчине определенное количество – столько-то раз, и все. Ну что же, сколько-то во мне еще осталось, сколько-то есть, и я подыщу себе женщину получше, чтобы потратить на нее остаток! Уж я подберу себе красотку первый сорт, сколько бы она ни стоила, я осыплю ее норковыми шубками! Ха-ха! Я раздену ее догола, и осыплю ее норками, и увешаю ее бриллиантами! Ха-ха! Раздену ее догола, увешаю бриллиантами, осыплю норками и буду валять ее до умопомрачения. Ха-ха-ха-ха!
Голос Мэй (за дверью, весело). Кто это там смеется?
Голос Гупера (там же). Это Папа там смеется?
Папа. Вот дерьмо! Пара балаболок… (Подходит к Брику и кладет ему руку на плечо.) Вот так-то, сынок, так-то, Брик. Я – счастлив! Я счастлив, сын, я счастлив! (Слегка поперхнувшись и закусив нижнюю губу, быстро и застенчиво прижимается головой к голове сына, а затем со смущенным покашливанием нерешительно возвращается к столу, на который поставил стакан. Пьет. Когда жидкость обжигает ему внутренности, по его лицу пробегает гримаса боли.)
Брик вздыхает и с усилием пытается подняться.
Отчего ты такой беспокойный? Вскакиваешь, словно у тебя полны штаны муравьев. Гнетет тебя что-нибудь?
Брик. Да, сэр…
Папа. Что?
Брик. Одна вещь… никак… не приходит…
Папа. Да? И что же это такое?
Брик (грустно). Щелчок…
Папа. Не понял, – что? Щелчок?
Брик. Да, щелчок.
Папа. Какой щелчок?
Брик. Щелчок у меня в голове. Щелк – и я спокоен.
Папа. Ей-богу, не понимаю, о чем ты толкуешь, но это меня тревожит.
Брик. Это происходит чисто механически.
Папа. Что происходит чисто механически?
Брик. Щелчок у меня в голове, после которого я успокаиваюсь. Я должен пить, пока это не случится. Это происходит чисто механически, вроде как… ну, как… как…
Папа. Как…
Брик. Выключатель какой-то щелкнет в голове, и тогда жаркий свет гаснет, включается ночная прохлада и (поднимает глаза, грустно улыбаясь) внезапно… наступает покой!
Папа (от изумления издает тихий, протяжный свист; снова подходит к Брику и обнимает сына за плечи). Боже ты мой! Я и не знал, как далеко это зашло у тебя. Да ведь ты – алкоголик!
Брик. Совершенно верно, Папа, я алкоголик.
Папа. Как же я упустил? Вот что значит забросить все!
Брик. Я должен услышать этот легкий щелчок в голове, и тогда я успокоюсь. Обычно он раздается раньше, иногда уже днем, но… сегодня он… задерживается… Нужно повысить уровень алкоголя в крови! (Эту последнюю фразу произносит энергично, подливая себе виски.)
Папа. Да-да, ожидание смерти сделало меня слепым. Я и понятия не имел, что мой сын становится законченным пьяницей прямо меня на глазах.
Брик (мягко). Зато теперь, Папа, ты имеешь понятие, новость дошла.
Папа. Да-да, теперь я прозрел, новость… дошла…
Брик. Тогда, если ты позволишь…
Папа. Нет, не позволю.
Брик. …я лучше посижу в одиночестве, пока не услышу щелчок в голове, это происходит чисто механически, но только когда я один или ни с кем не разговариваю…
Папа. У тебя, мой мальчик, было много-много времени, чтобы сидеть в тишине и ни с кем не разговаривать, но сейчас ты разговариваешь со мной. Во всяком случае, я с тобой разговариваю. Так что сиди и слушай, пока я тебе не скажу, что разговор окончен!
Брик. Но этот разговор ничем не отличается от всех других разговоров, которые мы вели с тобой в нашей жизни! Он ни к чему не ведет, ничего не дает! Это… это мучительно, Папа!..
Папа. Ну что ж, пусть тогда будет мучительно, но ты останешься сидеть на этом стуле? Я уберу к чертям твой костыль… (Хватает костыль и бросает его в другой конец, комнаты.)
Брик. Я могу прыгать на одной ноге, а упаду – поползу.
Папа. Смотри, как бы ты не пополз с этой плантации, и тогда, клянусь богом, тебе придется глотать пойло в притонах бродяг.
Брик. Придется, Папа, я знаю.
Папа. Нет, не придется. Ты – мой сын, и я приведу тебя в порядок; теперь, когда со мной все в порядке, я приведу в порядок тебя!
Брик. Гм?
Папа. Сегодня пришло заключение из Очснерской клиники. Знаешь, что они мне сообщили? (С лицом, сияющим торжеством.) Единственное, что они смогли обнаружить у меня в этой огромной больнице при помощи самоновейшего научного оборудования, – это легкий спастический колит. И нервы, вконец расшатанные беспокойством.
В комнату врывается с бенгальскими огнями в каждой руке маленькая девочка; она скачет и вопит, как взбесившаяся обезьяна, и вылетает обратно, получив шлепок от Папы. Молчание. Отец и сын смотрят друг на друга. Снаружи доносится веселый женский смех.
Ну, скажу я тебе, тут уж я вздохнул с облегчением. Гора с плеч свалилась!
Брик. Ты не был готов уйти?
Папа. Куда уйти? Чушь собачья… Когда, мой мальчик, человек уходит отсюда, он уходит в пустоту, в никуда! Человеческий организм – это такая же машина, как организм животного, или там рыбы, или птицы, или змеи, или насекомого! Только в тысячу раз сложнее и, значит, капризнее. Да. Я думал, у меня рак. У меня земля зашаталась под ногами; небо опустилось над головой, как черная крышка котла; дыхание стеснило! Сегодня же эту крышку убрали, и я свободно вздохнул, впервые за сколько лет? Боже, за три года…
Снаружи смех, беготня, в небе с негромким глухим звуком лопаются и вспыхивают ракеты.
Брик несколько долгих мгновений смотрит на него трезвым взглядом, затем с каким-то сдавленным испуганным возгласом вскакивает и, прыгая на одной ноге и хватаясь за мебель, пересекает комнату, чтобы взять костыль. Подобрав костыль, он панически устремляется к галерее.
(Хватает его за рукав белой шелковой пижамы.) Стой, сукин сын! Побудешь здесь, пока я тебя не отпущу!
Брик. Не могу я.
Папа. Останешься как миленький, черт побери!
Брик. Нет, не могу. Мы разговариваем… ты разговариваешь – кругами! Это же ни к чему не приводит, ни к чему! Всегда одно и то же: ты говоришь, что хочешь побеседовать со мной, и тебе абсолютно нечего сказать мне!
Папа. Нечего сказать? Это когда я говорю тебе, что буду жить, после того как уже распростился с жизнью?!
Брик. Ах, это! Так ты это хотел мне сказать?
Папа. Хорош гусь! Разве же это, разве же это – не важно?!
Брик. Ну, ты ведь сказал, что хотел, а раз так, я теперь…
Папа. Теперь ты снова сядешь на этот стул.
Брик. Ты сам не знаешь, чего хочешь, ты…
Папа. Я знаю, чего хочу!
Брик. Нет, не знаешь!
Папа. Не указывай мне, пьяный щенок! Сядь, не то оторву этот рукав!
Брик. Папа…
Папа. Делай, что я тебе говорю! Теперь я снова здесь хозяин! Всем тут снова распоряжаюсь я, так и знай!
В комнату врывается Мама; она прижимает руки к своей высоко вздымающейся груди.
Какого дьявола тебе здесь нужно, Мама?
Мама. О Папа! Почему ты так кричишь? Я этого не вы-ы-ынесу…
Папа (замахиваясь). Вон отсюда!
Мама с рыданиями выбегает из комнаты.
Брик (негромко и грустно). Боже мой…
Папа (свирепо). Да уж действительно «Боже мой»!
Брик вырывается и ковыляет к двери на галерею. Папа выдергивает у него из-под руки костыль, и Брик ступает на поврежденную ногу. Вскрикнув от боли – свистящий короткий крик, – он хватается за стул и вместе со стулом падает на пол.
Ах ты сукин сын…
Брик. Папа! Дай мне костыль.
Папа отбрасывает костыль подальше в сторону.
Дай мне костыль, Папа.
Папа. Почему ты пьешь?
Брик. Не знаю, дай мне костыль!
Папа. Тогда постарайся узнать, почему ты пьешь, или бросай пить!
Брик. Может, ты все-таки дашь мне костыль, чтобы я мог подняться с пола?
Папа. Сначала ответь на мой вопрос. Почему ты пьешь? Почему ты, парень, выбрасываешь прочь собственную жизнь, словно это какая-то гадость, подобранная на улице?
Брик (поднимаясь на колени). Папа, больно мне, я же наступил на эту ногу.
Папа. Вот и хорошо! Рад, что ты не накачался спиртным до полной потери чувствительности!
Брик. Ты… пролил… мое виски…
Папа. Давай уговоримся. Ты скажешь мне, почему ты пьешь, а я дам тебе виски. Сам налью и вручу тебе стакан.
Брик. Почему я пью?
Папа. Да! Почему?
Брик. Дай виски – скажу.
Папа. Сначала скажи!
Брик. Скажу. Достаточно одного слона.
Папа. Какого?
Брик. Отвращение…
Тихо и мелодично бьют часы. Папа бросает на них быстрый негодующий взгляд.
Как насчет обещанного виски?
Папа. К чему у тебя отвращение? Сперва скажи, к чему именно отвращение? Просто отвращение ничего не значит.
Брик. Дай мне костыль.
Папа. Ты же слышал: ответь сперва на мой вопрос.
Брик. Я ответил: чтобы заглушить отвращение!
Папа. Отвращение к чему?!
Брик. Мы так не уговаривались.
Папа. Скажи, что внушает тебе отвращение, и я дам тебе виски.
Брик. Я могу прыгать на одной ноге, а упаду – могу ползти.
Папа. Тебе так невтерпеж выпить?
Брик (с трудом поднимается, опираясь на кровать). Угу, так невтерпеж.
Папа. Ладно, Брик, а если я дам тебе выпить, ты скажешь мне, к чему у тебя отвращение?
Брик. Да, сэр, я постараюсь.
Старик наливает виски и торжественно подает ему стакан.
(Пьет в наступившем молчании.) Слыхал такое слово «фальшь»?
Папа. Ну еще бы. Это одно из тех пятидолларовых словечек, которыми дешевые политиканы швыряются друг в друга.
Брик. Знаешь, что оно означает?
Папа. Ложь и лжецов?
Брик. Да, сэр, ложь и лжецов.
Папа. Кто-нибудь тебе лгал?
Дети (хором поют за сценой)
Мы хотим видеть деду!
Мы хотим видеть деду!
В дверях, выходящих на галерею, появляется Гупер.
Гупер. Папа, тебя там малыши зовут.
Папа (яростно). Убирайся, Гупер!
Гупер. Извините меня.
Папа захлопывает за ним дверь.
Папа. Кто тебе лгал, Брик, может, тебе Маргарет лгала, тебе жена в чем-то лгала?
Брик. Не она. Это я бы пережил.
Папа. Тогда кто тебе лгал и в чем?
Брик. Если бы лгал один человек и в чем-то одном…
Папа. Так что же, что заставляет тебя пить, скажи мне на милость?
Брик. Все… вся эта…
Папа. Почему ты трешь себе лоб? Голова болит?
Брик. Нет, я пытаюсь…
Папа. Сосредоточиться, но не можешь, потому что мозги у тебя насквозь пропитались алкоголем, да? Заспиртовал собственный мозг! (Выхватывает из руки Брика стакан.) Что ты вообще знаешь о фальши?! Ха! Вот я бы о ней целую книгу мог написать! Неужели тебе невдомек, что я мог бы написать об этом целую книгу и все равно не рассказал бы и половины? Так вот, знай, я мог бы написать об этой чертовой фальши целую книгу и все равно далеко не исчерпал бы тему! Подумай, сколько всякой лжи мне приходилось выслушивать! А притворство! Разве это не фальшь? Притворяться, напускать на себя черт знает что, чего и не думаешь, и не чувствуешь, и вообще не представляешь себе? Например, делать вид, будто я люблю Маму! Хотя я вот уже сорок лет одного вида, звука голоса, запаха этой женщины не переношу! Даже когда я валял ее! Регулярно, как часы… Притворяться, что мне приятны этот сукин сын Гупер, его жена Мэй и пятерка их крикунов, которые верещат там, как попугаи в джунглях? Бог ты мой! Да мне и смотреть-то на них тошно! Церковь! Это же скука смертная, сил никаких нет, но я иду! Иду и торчу там, слушаю нудную проповедь дурака священника! А все эти клубы? Тьфу! (Почувствовав сильную боль, хватается за живот и опускается на стул; его голос звучит теперь тише и более хрипло.) Вот ты мне почему-то действительно по сердцу, я всегда питал к тебе какое-то настоящее чувство… привязанность… уважение… да, всегда… Ты да моя карьера плантатора – вот и все, чем я сколько-нибудь дорожил за всю свою жизнь! Это истинная правда… Не знаю почему, но это так! Я жил среди всей этой фальши! Почему же не можешь ты? Черт побери, никуда ведь не денешься, приходится жить фальшиво, раз кругом одна фальшь. Чем же еще тогда жить?
Брик. Можно и кое-чем еще жить, сэр.
Папа. Чем?
Брик (поднимая стакан). Вот этим!
Папа. Какая же это жизнь? Это бегство от жизни.
Брик. Я и хочу убежать от жизни.
Папа. Тогда почему бы тебе, дружок, просто не покончить с собой?
Брик. Мне нравится пить…
Папа. О господи, с тобой невозможно разговаривать…
Брик. Прости, Папа, мне очень жаль.
Папа. Мне – еще больше. Я скажу тебе одну вещь. Некоторое время тому назад, когда я думал, что мне крышка (этот монолог произносится неистово, в бурном темпе), до того как я узнал, что это просто так, спастический колит, я думал о тебе. Следует или нет, раз уж моя песенка спета, завещать плантацию тебе? Ведь Гупера и Мэй я терпеть не могу и знаю, что они ненавидят меня, а вся пятерка одинаковых мартышек – вылитые Мэй и Гуперы. То я думал: «Нет, не следует!» То я думал: «Да, следует!» Никак не мог решить. Гупера, пятерых его одинаковых мартышек и эту сучку Мэй я не выношу. С какой стати стану я передавать двадцать восемь тысяч акров лучшей земли в долине людям не моей породы? Но с другой-то стороны, Брик, какого черта буду я субсидировать глупца, пристрастившегося к бутылке? Что из того, что я к нему привязан, может даже – люблю его! Зачем мне это нужно? Субсидировать недостойное поведение? Никчемность? Разложение?
Брик (с улыбкой). Понимаю.
Папа. Ну, если ты понимаешь, значит, ты сообразительней меня, потому что я, черт возьми, не понимаю. И вот что я тебе откровенно скажу: я до сих пор не принял окончательного решения и до сегодняшнего дня не составил никакого завещания. Ну, теперь-то надо мной не каплет! Теперь можно и не торопиться. Теперь я подожду да посмотрю, сможешь ли ты взять себя в руки.
Брик. Правильно, Папа.
Папа. Ты, похоже, думаешь, что я шучу?
Брик (вставая). Нет-нет, я знаю, что ты не шутишь.
Папа. Но тебя это не волнует…
Брик (ковыляя к выходу на галерею). Нет, сэр, не волнует… Ну а теперь, может, посмотрим фейерверк в честь твоего дня рождения и подышим прохладным ветерком с реки? (Стоит в дверях на галерею.)
Ночное небо, освещаясь вспышками огней, попеременно становится то розовым, то зеленым, то золотым.
Папа. Погоди! Брик… (Голос начинает звучать тише и мягче. В жесте, которым он удерживает Брика, внезапно появляется что-то застенчивое, почти нежное.) Не хочется, чтобы и этот наш разговор кончился ничем, как все прежние наши разговоры. Мы всегда… говорили вокруг да около… по какой-то дурацкой причине всегда говорили вокруг да около. Как будто что-то, сам не знаю что, всегда оставалось недоговоренным, чего-то мы избегали касаться, потому что оба мы не были до конца честны друг с другом…
Брик. Я никогда не лгал тебе, Папа.
Папа. А я когда-нибудь лгал тебе?
Брик. Нет, сэр…
Папа. Значит, есть по крайней мере два человека, которые никогда друг другу не лгали.
Брик. Но мы никогда и не говорили друг с другом.
Папа. Мы можем поговорить сейчас.
Брик. Похоже, Папа, нам нечего особенно сказать.
Папа. Ты говоришь, что пьешь, чтобы заглушить отвращение ко лжи.
Брик. Ты же просил назвать причину.
Папа. И что же, утопить в вине – единственный способ избавиться от этого отвращения?
Брик. Теперь – да.
Папа. А прежде?
Брик. Тогда я еще был молод и верил. Пьют ведь для того, чтобы забыть, что у тебя нет больше ни молодости, ни веры.
Папа. Веры во что?
Брик. Веры…
Папа. Веры – во что?
Брик (упрямо уклоняясь от ответа). Веры…
Папа. Не знаю, что ты подразумеваешь под верой, и не думаю, чтобы ты сам это знал, но если спорт у тебя по-прежнему в крови, ты мог бы снова заняться спортивным репортажем и…
Брик. Сидеть в стеклянной кабине, следить за игрой, в которой больше не могу участвовать? Описывать то, что делают на поле игроки, тогда как самому мне это больше не под силу? Указывать на их промахи и неудачи в поединках, для которых я уже не гожусь? Попивать кока-колу пополам с виски, чтобы выдержать все это? Сыт по горло! Да и поздно уже туда возвращаться: отстал я от времени, Папа, время обогнало меня…
Папа. По-моему, ты валишь с больной головы на здоровую.
Брик. Ты со многими пьющими был знаком?
Папа (с легкой, обаятельной улыбкой). Да уж конечно, немало пьянчуг повидал.
Брик. Мог хотя бы один из них объяснить тебе, почему он пьет?
Папа. Ей-ей, ты валишь с больной головы на здоровую: то время у тебя виновато, то отвращение к фальши. И вообще, черт возьми, когда человек загибает такие слова, объясняя что-то, это значит, что он порет собачий вздор, и я на эту удочку не попадусь!
Брик. Должен же я был назвать какую-нибудь причину, чтобы ты дал мне виски!
Папа. Ты начал пить после смерти твоего друга Капитана.
Молчание длится пять секунд. Затем Брик, делая какое-то испуганное движение, берет свой костыль.
Брик. На что ты намекаешь?
Папа. Я ни на что не намекаю.
Брик, шаркая ногой и стуча костылем, поспешно ковыляет прочь, убегая от внимательного, пристального взгляда отца.
Но Гупер и Мэй намекают на то, будто было что-то не вполне здоровое в твоей…
Брик (резко останавливается на авансцене, как бы припертый к стене). «Не вполне здоровое»?
Папа. Ну, не вполне, что ли, нормальное в твоей дружбе с…
Брик. Значит, и они это предполагали? Я думал, только Мэгги.
Наконец-то броня отрешенности, которой окружил себя Брик, пробита. Сердце у него колотится, на лбу выступают капли пота, дыхание становится учащенным, голос звучит хрипло. Оба они сейчас обсуждают – Папа стесняясь, вымученно; Брик с неистовой страстностью – нечто невозможное, недопустимое: что Капитан умер, чтобы снять с них двоих подозрение. Может быть, тот факт, что, если бы имелось основание для такого подозрения, им пришлось бы отрицать это, чтобы «сохранить лицо» в окружающем их мире, лежит в самой основе той «фальши», отвращение к которой Брик топит в вине. Возможно, именно в этом – главная причина его падения. А может быть, для него это лишь одно из многих проявлений той «фальши», причем даже не самое важное. Решение психологической проблемы одного человека не является целью этой пьесы. Я ставлю перед собой совсем другую задачу: попытаться поймать, как птицу сетью, живую природу общения в группе людей, эту смутную, трепетную, зыбкую – заряженную страшной энергией! – игру переживаний людей, наэлектризованных грозовой тучей общего для них всех кризиса. Раскрывая характер персонажа пьесы, следует кое-что оставить недосказанным, тайным, подобно тому как в жизни характер никогда не раскрывается до конца и многое в нем остается тайной, даже если это ваш собственный характер в ваших собственных глазах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































