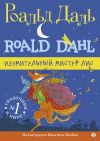Текст книги "Паутина и скала"

Автор книги: Томас Вулф
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 50 страниц)
Да! Разве она не избавлялась навсегда от всех своих страхов и призраков, присущих людям от рождения, с помощью того же чародейства, не стала в высшей степени здоровой, нормальной, понимающей благодаря тому же лечению? А разве теперь не плачет, просит, умоляет, заклинает, не грозит самоубийством и местью, не выказывает ревности, ярости, страданий, скорби, негодования, не клянется, что она самая благородная и несчастная женщина, какая только жила на свете, что такой скорби, трагедии, любви, как у нее, никогда не бывало – и все с таким безрассудством, страстью, горячностью и волнением, словно является просто-напросто невежественной, страдающей дочерью Евы, чья смятенная, темная душа никогда не знала этого исцеляющего света?
Да! Они исключительная, утонченная порода, праздные баловни судьбы, далекие от проклятых несовершенств его низкой, потеющей, смрадной персти, обреченной на труд и страдания. И внезапно Джордж подумал, а не грозит ли ему задохнуться в этой беспросветности, как бешеной собаке, сражаться с миром бескровных призраков, сойти с ума и умереть в отчаянии от горя среди растленной, бесстрастной нежити, отвратительной породы ничтожеств, лишенных корней, которые чувствуют, будто они чувствуют, думают, что они думают, веря, что они верят, однако не способны ничего думать и чувствовать, ни во что верить. Неужели он любил женщину, которая никогда его не любила, неужели он обезумел, неужели сокрушен, повержен, сломлен из-за слабостей игрушки, непостоянства воска, легкомысленных шалостей мотылька?
А может, измена совершена тайно, без веселья и непринужденности изысканных шутливых бесед? Может, она в зеленом, жестоком великолепии весны таяла с одурманенной нежностью в объятиях какого-то чувственного, смуглого парня, какого-нибудь актера с полными губами и раздувающимися чувственными ноздрями, какой-то порочной, отвратительной твари с полным, белым, безволосым телом и толстой бычьей шеей?
Или то был какой-то мрачный, угрюмый юнец, который раздраженно постукивал по столу и «жил в Париже», который с какой-то лихорадочной злобой на весь мир внимал восхвалениям своих непризнанных талантов? Глядела она на него сияющими нежностью глазами, гладила его худощавое, мрачное лицо, говорила с изумлением, что лицо его «очаровательное», «очень утонченное», «прямо-таки ангельское»? Говорила, что «никому не понять, как ты прекрасен»? Говорила: «Ты обладаешь величайшими достоинствами, каких нет больше ни у кого, величайшей мощью, величайшим гением. Никому не понять величия, богатства и красоты твоей души, как понимаю их я»?
И говорила потом о трагической разнице в возрасте, которая разделяет их, делает подлинное счастье обоих невозможным? Говорила, плача при этом, о своих горестях, клялась, что это «величайшая любовь ее жизни», что вся прежняя любовь и жизнь ничто по сравнению с теперешними, что она никогда прежде не думала, не могла представить себе, что такая любовь возможна, что подобный рай любви может существовать на земле, и что во всей мировой истории не было ничего сравнимого с нею? Произносила громкие, высокие слова и легко уступала ему, возвышенно говоря о высокой любви, священной чистоте, вечной преданности, физическом и духовном освящении?
Джордж невидяще смотрел в гущу трепещущей, прекрасной листвы, ненавистные картины струились в его исступленном разуме черной процессией позора и смерти. Он оказался в западне безрассудства, крушения, безумия, ненавидел собственную жизнь и мерзкий позор, в котором она захлебнулась, был открыт в своем унизительном несчастье пристальному, безжалостному оку мира, лишен возможности укрыться, спрятаться от него, поведать кому бы то ни было о бремени горя и ужаса, лежащем на его сердце.
Иногда в полдень при виде румяного, здорового, любящего лица Эстер все великолепие и пение прошлого возвращалось к Джорджу с ликующей радостью и здравомыслием. Но всякий раз после ее ухода в его сознании пробуждалось с обжигающей яркостью горячечного бреда это жестокое, зловещее видение Эстер, красивого, ядовитого цветка растленного, бесчестного мира, ночью, в недосягаемости. И безумие вселялось в него снова, отравляя кости, кровь, мозг своей порчей.
Тогда он звонил Эстер, и если заставал дома, осыпал злобными упреками и непристойной бранью, спрашивал, где ее любовник, нет ли его рядом, и когда она клялась, что в комнате с нею никого, ему казалось, что за ее спиной слышатся шепот и смешки. Тогда, обругав Эстер снова, он говорил, чтобы она никогда больше у него не появлялась, выхватывал телефон из ниши в стене, швырял на пол и принимался топтать, словно аппарат являлся подлым, злонамеренным виновником его крушения.
Но если Эстер дома не оказывалось, если трубку снимала горничная-ирландка и говорила, что ее нет, отчаяние и безумие Джорджа не знали границ. Он яростно засыпал горничную вопросами. Где миссис Джек? Когда вернется? Как отыскать ее немедленно? Кто с ней? Что она велела ему передать? И если горничная не могла немедленно и четко ответить на все эти вопросы, Джордж считал, что она дурачит его, издевается над ним с насмешливым презрением и надменностью. Улавливал в звучном, вкрадчиво-почтительном голосе ирландки нотки насмешки, злобного веселья наймитки, бесстыдной и самоуверенной, запятнанной, опороченной тайным сговором и получением платы за молчание.
И он клал трубку, осушал бутылку до последней капли, а потом устремлялся на улицы браниться и драться с людьми, с городом, со всей жизнью в тоннелях, на улицах, в салунах, ресторанах, а вся земля тем временем кружилась в своем офомном, сумасшедшем танце.
А потом, в многолюдной вечности тьмы, длящейся от света до света, от зари до зари, он бродил по сотням улиц, глядел в миллионы синевато-серых лиц, видел во всех смерть и ощущал ее повсюду, куда бы ни направлялся. Бросался в тоннели, ведущие к какому-нибудь отвратительному аванпосту громадного города, неприглядной окраине Бруклина, и выходил на бледный утренний свет в ужас пустырей, ржавчины, мусора; в ужас унылых домишек, разбросанных на бесплодной земле, сбитых в кварталы, повторяющие друг друга с идиотским однообразием.
Иногда в каком-нибудь таком месте безумие и образы смерти исчезали столь же внезапно и загадочно, как и появлялись, и он возвращался в зарю, от смерти к заре, идя по Мосту. Чувствовал под собой живое, динамичное содрогание его огромного, похожего на крыло пролета. Потом ощущал свежий, чуть гнилостный запах реки, замечательный запах морских водорослей с его радостным предвестием моря и плавания, знойный аромат обжаренного кофе. Видел огромную гавань с ее мощными приливами, движением горделивых судов, а прямо перед собой – громадный отвесный утес ужасающего города; и зарю, яркую утреннюю зарю, вновь пламенеющую на множестве его шпилей и бастионов.
Вот что творилось с Джорджем в зеленом великолепии того решающего, рокового, гибельного апреля. Он ненавидел живых людей, не видел во всех и во всем вокруг ничего, кроме смерти и холодной развращенности, и вместе с тем любил жизнь с такой неистовой, нестерпимой страстью, что каждую ночь словно бы вновь посещал пределы этой громадной земли будто призрак, чужак, посторонний, мозг его был охвачен мучительной горечью воспоминаний и неутолимым томлением по всей радости и великолепию жизни, которую, как ему казалось, он утратил навсегда.
37. ССОРА
Безумие Джорджа той весной усугубляла, была в нем основой, затрагивала его со всех сторон любовь к Эстер, любовь, которая из-за распаленной воображением ревности, отвращения к миру этой женщины, чувства крушения и утраченных надежд преобразилась теперь в жгучую ненависть. Почти три года прошло с тех пор, как он познакомился с Эстер, полюбил ее, и теперь, словно человек, который вышел из непроглядной сумятицы и ярости битвы, оглянулся и впервые ясно увидел, что принадлежит к числу побежденных, осознал свое поражение. Джордж теперь стал способен различать все стадии, которые прошла его любовь.
Вначале он испытывал ликующую гордость и самодовольство тем, что считал блестящей личной победой – любовью красивой, талантливой женщины – данью собственному тщеславию.
Потом тщеславие и радость сладострастной победы уступили место смирению, возвеличиванию любви, и в конце концов Эстер завладела каждым биением его сердца, всей энергией и пылом его жизни.
А затем неожиданно ловец попался в ловушку, победитель оказался побежденным, гордый и надменный унизился, Эстер вошла в его плоть, растворилась в его крови, и казалось, он уже никогда не изгонит ее из себя, никогда не сможет взирать на жизнь собственными глазами, никогда не обретет вновь ликующей независимости своей юности, не сможет избавить плоть и дух от того жуткого плена любви, который лишает мужчин их гордой обособленности, их неприступного затворничества, возвышенной музыки их уединения. И когда он начал осознавать могучую власть любви, степень, до которой она поглотила все его силы и помыслы, то понял, что цена, которую платит за нее, слишком высока, и стал раздражаться, тяготиться оковами, которые выковало его сердце.
И тут уже вся гордая, торжествующая музыка этой любви, которая пленила его, покорила его, стала прерываться, искажаться, звучать хрипло и непристойно из-за набегающих одна за другой волн сомнения, подозрения, ненависти и безумия, которое в конце концов окончательно и губительно возобладало над его жизнью.
В неистовой хронике этой страсти с ее бессчетными воспоминаниями, бесчисленными переплетениями оттенков и мгновений, мыслей и чувств, каждое из которых было пронизано столь неописуемым смешением страдания, радости, нежности, любви, жестокости и отчаяния, что словно бы вырастало из всего слитного действа жизни, реальность отсчетного, календарного времени нарушилась, и эти три года оказались длиннее, чем любые десять, прожитые до того Джорджем. Все, что он видел, делал, чувствовал, читал, о чем думал или грезил во всей прежней жизни, представлялось ему лишь почвой для настоящего.
И когда все это открылось в раздумьях Джорджу, то полное, отчетливое осознание, что Эстер захватила власть над его жизнью, что он покорен ее игу, показалось ему невыносимым. Убежденность в своем крушении укоренилась в его сердце, и он поклялся, что освободится, будет жить независимо, как прежде, или умрет.
Эти мысли и решения созрели у Джорджа однажды ночью, когда он долго лежал без сна, глядя в потолок. На другой день, как обычно, Эстер пришла к нему, и вид ее румяного, веселого лица он воспринял, как вызов. Ему показалось подозрительным, что она такая сияющая, когда он такой подавленный, и червь снова стал въедаться в его сердце. Едва Эстер вошла и, как обычно, весело поздоровалась с ним, все созданные безумием картины измены вновь пронеслись в его мозгу; он слепо, неуклюже провел рукой по глазам, от чего в них поплыли пятна, и выговорил хриплым от раздирающей ненависти голосом.
– Вот оно что! – произнес Джордж с сильным ударением. – Вернулась, значит, ко мне? Пришла, поскольку наступил день, провести у меня час-другой! Наверное, следует поблагодарить тебя за то, что не забыла меня окончательно!
– Джордж, ты что? – спросила она. – Господи, в чем дело?
– Прекрасно знаешь в чем! – злобно ответил он. – Хватит принимать меня за дурачка! Пусть я просто-напросто чурбан неотесанный, однако со временем начинаю понимать кое-что!
– Будет тебе, Джордж, – мягко сказала Эстер. – Не сходи с ума из-за того, что вчера вечером, когда ты звонил, меня не оказалось дома. Кэти сказала мне о твоем звонке, и я сожалею, что меня не было. Но Господи! По твоему тону можно подумать, что я встречаюсь с другими мужчинами.
– Подумать! – хрипло произнес он и внезапно разразился хриплым, похожим на рычание смехом. – Подумать! Черт тебя побери, я не думаю, я знаю!.. Да! Стоит мне лишь отвернуться!
– Видит Бог, я не встречаюсь ни с кем, – заговорила Эстер дрожащим голосом, – и ты это знаешь! Я была верна тебе с первой минуты нашего знакомства. Никто не приближался ко мне, никто не прикоснулся ко мне пальцем, и в глубине своего злобного, лживого сердца ты это знаешь!
– Господи, и как только у тебя язык поворачивается! – произнес он, покачивая головой с каким-то зловещим изумлением. – Смотришь мне в лицо и говоришь эти слова! Как только не подавишься ими!
– В этих словах чистая правда! – ответила Эстер. – И не будь твой разум отравлен низким, отвратительным подозрением, ты бы понял это. Ты не доверяешь всем, потому что считаешь всех такими же низкими и подлыми, как сам!
– Не беспокойся! – яростно выкрикнул Джордж. – Я доверяю всем, кто того заслуживает! Я знаю, кому можно доверять!
– О, ты знаешь, ты – со злостью сказала Эстер. – Господи, да не знаешь ты ничего! Ты не способен отличить правду от лжи!
– Уж тебя-то я знаю! – выпалил он. – И ту гнусную публику, с которой ты якшаешься.
– Послушай! – воскликнула она предостерегающим тоном. – Если тебе не нравятся люди, среди которых я работаю…
– Да, черт возьми, не нравятся! – выкрикнул Джордж. – Как и вся эта свора – эти утонченные еврейки, живущие на Парк-авеню, с их миллионами долларов, душевными томлениями и изысканным блудом. – Потом спокойно, недобро повернулся кней и сказал:
– Хочу задать тебе один вопрос. – Поглядел ей в глаза: – Скажи, Эстер, знаешь ты, что такое шлюха?
– Что-о-о? – произнесла Эстер дрожащим, неуверенным голосом с высокой, истеричной ноткой в конце. – Что ты сказал?
Джордж яростно бросился к ней, схватил ее за руки и прижал спиной к стене.
– Отвечай! – в бешенстве прорычал он. – Ты слышала мой вопрос! Ты любишь твердить такие слова, как преданность, искренность, любовь и верность! А когда я спрашиваю, знаешь ли, что такое шлюха, ты даже не понимаешь, о чем речь! Это слово нельзя употреблять, говоря об этих утонченных дамах с Парк-авеню, так? Оно неприменимо к таким, как они? Ты права, черт побери, неприменимо! – неторопливо прошептал он с удушливым пылом ненависти.
– Пусти меня! – сказала Эстер. – Убери руки!
– О, нет-нет! Подожди. Ты не уйдешь, пока я не просвещу тебя, воплощенная чистая невинность!
– Не сомневаюсь, что ты можешь меня просветить! – злобно ответила она. – Не сомневаюсь, что ты авторитет в этом вопросе! В том-то и беда! Потому твой разум полон мерзости и злобы, когда ты говоришь о порядочных женщинах! Ты не знал ни единой порядочной женщины до встречи со мной. Ты всю жизнь якшался с грязными, распутными женщинами – и знаешь только таких. Только их ты способен понять!
– Да, Эстер, я знаю таких женщин и понимаю их лучше, чем утонченные душевные томления твоих приятельниц-миллионерш. Я знал две сотни других женщин – шлюх из публичных домов, с окраинных улиц, из трущоб – знал в добром десятке стран, и там не было таких, как изысканные дамы с Парк-авеню!
– Разумеется! – спокойно ответила Эстер.
– У них не было миллиона долларов, они не жили в квартирах из двадцати пяти комнат. И не скулили, не хныкали из-за душевных томлений, не жаловались, что их любовники чересчур грубы и невоспитанны, не способны их понять. Не представали утонченными, изысканными ни в каком свете, но знали, что они шлюхи. Некоторые были растолстевшими, измотанными старыми клячами с большими животами, без верхних зубов, из уголков рта у них сочилась табачная жвачка.
– Прибереги свои драгоценные сведения для тех, кому они интересны, – сказала она. – А меня от них только тошнит! Я не желаю знать великой мудрости, которую ты почерпнул в трущобах.
– Брось, брось, – негромко, глумливо произнес он. – Неужели это та самая превосходная художница, которая видит жизнь отчетливо и во всех проявлениях? Неужели это та самая женщина, которая повсюду находит истину и красоту? С каких это пор ты воротишь нос от трущоб? Или, может, тебе не по вкусу те, о которых веду речь я? А вот прекрасные трущобы на сцене экспериментального театра – какая-нибудь замечательная старая трущоба Вены или Берлина – совсем другое дело, не так ли? Или восхитительная, колоритная, грязная трущоба в Марселе? Вот они достойны внимания, а? Если память не изменяет мне, ты сама делала декорации замечательной марсельской трущобы? Для пьесы о шлюхе, которая являлась матерью всех людей, которая укрывала бродяг и изгнанников в своем всепоглощающем чреве – мадам Деметре! Я бы мог рассказать тебе кое-что, лапочка, об этой трущобе, потому что бывал там во время своих путешествий, правда, с этой дамой ни разу не встречался! И разумеется, при своей низкой, подлой натуре я не сумел оценить всей глубокой, символичной красоты этой пьесы, – прорычал он, – хотя мог бы дать тебе некоторое представление о вони Старого Квартала, о гнилых фруктах и рыбе, об экскрементах в переулках! Но ты не спрашивала меня, так ведь? У меня хорошее зрение, прекрасный нюх и отличная память – но я не обладаю глубинным зрением, верно, дорогуша? И к тому же, моя низкая душа не способна воспарить к высоким красотам прекрасной старой трущобы в Марселе или в Будапеште – ей не подняться выше трущоб негритянского квартала в южном городишке! Но ведь это же простая местная грязь – это не искусство! – произнес он сдавленным голосом.
– Ну, успокойся, успокойся, – мягко сказала Эстер. – Не приводи себя в бешенство. Ты не в своем уме и сам не сознаешь, что говоришь. – Она нежно погладила руку Джорджа и печально взглянула на него. – Господи, что все это значит? Что это за нелепый разговор о трущобах, переулках и театрах? Какое все это имеет отношение к тебе и ко мне? Какое отношение к тому, как я люблю тебя?
Губы Джорджа посинели и неудержимо дрожали, серое лицо исказилось в гримасе безумной, бессмысленной ярости, и он в самом деле не совсем сознавал, что говорит.
Внезапно Эстер схватила его за руки и неистово встряхнула. Потом вцепилась ему в волосы, яростно притянула его голову к себе и взглянула в ошеломленные, безумные глаза.
– Слушай! – резко заговорила она. – Слушай, что я тебе скажу!
Он угрюмо уставился на нее, и Эстер на миг приумолкла, глаза ее налились гневными слезами, все маленькое тело трепетало энергией упорной, неукротимой воли.
– Джордж, если ты ненавидишь мою работу и людей, среди которых я работаю, – мне очень жаль. Если актеры и другие люди, работающие в театре, так низки и отвратительны, как ты говоришь, мне тоже очень жаль. Но не я сделала их тем, что они есть, и я никогда не считала их такими. Многих из них я нахожу тщеславными, жалкими, несчастными, лишенными хотя бы крупицы таланта и понимания, но не подлыми и низкими, как ты говоришь. И я знаю всю их жизнь. Мой отец был актером, был таким же неистовым, безумным, как ты, но обладал не менее возвышенным и прекрасным духом, чем любой из живших на свете.
Голос ее дрожал, из глаз катились слезы.
– Говоришь, все мы низкие, подлые, не имеем понятия о преданности! О, какой ты глупец! Я услышала, как папа звал меня среди ночи – бросилась к нему в комнату и нашла его лежащим на полу, изо рта у него шла кровь! Почувствовала, что мои силы удесятерились, подняла его, взвалила на спину и понесла к кровати. – Она приумолкла, губы у нее дрожали и мешали говорить. – Кровь его пропиталась сквозь ночную рубашку мне на плечи – я до сих пор ее ощущаю – он не мог говорить – он умер, держа меня за руку, глядя на меня своими замечательными серыми глазами, – и это было почти тридцать лет назад. Ты говоришь, все мы низкие, подлые, не любим никого, кроме себя. Думаешь, я смогу забыть его? Нет, никогда, никогда, никогда!
Эстер зажмурилась, чуть приподняла раскрасневшееся лицо и плотно сжала губы. Через минуту она продолжала уже спокойнее:
– Я сожалею, что тебе не нравятся моя работа и люди, среди которых я работаю. Но это единственная работа, какую я умею делать – которая нравится мне больше всего – и что бы ты, Джордж, ни говорил, я горжусь своей работой. Я превосходная художница и знаю себе цену. Знаю, что пьесы у нас большей частью дрянные, паршивые – да! – и некоторые люди, которые играют в них, тоже! Но знаю, что в театре так же есть великолепие и красота, и когда их обнаружишь, с ними не может сравниться ничто на свете!
– А! Великолепие и красота – чушь! – проворчал Джордж. – Все они только болтают о великолепии и красоте! Это великолепие и красота суки во время течки! Все они ищут легких любовных связей! С нашими лучшими молодыми актерами, а? – свирепо произнес он, схватив Эстер за руку. – С нашими будущими Ибсенами моложе двадцати пяти лет! Так? С нашими молодыми декораторами, плотниками, электриками – и всеми прочими молодыми, румяными гениями! – сдавленно произнес он. – Это и есть те великолепие и красота, о которых ты говоришь? Да! Великолепие и красота эротоманок!
Эстер вырвалась из его крепкой хватки и внезапно поднесла к его лицу свои маленькие, сильные руки.
– Посмотри на них, – негромко, гордо сказала она. – Смотри, жалкий дурачок! Это руки эротоманки? Они переделали работы больше, чем руки любого другого мужчины. В них есть сила, мощь. Они могут шить, писать маслом, рисовать, творить – они способны делать то, чего не может больше никто на свете. И они стряпали для тебя! Лучшую еду, какую ты только пробовал.
Она вновь яростно схватила Джорджа за руки, притянула к себе и, вскинув пылающее лицо, поглядела на него.
– О, жалкий, безумный дурачок! – прошептала она восторженным тоном находящейся в экстазе женщины. – Ты пытался бросить меня – но я привязалась к тебе. Я привязалась к тебе, – продекламировала она радостным, торжествующим шепотом. – Ты пытался меня прогнать, ты бранил меня, оскорблял – но я привязалась к тебе, привязалась к тебе! Ты мучил, терзал меня, заставил пройти через то, чего не смог бы вынести больше никто на свете – но не смог прогнать! – воскликнула она с ликующим смехом, – не смог от меня отделаться, потому что я люблю тебя больше всего на свете и всегда буду любить. О, я привязалась к тебе, привязалась к тебе! Жалкое, безумное создание, я привязалась к тебе, потому что люблю тебя, и в твоем безумном, измученном духе больше красоты и великолепия, чем в любом человеке, какого я знаю! Ты самый лучший, самый лучший, – зашептала Эстер. – Безумный и недобрый, но самый лучший, и потому я привязалась к тебе! И я извлеку из тебя самое лучшее, величайшее, даже если это будет стоить мне жизни! Отдам тебе свои силы и знания. Научу, как использовать самое лучшее в себе. О, ты не собьешься с пути! – произнесла она чуть ли не с ликующим торжеством. – Я не позволю тебе сбиться, стать безумным, вероломным, подлым, быть ниже, чем самые лучшие на свете. Ради Бога, скажи мне, что с тобой, – воскликнула она, отчаянно встряхнув его. – Скажи, чем я могу помочь, и я помогу. Укажу тебе четкий план, золотую нить, и ты будешь за нее держаться. Я покажу тебе, как извлечь из себя самое лучшее. Не позволю терять чистое золото, погребенное под массой недоброго, дурного. Не позволю сгубить жизнь в пьянстве, бродяжничестве, с продажными женщинами в грязных борделях. Скажи, что с тобой, я помогу тебе. – И неистово затрясла его. – Скажи! Скажи!
Джордж тупо уставился на нее сквозь мутную, клубящуюся пелену безумия; когда пелена эта рассеялась, и он вновь увидел перед собой лицо Эстер, его ошеломленный, неверный разум устало, слепо подобрал оборванную нить того, о чем он вел речь, и он стал продолжать тупым, безжизненным, монотонным голосом автомата:
– Они живут в лачугах негритянского квартала в южном городишке или за железнодорожными путями, на ставнях у них цепи – отличительный знак профессии – и дома их обнесены решетчатыми заборами. Иногда ты приходил туда в послеполуденную жару, башмаки твои покрывала белая пыль, все под солнцем было горячим, неподвижным, грубым, грязным, противным, ты сам удивлялся, зачем пришел, тебе казалось, что все знакомые смотрят на тебя. Иногда приходил зимой, среди ночи. Слышал, как негры кричат и поют в своих лачугах, видел их закопченные лампы за старыми, выцветшими шторами, но все было скрытым, потаенным, все звуки доносились невесть откуда, и тебе казалось, что на тебя смотрит тысяча глаз. И время от времени мимо прошныривал какой-нибудь негр. Ты ждал в темноте, прислушиваясь, и когда пытался закурить, пальцы дрожали, спичка гасла. Видел, как раскачивается на углу уличный фонарь, мигая ярким, холодным светом, видел резкие, пляшущие тени голых ветвей на земле и холодную, голую глину негритянского квартала. Ты огибал в темноте десяток углов, десяток раз проходил туда-сюда перед домом, прежде чем позвонить. А в доме всегда бывало жарко, душно, пахло полированной мебелью, конским волосом, лаком и сильными антисептиками. Слышно было, как где-то открывалась и осторожно закрывалась дверь, как кто-то выходил. Однажды две женщины сидели на кровати, забросив ногу на ногу, играли в карты. Предложили мне выбрать любую из них и продолжали играть. А когда я уходил, они улыбались, демонстрируя свои беззубые десны, и называли меня «сынок».
Эстер отвернулась с горящим лицом, со злобно сжатыми губами.
– О, должно быть, это было очаровательно… очаровательно! – негромко произнесла она.
– А иногда ты сидел целый вечер на шаткой кровати в маленьком дешевом отеле. Давал негру доллар и ждал, пока ночной портье не уходил спать, потом негр приводил к тебе женщину или вел тебя в ее комнату. Женщины приезжали поездом и уезжали среди ночи другим, за ними постоянно охотилась полиция. Слышно было, как на сортировочных станциях всю ночь маневрировали паровозы, как по всему коридору открывались и закрывались двери, как мимо двери украдкой проходили люди, как скрипели кровати в дешевых номерах. И все в комнате пахло нечистотой, грязью, плесенью. Губы у тебя пересыхали, сердце стучало, как молот, и всякий раз, когда кто-то крался по коридору, у тебя холодело внутри, и ты затаивал дыхание. Глядел на дверную ручку, ждал, что дверь распахнется, и думал, что ты попался.
– Замечательная жизнь! Замечательная! – злобно воскликнула Эстер.
– Я хотел большего, – сказал Джордж. – Но был семнадцатилетним, вдали от дома, студентом колледжа. Брал то, что мог получить.
– Вдали от дома! – злобно воскликнула она. – Словно это оправдание! – И резко перешла на другое: – Да! И дом этот был великолепный, так ведь? Отпустили тебя, шестнадцатилетнего, и выбросили из головы! О, замечательная публика! Замечательная жизнь! А ты еще смеешь бранить меня и мой народ!
– Твой… твой народ! – медленно, монотонно повторил Джордж; а потом, когда смысл ее слов дошел до его сознания, в нем вскипела черная буря ненависти и гнева, и он свирепо напустился на нее.
– Твой народ! – выкрикнул он. – А что твой народ!
– Опять начинаешь! – предостерегающе воскликнула она с раскрасневшимся, взволнованным лицом. – Я сказала тебе…
– Да, ты мне сказала! Сама можешь, черт возьми, говорить все, что вздумается, но стоит открыть рот мне…
– Я не говорила ничего! Это ты!
Гнев Джорджа улегся так же внезапно, как вспыхнул, он устало, раздраженно пожал плечами.
– Ладно, ладно, ладно! – отрывисто произнес он. – Давай оставим эту тему!
И махнул рукой, лицо его было мрачным, угрюмым.
– Это не я! Не я начала этот разговор! Ты! – повторила она протестующим тоном.
– Ладно, ладно! – выкрикнул он, выходя из себя. – Говорю же тебе, хватит! Ради Бога, давай прекратим!
И почти сразу же негромким, мягким голосом, в котором слышалось неудержимое, яростное презрение, продолжал:
– Итак – я не дожен говорить ни слова о твоем драгоценном народе! Все эти люди до того великолепные и утонченные, что не мне о них судить! Я их не способен понять, так, дорогая моя? Слишком низок и подл, чтобы оценить по достоинству богатых евреев, живущих на Парк-авеню! О, да! А уж что до твоей семьи…
– Оставь в покое мою семью! – вскричала Эстер пронзительным, предостерегающим голосом. – Не смей говорить о них своим грязным языком!
– О, да! Разумеется. Я не должен говорить своим грязным языком. Мне, видимо, нельзя даже заикнуться.
– Предупреждаю! – плачуще воскликнула Эстер. – Я тебе всю морду разобью, если скажешь хоть слово о моей семье! Мы для тебя слишком хороши, вот в чем беда! Ты прежде никогда не встречался с порядочными людьми, в жизни не видел порядочных людей, пока не познакомился со мной, и думаешь, что все так гнусны, как это представляется твоему низкому разуму!
Эстер била сильная дрожь, она яростно кусала губы, слезы струились из ее глаз, и несколько секунд она стояла в молчании, конвульсивно сжимая и разжимая опущенные по бокам руки, чтобы овладеть собой. Потом продолжала, уже поспокойнее, поначалу едва слышно, голос ее дрожал от страстного негодования:
– Девка! Потаскуха! Еврейка! Вот какими гнусными словами ты обзывал меня, а я была порядочной и преданной всю жизнь! Господи! Какой у тебя чистый, благородный разум! Видимо, это еще не все приятные, изысканные выражения, которыми ты на учился в Старой Кэтоубе! Ты просто чудо! Должно быть, рос среди замечательных людей! Господи! Как у тебя хватает наглости говорить обо мне! Твоя семья…
– Помолчи о моей семье! – выкрикнул Джордж. – Ты ничего о ней не знаешь! Эти люди гораздо лучше тех мерзких, ненавидящих жизнь театральных крыс, с которыми якшаешься ты!
– О, да! Они, должно быть, просто восхитительны! – заговорила Эстер со злобным сарказмом. – Они так много для тебя сделали, правда? Отпустили тебя шестнадцатилетнего в большой мир и умыли руки! Господи! Очаровательная публика твои христиане! Ты говоришь о евреях! Попытайся найти еврея, который обходился бы так с детьми своей сестры! Родственники твоей матери выперли тебя, когда тебе было шестнадцать лет, и теперь им наплевать, что с тобой. Они хоть вспоминают о тебе? Часто полу чаешь письма от дяди и тети? Можешь не отвечать – я знаю! – злобно сказала она с явным намерением уязвить его. – Ты рассказывал мне о своей замечательной семейке в течение трех лет. Ты оскорблял и ненавидел весь мой народ – а теперь ответь, кто поддерживал тебя, кто был твоим другом? Будь честен. Думаешь, кто-то из них сможет оценить, понять то, что ты делаешь? Думаешь, кого-то из них волнует, жив ты или нет? – Она иронично засмеялась. – Не смеши меня! Не смеши!
Слова Эстер больно уязвили его гордость, и она ощутила злобную радость, видя, что задела его за живое. Лицо его побледнело от обиды и ярости, губы беззвучно шевелились, но Эстер не могла сдержаться, так как была глубоко задета.
– А что сделал для тебя твой распрекрасный отец, о котором ты столько говоришь? – продолжала она. – Кроме того, что махнул на тебя рукой?
– Это ложь! – глухо произнес он. – Это… гнусная… ложь! Не смей даже заикаться о нем! Он был замечательным человеком, и каждый, кто знал его, скажет то же самое!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.