Текст книги "Финита ля трагедия"
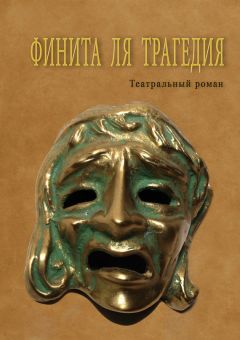
Автор книги: Вадим Зеликовский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Барышня Валя не являлась исключением. Она, как и все предыдущие его барышни, смотрела на Фелочку круглыми глазами наседки, с тревогой следящей за проказами своего цыпленка. По словам того же Зюни, казалось, что она вот-вот закудахчет.
По обилию цитат из него, вы уже, очевидно, догадались, что не последним человеком на той недоброй памяти вечеринке был Зюня Ротвейлер. Он был один, но так много ел, пил и разговаривал, что создавалось впечатление, будто он пришел с братом.
Присутствовали также, что само собой разумеется; Мышкин с Леночкой Медниковой. Они сидели во главе стола и каждый раз перед тем как выпить, хотя никто не кричал им «горько», – целовались.
Замыкала список приглашенных чета Черносвинских. Замыкали по алфавиту, но отнюдь не по значимости. Наоборот, в сегодняшнем всенощном бдении Люле была отведена главная роль. Она была медиум.
Акакий Акакиевич и Луиза Марковна официально приглашены не были, а посему все время находились в движении между кухней и гостиной, где был накрыт стол, и как бы вроде отсутствовали, но в то же время не упускали ни одного слова, произносимого за столом. Что более чем устраивало как их, так и всю остальную компанию.
Таков расклад был до начала восьмого: выпивали, закусывали, Зюня с Иваном Борисовичем соревновались в острословии. Зюня в основном налегал на анекдоты, Мышкин же на случаи из жизни. Между прочим, Зюня рассказал про унитаз, который не пахнет, потом про двух евреев, собравшихся строить баню и, наконец, про козу у жены под кроватью…
Тут Люля кокетливо взмолилась, чтобы он остановился, так как от смеха она не в состоянии закусывать и посему за себя не ручается. «Пьяная баба – себе не хозяйка!», – подмигивая, сказала она. Зюня влет выдал про пьяную девушку и грузина. Люля истерически захохотала и выпила еще пятьдесят граммов коньяку, не закусив.
Иван Борисович все время пытался довести до конца свой рассказ о семинаре, в котором он две недели тому назад принимал участие. Семинар проводился в Доме творчества в Дуболтах и в его рамках собрали актеров, воплощающих на сценах страны образ Великого Вождя пролетариата. Впечатления были еще свежи, и Мышкину не терпелось ими поделиться. Но неиссякаемый Зюня и тут все время перебивал его анекдотами по поводу. А в силу того, что в стране готовились вскорости отметить столетие со дня рождения основателя первого в мире соцгосударства, их в последнее время появилось особенно много. И безбожно картавя, и брызгая слюной, Зюня спешил выложить их собравшимся.
– К столетию, – взахлеб вещал он, – в Одессе открыли стрелковый тир имени Фанечки Каплан.
Смешливая Люля так и зашлась.
– А еще выпустили коньяк, – не унимался Зюня, – «Ленин в Разливе» называется…
– Зюня, имейте совесть, у меня уже глаза потекли… – взмолилась Люля и, кстати, о коньяке, махнула, не закусывая, очередную рюмку.
– А вот у нас на семинаре… – попытался встрять Иван Борисович, – …один из… откуда – не помню: то ли из Пензы, то ли из Липецка… неважно… Так вот, он рассказывал…
– А про подарочные часы с кукушкой слыхали? – не дал ему закончить Зюня. – Каждые полчаса открывается окошко, выкатывается броневичок с вождем на башне и он, размахивая кепкой, кричит: «Ку-ку, ку-ку!»
Не успели отсмеяться, как часы Башмачкина сыграли музычку и пробили семь раз. Под бой Люля приняла еще рюмку и снова не закусила.
– Лю, кончай! – попробовал остановить ее Игорь.
– А пошел ты! Уплочено! – весело послала его Люля и налила себе следующие пятьдесят.
Фелочка принципиально пил только водку из заветной рюмочки и поспевал выпивать даже чаще, чем Люля. Но при всем том и закусывал основательно. Барышня Валя не пила совсем, но из вежливости каждый раз поднимала полную рюмку и добросовестно чокалась со всеми.
Наталья Игнатьевна пила исключительно сухое вино, но зато чайными стаканами. После каждого она молодецки ухала и все сильнее наваливалась богатырской грудью на молодого Варфоломеева, бледного не то от выпитого вина, не то от предчувствия предстоящей ему ночи.
Административная тройка жрала и пила без передышки. На совесть. Папка Карло, выпив, смачно хрумкал один за другим малосольные огурчики. Девочка после рюмки в основном налегал на колбасу, маслины и салат оливье, а Лариса себе Наумовна не утруждала себя выбором – мела все подряд.
Акакий Акакиевич с Луизой Марковной в приступе тихого счастья забылись на кухне.
И вот в начале восьмого внезапно распахнулась дверь из комнаты Мышкина и Леночки и на пороге, моргая, как сова на свету, возникла Заратустра Сергеевна Кнуппер-Горькая. За нею виднелась всклоченная голова Трофима Тарзанова. Заратустра Сергеевна стояла молча, зато Тарзанов, оглядев всю компанию заспанными глазами, радостно заорал:
– Добрейший вам вечерок! А меня в театре опять забыли, сволочи! Я со вчерашнего еще того… – он выразительно щелкнул себя по горлу, – накеросинился… Заснул, значит, у Никиты в гардеробе, вдруг слышу – кто-то театр разносит. Я уж было думал землетрясение, а оказалось – Заратустра Сергеевна собственной персоной! – Тарзанов загоготал.
– Как же, как же! – хорошо поставленным голосом, который до сих пор отлично был слышен даже в последнем ряду партера, произнесла Кнуппер-Горькая. – Ведь спектакль, как же можно? Новогодний, можно сказать, спектакль! Я ничего не понимаю! Про отмену мне никто не удосужился сообщить…
Папка Карло встрепенулся и, как горный орел, зыркнул на Леночку. Под его кровожадным взглядом Леночка скукожилась.
– Я звонила, Антон Карлович, честное благородное слово, целый час звонила… И все время не туда попадала… А потом как-то все закрутилось… – Леночка кивнула на накрытый стол.
– А это у меня тэлефон сломан! – пояснила Заратустра Сергеевна. – Я его намедни обронила невзначай, и он меня с тех пор со всякими хамами соединяет. Я уже созвонилась с тэлефонной станцией, но там, представьте себе, тоже несусветные хамы служат. Я им русским языком объясняю, что мне бэз тэлефона невозможно, а они мне такое ответили, язык не поворачивается повторить… Куда только городские власти смотрят? Пришлось еще раз позвонить. – Заратустра заговорила вдруг сухим начальственным баритоном. – Это вам звонят из канцелярии товарища Гришина! Тут нам позвонила народная артистка СССР Кнуппер-Горькая… – она хохотнула и уже своим голосом закончила. – Завертелись там, как глисты на сковородке. Когда уезжала в театр, от них уже сразу четыре мастера набежало. Я их отослала, сказала, чтобы завтра приходили. Сказали, что к восьми все чэтверо будут непрэменно и аппарат новый поставят…
Пока она, не спеша, со вкусом произносила свою речь, Тарзанов бочком, бочком и подсел к столу, потеснив бедного Варфоломеева. На голос Кнуппер-Горькой из кухни прибежала Луиза Марковна.
– Зарочка, деточка, – обрадовалась она, – какими судьбами?
– Ничего себе деточка, – скривился в усмешке Зюня, – бабушка русского театра…
Заратустра Сергеевна, умело разыграв глухую тетерю, сделала вид, что Зюниной реплики не расслышала, а предпочла на сей раз отыграться на Луизе Марковне, которую с давних пор терпеть не могла.
– И ты тут! – неодобрительно покачала она головой. – А в театре двери отпереть некому. Опять, как в тридцать шестом, будут у тебя через хахаля неприятности…
Акакий Акакиевич аккурат на этой реплике мелькнул на пороге, но, услышав про хахаля, отполз назад в глубины кухни, откуда его, как улитку из раковины, так и не удалось выковырять до самого конца вечеринки. Неизвестно, на какие неприятности намекала Кнуппер-Горькая, однако Луиза Марковна налилась черной венозной кровью и, утратив все свое добродушие, зашипела:
– Ну уж, можно подумать, что ты-то – Орлеанская девственница! Знаем уж, знаем…
Зюня к случаю нашептал на ухо сидевшей с ним рядом барышне Вале давнюю театральную байку, суть которой была такова: за Луизой в тридцатые годы числился любовник, видный военный. Перед самой войной он погиб в испытательном полете. Не он первый, не он последний. И вот через несколько лет о нем сняли художественный фильм, где его образ с успехом воссоздал папенька Наташи Врубель. А Луиза Марковна еще долгие годы к месту и не к месту любила вставлять в свою речь фразы типа: «Когда мы с Валерьяном во второй раз ехали в Крым…», или «Валерик страстно, любил грузинскую кухню…»
И вот однажды, когда она в порыве откровенности в присутствии Кнуппер-Горькой произнесла: «Когда Валерьян меня целовал…», – та грубо оборвала ее на полуслове. «Ах, милочка, – елейным голосом сказала она, – оставьте, ради Бога, вы все перепутали, это был всего лишь навсего пьяный Игнаша Врубель!»
Барышня Валя, озабоченная своим все более набиравшимся свинтусом, соли рассказа так и не уловила, а только приличия ради в такт Зюниному шепоту кивала головой в химической завивке. Зато Люля, знавшая историю, рассказанную Зюней, еще с первого курса Щепкинского училища, захихикала и опять выпила, не закусив.
– А я приезжаю в театр, – между тем, ни на кого не обращая внимания, вещала дальше Заратустра Сергеевна, – и, как в дурном сне, спектакль объявлен, афиши висят, а театр закрыт, как гроб заколоченный… Мне, грешным делом, померещилось – уж не насовсем ли закрыли? Ну, думаю, допрыгались голубчики!..
Услыхав последние ее слова, директор Дункель мелко-мелко трижды перекрестил под столом свой пупок и столько же раз поплевал через левое плечо.
– Типун вам на язык, Заратустра Сергеевна! – суеверно забормотал он. – Разве можно такое даже предполагать. Не тридцать седьмой же, в самом деле…
– Ну да, вот и я точно так же решила… – согласно закивала Кнуппер-Горькая. – И даже ведь не сорок девятый и не пятьдесят первый, думаю, а все равно сердце внутри подпрыгивать начало, и селезенка заекала. Привычка… Уж было собралась домой ехать от греха подальше, а потом как представила себе, что там, кроме телевизора, ни одной живой души, решила – чем этот гроб с музыкой, уж лучше в «Матросскую тишину»…
И вновь перекрестился папка Карло. А Девочка с Ларисой себе Наумовной начали плевать через свои левые плечи.
Но и тут Заратустра Сергеевна не замолчала.
– Авось, думаю, не в одиночку сунут, а в общей-то камере народ разный и то веселее… – сыпала она словами, как горохом. – Но тут, слава Богу, Трофимушка мне двери отворил…
Тарзанов, наверстывая, успел хватануть уже несколько стаканов водки и сейчас со смаком закусывал квашеной капусткой.
– А чего там, – откликнулся он, – почему бы не пустить… Мне не жалко, опять же – вдвоем веселее… – и он налил себе следующий стакан.
– Так я уж с вами отужинаю, – заявила Кнуппер-Горькая, – а то ужинать в одиночку – это все равно, что, извините за выражение, срать вдвоем на одном унитазе…
Люля первая оценила Заратустрино остроумие. Захохотав, она чокнулась с Тарзановым и выпила. Вслед за нею засмеялись и остальные, а Зюня произнес тост за здоровье старой гвардии. Шокированная барышня Валя на сей раз к рюмке даже не прикоснулась. Следовательно, ни с кем не чокнулась, а про себя лишний раз утвердилась во мнении, что все актрисы, вне зависимости от возраста, – бляди.
Мышкин на правах хозяина занялся размещением Заратустры Сергеевны. Из своей комнаты он вдвоем с Игорем принес дубовое массивное кресло, обитое коричневой кожей. Леночка сбегала на кухню за чистым прибором. Кресло торжественно водрузили между Зюней и Игорем Черносвинским и, когда Заратустра поместилась в нем, те наперебой принялись за нею ухаживать. Луиза Марковна, в возникшей подобострастной суете забытая начисто, презрительно оттопырив нижнюю губу, громко хмыкнула и вернулась назад в кухню к затюканному Акакию Акакиевичу.
Но ее ухода никто не заметил.
Кнуппер-Горькая критическим взглядом окинула стол, затем потянулась к бокалу, который услужливый Игорь уже успел наполнить шампанским до краев, но так его и не взяла, а застыла, чего-то ища глазами.
Леночка забеспокоилась.
– Вам что-то нужно, Заратустра Сергеевна? – спросила она.
– Милочка моя, – растерянно произнесла Кнуппер-Горькая, – дело в том, может, конечно, у меня глаз замылился, но я абсолютно не вижу на столе салфеток…
Барышня Валя в ответ на такую, на ее взгляд, неслыханную претензию демонстративно взяла из пластмассового стаканчика, стоявшего посреди стола, квадратик туалетной бумаги, заменявший салфетки, и тщательно утерла им губы. Глядя на нее, у Заратустры Сергеевны сделался такой вид, как будто ее сию секунду хватит удар.
– Почтенная, – с мастерски сыгранным ужасом обратилась она к барышне Вале, – ну, знаете ли, за полвека нравы, конечно, изменились наихудшим образом, однако подтираться публично, прямо за столом, согласитесь, даже для пролетарки как-то неприлично…
Реплики Кнуппер-Горькой били влет и наповал. Их передавали из уст в уста и в течение суток они расходились по всей Москве. Хохмач Зюня как-то предложил их издать отдельной книгой под названием «Так говорит Заратустра».
Запыхавшись, вернулась Леночка. Обыскав всю квартиру, она во все том же скудном хозяйстве Башмачкина раздобыла, неведомо как сохранившуюся во всех его бедах и злосчастьях, крахмальную салфетку в серебряном кольце. Заратустра Сергеевна, благосклонно кивнув, с хрустом развернула ее и, аккуратно расположив на коленях, окончательно воцарилась за столом. Даже разудалый Зюня притих, утратив львиную долю своего нахальства. Остальные и вовсе увяли и мечтали только об одном – не попасть к Заратустре на язык.
А она наконец подняла бокал с шампанским; и все потянулись к ней чокаться. Наталья же Игнатьевна, на правах крестницы, и расцеловалась с Кнуппер-Горькой. Потом все с чувством выпили до дна, исключая, естественно, барышню Валю.
Зюня скис. Его грыз червь – прямо на глазах пропадал тост. Он его специально припасал для такого случая, теперь был бы самый момент встать и с многозначительной паузой перед финалом произнести: «Давайте выпьем за нас с вами и за х… с ними!» – но при Кнуппер-Горькой тост стал немыслим. В своем присутствии говорить скабрезности Заратустра позволяла только себе.
Впрочем, после бокала шампанского она пришла в хорошее расположение духа и благосклонно принимала знаки внимания.
Тут ей и был представлен юный Варфоломеев, который под ее пристальным взглядом побледнел еще больше и ни с того ни с сего сделал книксен.
– Что ж это ты, батюшка, приседаешь? – удивленно подняла брови Заратустра. – Может, болен по-женски?..
Зюня хрюкнул, всю его меланхолию как рукой сняло. Нутром он почуял, что Заратустра сегодня в ударе, и без скандала дело не обойдется. В его жизни вновь появился смысл. Наталья Игнатьевна на замечание крестной хохотнула басом и поощрительно похлопала юного Варфоломеева по заду. Тот попятился и вместо своего стула сел на руки к Тарзанову. Трофим от неожиданности икнул и, ничего не понимая, уставился на него. Варфоломеев на сей раз не смутился, вся его застенчивость ушла, как вода в песок. Он как-то очень быстро и удобно устроился на Тарзановских коленях, после чего кокетливо потрепал его изящной ручкой по спутанным волосам.
Трофим обалдел.
– Эй, – нерешительно начал он, – ты не у себя в садике…
Варфоломеев, не теряя надежды на взаимность, нежно погладил Трофима по небритой щеке.
– Наталья! – взревел Тарзанов. – Убери к чертям собачьим своего пидора!
– Нахал! – обиделся Варфоломеев и, грациозно поднявшись с негостеприимных колен Трофима, отошел к окну.
Папка Карло, забыв о малосольных огурчиках, масляными глазками очарованно следил за ним. Заметив его недвусмысленные взгляды, Зюня перегнулся через барышню Валю к Фелочке и зашептал ему на ухо:
– Смотри, смотри, сейчас Наташке папку Карло на дуэль вызывать придется!
Фелочка понимающе кивнул и громко засмеялся.
– Наталья! – крикнул он через стол. – Бдительность не теряй! Того и гляди, телку из стойла уведут…
Наталья Игнатьевна шваркнула пудовым кулаком по столу и, дотянувшись до Варфоломеева, могучим рывком усадила его рядом с собой. Тот сжался в комок и затих, как нашкодивший котенок.
– Ты что ж это, милочка моя, кулаками расстучалась? – строго спросила ее Заратустра Сергеевна. – Ты б ему лучше штанишки спустила, да выдрала бы как сидорову козу по срамному месту. Ему, голубчику, подставлять его, похоже, не привыкать. Не убудет… – посоветовала она, но так двусмысленно, что осталось неясным, кого она, собственно, советует драть: юного ли Варфоломеева или самого директора Дункеля.
Папка Карло сделал вид, что его все ведущиеся вокруг него разговоры не касаются и как ни в чем не бывало вернулся к своим огурчикам. Но хорошо знавшие мстительный характер директора про себя подумали, что Фелочке его фривольное замечаньице так просто с рук не сойдет. А подстрекатель Зюня, истинный виновник, удовлетворенно чокнулся с Тарзановым и отпил из бокала маленький глоток. Тарзанов выпил до дна. Вместе с ними выпила и Люля, в который раз забыв закусить.
Иван Борисович, чтобы разрядить обстановку, предложил Игорю спеть. Тот не заставил себя долго упрашивать. Он сходил в прихожую за гитарой, а Леночка быстренько зажгла на столе две свечи и погасила верхний свет. Все приготовились слушать.
Игорь подстроил гитару, набрал полную грудь воздуха и, рванув изо всех сил струны, бросился в песню, как пловец в бушующее море. Хриплым голосом он выговаривал слова, рычал их, отхаркивал, палил ими, как из пулемета. Его песни колготились давкой в метро, дышали перегаром, матерились пьяной очередью за «бормотухой», сочились фекальным ядом коммунальных квартир, где утробный рокот забившегося унитаза аккомпанирует разгорающейся склоке. Они резали слух, не лезли ни в какие ворота и были знакомы всем до боли, близки до отчаяния.
Каждый чувствовал, что именно о нем поет Игорь, срывая связки и обрывая струны. Это они скандалят, толкаются локтями, матерятся, лезут без очереди, пьют водку до беспамятства, тащат едва знакомых, также безнадежно пьяных в койку, надрывно блюют в сортире, дерутся с похмелья, размазывая по разбитым лицам кровавые сопли, «стреляют» рубли до получки, хрипло задыхаясь, пляшут до одури и клянут, клянут тот день и час, когда их угораздило родиться в этой забытой Богом и забывшей Бога святой несусветной России…
Они подпевали ему сначала робко, вполголоса, а потом, расслабившись и войдя в раж, орали во всю сил легких о наболевшем. И после каждой новой песни как отрывалось что-то внутри и отпускало, отпускало… Никто не аплодировал, потому что это было равносильно овации хирургу, лихо вскрывшему раковую опухоль.
Игорь пел, и его жесткие короткие пальцы уже, казалось, со струн соскользнули к натянутым нервам, рвали их, рвали сосуды, артерии и вены, и добрались до души, и стали рвать самое сокровенное.
Выворачивая наизнанку, на люди, напоказ всю смрадную помойку, где под полувековыми наносами завистливой злобы и братоубийственной ненависти упокоились останки Веры, Надежды и Любви. В его песнях была Великая Российская Правда, в которой ложь стала сутью.
И шмыгал носом нахал Зюня, и Фелочка Ченч не глядя зарылся, пьяно рыдая, в толстую добрую грудь барышни Вали, которая тоже, уже никого не стесняясь, оплакивала свою разнесчастную жизнь. Наталья Игнатьевна, обхватив всхлипывающего, захмелевшего Варфоломеева, выдвигала подбородок, мужественно играя желваками, – крепилась. Проходимец Дункель, утирая глаза платочком, все прикидывал про себя, как бы начать устраивать Игорю сольные концерты. Ведь вся его душевыматывающая антисоветчина – золотое дно, сумасшедшие же «бабки» срубить можно.
Девочка, похоже, думал о том же самом. И даже Лариса себе Наумовна бросила жрать и пригорюнилась.
Тарзанов подпевал громче всех, хотя большую половину слов уже не в состоянии был произнести. После каждой песни он лез к Игорю целоваться и все время порывался разорвать у себя на груди рубаху. Впрочем, безрезультатно.
Заратустра в начале концерта с удивлением смотрела на Черносвинского, как будто увидела его впервые, но потом не удержалась и тоже запела. И голос ее, прекрасно поставленный еще до октябрьского переворота лучшими мастерами московской сцены, зазвучал вдруг надрывно и простужено, как звучал он когда-то в сорок девятом в Лефортово, а позже на этапах в различных эшелонах и вплоть до пятьдесят четвертого на лагерных нарах в Туруханском крае.
И когда ее голос окреп, перекрыв даже протокольный рев Тарзанова, Игорь внезапно оборвал свою «совковую» лирику и запел с нею на два голоса о штрафных батальонах, ледяных бараках, о лагерной кошмарной канители с начальничками, вертухаями и блатными.
И как будто хрустальной прозрачности струя омыла всех и вернула что-то, и подарила просвет. Ведь вот, кто же мог подумать, – выжили, не все конечно, но все же хоть кто-то выжил, а ведь в каком аду были, не дай Господи; авось и сейчас пронесет, авось минует чаша сия, авось, авось, авось… Древнее русское слово, испокон веков подменившее собою надежду.
Иван Борисович только и молил Бога, чтобы соседи не разобрали слов, пусть уж жалуются участковому на шум, сунешь тому контрамарку в театр, и он отстанет. А вот ежели слова расслышат, тут уж настучат от всей души – нет такой контрамарки, которой откупиться можно было бы. Он проклинал тот миг, когда попросил Игоря спеть. Его выедал изнутри страх, как червь яблоко. Лагерный дуэт и вовсе низверг его в бездну отчаяния. Без кровинки в лице, с остановившимся взглядом сидел он во главе стола, и запуганное его воображение услужливо шептало, ему, указывая на Заратустру, – вот она, пифия, предсказывающая твое ближайшее будущее.
Леночка, влюбившаяся в Ивана Борисовича именно за его отчаянную смелость, так за все время жизни с ним не разобравшаяся в истинной сути живущего рядом с ней человека, сидела, крепко прижавшись к нему, и была бесконечно счастлива. О, как Иван Борисович ненавидел ее в эту минуту!
Башмачкин с Луизой Марковной тише тараканов затаились на кухне. Одним словом, наваждение накрыло квартиру.
Первой очнулась от него Лариса себе Наумовна. Не обнаружив рядом с собой Девочки, она моментально встала со своего места и, крадучись на цыпочках, провела подробнейший шмон всей квартиры. И шмон тут же дал положительный результат: в комнате Башмачкина вспыхнул свет, сыграла музыка в часах, и все одиннадцать последующих ударов сопроводили звуки ровно такого же количества оплеух.
Все поспешили туда, предвкушая. И надо заметить, не напрасно торопились – там было на что посмотреть. Девочка в опытных руках Ларисы себе Наумовны летал по комнате, как бабочка. Присутствующая тут же Люля Черносвинская в юбке, задранной до пупка, с интересом следила за его полетом.
– Козел! – верещала Лариса после каждого удара. – Вонючий козел!
– И холощеный! – уточнила Люля. – А туда же, лезет…
– А ты, сучка, закройся! – посоветовала ей сквозь зубы Лариса себе Наумовна, впрочем, не отвлекаясь от основного занятия.
– Я сучка?! – как спичка, вспыхнула Люля. – Это я, по-твоему, сучка?! Я сучка?! Да, я сучка! – внезапно спокойно согласилась она. – Но какая! На меня даже твой сивый мерин влезть пытался. А ты, падаль, во сне приснишься – топором не отмахаешься!
Лариса себе Наумовна оставила наконец Девочку в покое и всем железобетонным корпусом повернулась к Люле. Но той сейчас и Тихий океан был по щиколотку. Лариса зашипела, как закипающий чайник, и уперла руки в бока.
– Ну ты меня, мать, испугала, – нагло смеясь, заявила Люля, – как ежа голым задом.
Лариса так и не успела ответить. Игорь при содействии Зюни и Ивана Борисовича растащили их по разным углам квартиры. Лариса, тяжело отдуваясь, возвратилась к столу. От пережитого стресса у нее вновь разыгрался аппетит; и она с жадностью набросилась на еду. Через некоторое время, пылая набитым лицом, к ней нерешительно присоединился Девочка и составил компанию. Сначала она, не переставая сосредоточенно жевать, порыкивала на него, но, утолив голод, смилостивилась и даже соблаговолила принять от Девочки шпрот, который тот галантно поднес на вилке к самому ее носу. Щелкнули челюсти, и шпрот исчез безвозвратно, а Лариса улыбнулась Девочке масляным ртом. На этом у них все и утряслось.
Игорь сразу же после скандала увел жену в ванную, откуда она вышла ровно через пятнадцать минут свеженакрашенная и абсолютно трезвая. Увидев ее, Зюня предложил приступить наконец к обещанному спиритическому сеансу.
– В мое врэмя, – сказала Заратустра томно, – спирэтизмом увлекались исключительно аристократы и интэллигенция. Тепэрь он стал, как я вижу, доступен широким трудящимся массам. Похоже, все-таки не зря большевики сделали рэволюцию.
Леночка с Луизой Марковной, в нужный момент возникшей из кухни, быстренько убрали со стола. Люля потребовала фарфоровое блюдце, и оно также нашлось. Люля, взяв его двумя пальцами, засунула за вырез платья и громко взвизгнула.
– Холодное! Его на живом теле погреть надо… – пояснила она. – Для лучшего контакта.
– На такие сиськи, – шепнул Зюня Фелочке, – я бы, даже если был духом преклонных годов, и то без уныния и лени клюнул.
Фелочка кивнул.
– Полная пазуха… – тоном эксперта подтвердил он. – Голливудский размерчик, сладкая баба… – он окинул неодобрительным взглядом внушительную, но корявую фигуру барышни Вали и, вздохнув, добавил: – Лучше все-таки есть торт в хорошей компании, чем дерьмо в одиночку…
Игорь к тому времени уже успел начертить на листе картона круг и по его периметру стал писать буквы в алфавитном порядке, потом по диаметру провел прямую, вдоль которой расположил цифры от 0 до 9. После чего вновь погасили свет и на этот раз зажгли лишь одну свечу, поместив ее на краю стола. Люля вынула нагревшееся на груди блюдце и дном кверху установила его в центре круга Игорь чернильным карандашом, послюнив его, изобрази, на фарфоровом боку стрелку острием вниз. Люля подсела к столу и положила пальцы обеих рук на блюдечко. Игорь, Иван Борисович, Леночка, а за ними Зюня и Фелочка с барышней Валей последовали ее примеру.
Команда папки Карло и Заратустра, скептически улыбаясь, наблюдали за ними со стороны. Тарзанов в счет не шел, так как уснул на стуле и сладко похрапывал. Наталья Игнатьевна уже в темноте увела своего Варфоломеева куда-то в недра квартиры и там затихла. Присутствие Башмачкина можно было определить разве что по испуганным шорохам, изредка доносившимся из кухни. В ожидании потусторонних откровений все присмирели и затихли.
– Кого будем вызывать? – нарушив наконец тишину, деловито спросила Люля.
Тут мнения резко разделились. Полярность их простиралась от Александра Сергеевича до Иосифа Виссарионовича. Промежуточным центром можно было бы счесть Константина Сергеевича, которого робко предложила Луиза Марковна.
– Ну да, соскучилась, – тут же отреагировала на ее предложение Заратустра, – ты, милая моя, небось, с ним о его «систэме» побеседовать желаешь? – и, обращаясь к присутствующим, разъяснила: – Она когда-то сдуру ее наизусть вызубрила, три года убила, только помогла она ей, как мертвому припарки. Ну, а наша-то Людовик-Валуа решила самому Константину Сергеевичу жалобу подать, мол, затирают талантливую молодую актрису, играющую целиком по его «систэме», да пока собиралась, он возьми и помри в одночасье. Горе-то какое. Вот и осталась наша Лизка с вызубренной «систэмой», как дурень с писаной торбой. Добро бы сразу в вахтерши пошла… Но нет, до пенсии дотянула, пригодилась все-таки «систэма». Чуть ее увольнять собирались – она оттуда с выражением целыми главами. И так она своей мэлодэкламацией запугала разные комиссии, что ее оставили в покое…
И вновь Луизу Марковну, как волной, смыло на кухню.
– Во мне погибла великая актриса! – донесся оттуда ее гневный шепот.
Но Заратустра услышала.
– И теперь разлагается! – добавила она громко.
Тут вдруг проснулся Тарзанов и вкусно зевнул.
– Давайте выпьем! – потребовал он.
На него не обратили внимания, и Трофим налил себе и выпил в одиночку.
Вопрос же с выбором духа по-прежнему оставался открытым. Иван Борисович предложил было Понтия Пилата, роль которого он играл в новом спектакле, но тут же возник естественный вопрос: на каком языке прикажете с ним беседовать? С латынью была знакома лишь Заратустра, и то в размере дореволюционной гимназии. Оставались соотечественники. И тут мнения опять раз делились. Кто требовал Лаврентия Павловича, кто Михаила Афанасьевича.
Новое направление дискуссии дала Люля, которая объявила, что «полночь близится, а Германа все нет…», то-есть время духов может истечь. Тут все заторопились и впопыхах выбор пал совершенно неожиданно на Аскольда Хмельковского, актера ихнего же театра, скончавшегося около года назад при загадочных обстоятельствах. Все отозвались о нем как о человеке умном и талантливом, а также вообще наделенном многими добродетелями, какового мнения о себе не дождаться бы Аскольду, будь он жив, ни при каких условиях. А уж тем более за глаза.
Хорошо быть духом, граждане…
Захмелевший Зюня и вовсе растрогался.
– Интересно, как он там… – сырым голосом произнес он, затем уронил голову на грудь и загрустил окончательно.
Люля поспешила взять быка за рога.
– Дух Аскольда Хмельковского! – особенным, таинственным шепотом позвала она. – Дух Аскольда Хмельковского, приди к нам!
И ровным счетом ничего не произошло.
– Дух Аскольда Хмельковского! – несколько повысила голос Люля. – Тебе, может, что-нибудь или кто-нибудь мешает? – продолжала она надоедать покойному. – Если да, то пусть блюдечко выйдет из круга и опять вернется в него…
На этот раз блюдечко послушалось и, дрогнув, медленно выползло из круга. Барышня Валя сдавленно взвизгнула. Блюдце вернулось в круг.
– Аскольд Хмельковский! – обрадовавшись удаче, продолжила Люля свой допрос. – Кто или что мешает вам?
И вновь в ответ дрогнуло блюдце и, выйдя из круга, подошло и уперлось стрелкой в букву «Я». И далее, идя последовательно от буквы к букве, выписало следующую фразу: «Я не могу прийти!»
– Почему? – не унималась Люля.
– Я гнию! – опять же посредством блюдца ответил Аскольд, и действительно, гнилым могильным холодом потянуло из разных углов комнаты. И дунул сквозной ветер, и задул свечу на столе. Никто не издал ни звука, но когда наконец Фелочка дрожащей рукой щелкнул зажигалкой, и свеча загорелась вновь, все увидели, что у барышни Вали короткие, пережженные перекисью волосы на голове встали дыбом, как колючки у ежа.
А между тем блюдце не угомонилось. Дождавшись света, оно возобновило свое метание от буквы к букве и сотворило следующий гнусный пасквиль: «Вы все – банда бездарей! А Зюня – гнида!» – после чего вернулось в круг и застыло, сволочь.
Мертвая тишина обрушилась в комнату. Актеры, пораженные Аскольдовой коварной неблагодарностью, хранили гробовое молчание. Оно было мрачнее и торжественнее даже, чем в свое время над Аскольдовой могилой. Можно сказать, что в тот момент для присутствующих Хмельковский умер во второй раз.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































