Текст книги "Финита ля трагедия"
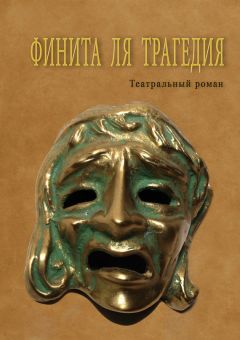
Автор книги: Вадим Зеликовский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
– Ну, знаете ли… – не выдержал наконец более всех уязвленный Зюня. – Знал я всегда, что Хмель – подлый стукач, и, должен заметить, что могила его не исправила…
– Это Люля блюдце пальцами двигала, – вдруг заявил папка Карло, – я сам видел…
– Понятно! – воспрял духом Зюня. – Теперь мне все понятно…
– Ничего я не двигала! – обиделась Люля. – А то, что Зюня гнида, я не виновата!
– Гнида-то он, допустим, гнида, – легко согласился папка Карло, – а только блюдце ты двигала!
– Не двигала! – продолжала отрицать Люля. – А если не верите, то можно проверить: пусть кто-то из вас мысленно задаст вопрос.
– То есть, как? – внезапно заинтересовался Ченч не глядя.
– А так, – пояснила Люля, – вызовем чьего-нибудь духа и ты про себя, мысленно, чтоб никто не знал, что ты там спрашиваешь, можешь задать ему любой вопрос. Ясно?
– Ясно! – обрадовался Фелочка. – Давай вызывай духа, чур, я буду спрашивать!
– А почему именно ты? – нервно заерзав на стуле, спросил Девочка. По нему было видно, что он сам хотел бы до ужаса задать мысленный вопрос. Чего-то ему припекло узнать втайне от Ларисы себе Наумовны.
У той сию же секунду подбородок выдвинулся резко вперед, и на лице появилось такое выражение, что понять его можно было однозначно: «Ну, задай, задай, козел тухлодырый, свой вопрос… Я тебе дома задам!»
Девочка моментально сник и сделал вид, что полностью увлечен салатом оливье. Все с сочувствием поглядели на него. Под взглядами коллег он еще больше скукожился и стал похож на кладбище несбывшихся надежд.
– Кого теперь будем вызывать? – спросила Люля.
Заинтригованный не в меру Иван Борисович махнул рукой и с нетерпеливым раздражением сказал: «Да какая, собственно говоря, разница! Вызывай любого!»
– Давайте все-таки Александра Сергеевича! – поспешил предложить Зюня.
На сей раз кандидатура великого поэта ни у кого не вызвала возражений.
– Дух Александра Сергеевича! – вновь зашаманила Люля. – Дух Александра Сергеевича Пушкина, приди к нам!..
Блюдце, как ошпаренное, выскочило из круга и заметалось по картону.
– Явился, не запылился… Всегда был скор… – неодобрительно покачала головой Заратустра.
– Во, живчик, арап! – захихикал Зюня. – Как скачет, как скачет…
– Так Пушкин же, чего вы хотите… – уважительно сказала Леночка. – Я где-то читала, что в Лицее его прозвали Тигр с Обезьяной…
– Стоп! – взвыл Фелочка. – Тихо вы все! Это мне Пушкина вызвали, дайте ему вопрос спокойно задать!
– Александр Сергеевич, – глядя куда-то поверх голов, подобострастно заканючила Люля, – ответьте, пожалуйста, на мысленный вопрос Чен… Феликса Иванова…
Блюдце приостановилось, как бы прислушиваясь.
– Давай, Ченчик, задавай! – поторопила Фелочку Люля.
– Можно? – с опаской поглядывая на блюдце, трепетно-подрагивающее под длинными Люлиными пальцами, переспросил Фелочка.
– Давай, спрашивай! – нетерпеливо толкнул его в бок Зюня. – У других тоже к товарищу духу вопросы накопились!..
Фелочка, сосредотачиваясь, закрыл глаза.
Через несколько секунд блюдце вновь пришло в движение и все, следуя за ним, прочли некую бессмыслицу: «В пятницу, три звонка, при условии отсутствия…» Зюня уже вознамерился съязвить по поводу Люлиных шарлатанских штучек, но тут, как за нитку дернутая, взвилась барышня Валя. Очевидно, слова, начертанные блюдцем под диктовку Александра Сергеевича, ей абракадаброй не показались, и она без длительной подготовки влепила Феликсу справа и слева по его довольной роже.
– Ай да Пушкин… – только и сумел восторженно сказать Зюня, – ай да сукин сын!..
По части оплеух барышня Валя, надо отдать ей должное, ничуть не уступала Ларисе себе Наумовне. Тяжелая женская доля наложила на барышню свой неизгладимый отпечаток, и в результате рука у нее стала не легче. По лицу Ларисы себе Наумовны сразу стало видно, что она ее сильно зауважала.
– В нашей стране испокон веков били не только за дела, но чаще – за помыслы! – вздохнув, изрекла Заратустра.
Зюня зааплодировал; как он и предполагал, вечерок получался насыщенный.
Между тем часы стали бить снова, и их торжественный бой несколько остудил разбушевавшиеся страсти: все вдруг вспомнили про старый Новый год, откупорили припасенное шампанское и стали желать друг другу счастья, пить и целоваться. О сеансе на какое-то время забыли, а напомнил о нем, как ни странно, Тарзанов, который в одну душу желал поговорить с Призраком Коммунизма. Причем, несмотря на количество спиртного, выпитого им за вечер, был он в своих притязаниях на удивление последователен и логичен.
А посему все единогласно решили пойти Трофиму навстречу.
Вновь разместились вокруг стола, и Люля принялась вызывать Призрак Коммунизма. Блюдце не шевельнулось.
– А может, его и нет вовсе? – высказал кощунственную мысль Зюня.
– Кого? – тут же нехорошо оживился папка Карло.
– Ну, этого… Признака Коммунизма… – сразу увянув, промямлил Зюня.
– И быть не может! – тоном, не терпящим возражений, отчеканила Кнуппер-Горькая.
– Как не может, – возмутился Тарзанов, – когда я его сам играл, – и с большим успехом у публики. Не филонь, вызывай еще раз! – потребовал он от Люли.
– Призрак Коммунизма! – послушно начала та. – Пожалуйста, приди к нам…
Вот тут и началось.
Зашуршало сразу во всех углах, на кухне зазвенела невымытая посуда, часы у Башмачкина в комнате болезненно звякнули и уже без музыки вновь начали бить, и пробили ровно тринадцать раз, блюдечко на столе само по себе подпрыгнуло неестественно высоко и раскололось пополам. Откуда-то прибежал полуголый и несчастный Варфоломеев и, испуганно дрожа, забился в угол. Охваченная страхом компания с ужасом уставилась на дверь.
На пороге затылком к ним стоял человек. И всем почему-то сразу стало ясно, что это и есть вернувшийся Племянник.
Глава 7. В рамках культурного обмена
Прошло еще три дня. Участники злополучного сеанса, что удивительная редкость для театра, ни словом не обмолвились о произошедшем. Даже Луиза Марковна, чего на памяти знавших ее долгие годы не случалось никогда, молчала. Чего ей стоило ее молчание, можно только догадываться. Она, бедненькая, даже осунулась и все чаще бегала на кухню к Башмачкину – отводить душу.
В театре же на первый взгляд все утряслось и шло ровно и гладко. Со съемок вернулась Лизочка Веткина, Харонский сразу сделался тихо счастлив, и тут же все у них уладилось с Питиримом Шпартюком: о чем-то они договорились, в чем-то взаимно уступили друг другу и, по слухам, даже выпили крепко на двоих – короче, сдвинулось дело.
В результате утром четвертого дня, считая от сеанса, большую часть декораций вытащили на сцену и начали их устанавливать. Осветилась рампа, в боковых ложах зажглись все фонари, прожекторы нервно заметались, вылизывая сцену разноцветными языками. Люди Севы Милькиса пробовали новые декорации «на зуб».
До начала репетиции оставались какие-то минуты, когда в зал вошли и почти бесшумно, тенями, прошли через него трое. Если бы не был зажжен свет, их тихий проход, пожалуй, так бы и остался незамеченным. Однако Заратустра, у которой за годы пребывания в местах, где наш советский режим усилен и доведен до абсолюта, нюх на людей определенного сорта обострился до чрезвычайности, углядела их почти что сразу.
Вторым их засек Зюня и тоже определил безошибочно. А, определив, сразу же забеспокоился, так как после разговора на сеансе о Призраке Коммунизма вообще четвертый день чувствовал себя не в своей тарелке.
А троица между тем, ступая след в след, выскользнула в коридор и, никого ни о чем не спрашивая, что в заковыристом лабиринте помещений «Театра на Стремянке» практически немыслимо, прямиком прошла к директорскому кабинету. Дубовые двери тут же распахнулись, и кабинет поглотил их, как кит Иону. Внутри сразу же забубнили на четыре голоса. Но, как видно, пришедшие обладали какими-то чрезвычайными полномочиями, ибо четвертый голос, а именно директора Дункеля, почти сиюминутно увял и ушел, как ручей в песок. Далее говорили только пришедшие: тихо, но твердо.
Происходящее в дубовом чреве директорского кабинета заинтриговало всех до дрожи, но внешне никак не нарушило установленный порядок. Ровно в одиннадцать в зал вошел Пржевальский; и разгул огней был немедленно прекращен. Оставлена была лишь малая часть их для репетиции. Исчезли со сцены и подручные Питирима, предоставив ее полностью актерам.
Лизочка Веткина, сидя на краю огромного незастеленного спального ложа, зябко куталась в черный шелковый плащ. Предполагалось, что на спектакле на ней, кроме этого плаща, не будет ничего больше и, хотя сейчас под ним она была вполне одета, Лизочка зябла авансом. Тут же беспокойно вертелся Фелочка, впрочем, относительно трезвый. Игорь Черносвинский, сидя посреди сцены за обширным зеленого сукна письменным столом, нервно зевал.
Люля же, на которой по пьесе в этой сцене и вовсе ничего не должно было быть одето, на сегодняшнюю репетицию явилась в купальнике, при одном взгляде на который невольно возникала мысль, что уж лучше бы она гуляла по сцене голой.
– Привыкаешь? – с самой гнусной из своих интонаций спросил ее из-за кулис Зюня.
– Вас, кобелей, приучаю, – не прерывая своей проходки среди декораций, насмешливо отозвалась Люля, – чтоб на спектакле, не дай Бог, кондратий не хватил.
Задетый ее обнаженным бедром, Ченч не глядя со свистом втянул в себя воздух и звучно чмокнул. Партнер Лизочки, Сергей Куршумов, приглашенный недавно Москву из какого-то, как выражался Зюня, «мухасранского» театра, играл, в новом спектакле свою первую роль в столице, и был пока человек чужой, пришлый, ни в каких местных интригах еще не замешанный, посему держался на репетициях индифферентно. Он и сейчас, вместо того чтобы пялить глаза на Люлю, смотрел как бы сквозь нее. От его демонстративного невнимания Люля уже начала медленно закипать.
– Начнем! – скомандовал со своего места Арсентий. – Попробуем с исхода Лизочки и Мастера… – он так до сих пор не удосужился запомнить фамилии Куршумова, а посему называл его исключительно по роли, которую тот играл. – Все на местах? Заратустра Сергеевна?!
Из-за кулисы высунулось встревоженное лицо Леночки Медниковой. Она прошептала нечто невнятное, не смея поднять глаз на Пржевальского.
– Что? – раздраженно переспросил Арсентий. – У вас с голосом не все в порядке? Пива холодного попили?
Его иронический окрик подействовал, как удар по затылку; голос у Леночки ту же прорезался, и слова посыпались из нее, как ледяные градины.
– Вы меня извините, Арсентий Саматович, но Заратустра Сергеевна просила передать вам, чтобы ее не беспокоили до самого ее выхода…
Брови у Арсентия взлетели и встопорщились, как крылья у разъяренного орла.
– Что? – взревел он. – Как вы сказали?
– Это не я сказала, – стала оправдываться Леночка, – это Заратустра Сергеевна так сказала и потребовала, – она сделала особый упор на слове «потребовала», – чтобы я передала ее просьбу вам дословно… – Медникова замялась.
– Ну что еще просила передать уважаемая товарищ Кнуппер-Горькая? – ирония сочилась из Пржевальского, как яд из зубов кобры.
– Она сказала, что если вы рассвирепеете, в чем она ни минуты не сомневается, – затараторила Леночка, – то она может совсем не репетировать, а приедет прямо на премьеру…
Арсентий прямо на глазах стал похож на чашу терпения, в которую только что упала последняя капля.
Война между ним и Заратустрой была давняя и уходила корнями Бог весть в какие годы. Подумать теперь страшно – какие это были годы, врагу не пожелаешь… Что послужило причиной их войны – сегодня никто не ведал. Заратустра, а уж тем более Пржевальский, о ней не распространялись. Луиза Марковна как-то попыталась припомнить истоки, но из этой затеи у нее ничего не вышло.
То есть рассказала она, как всегда, более чем достаточно, однако все абсолютно невнятно: то ли чего-то там Арсентий по молодости подписал или же, наоборот, не подписал. Короче, в результате приключилась какая-то гадость… Но ни того, с кем она случилась, ни того, что это была за гадость, за давностью, установить так и не удалось.
И для всех в театре причина их размолвки навсегда осталась тайной.
Сегодняшняя стадия войны, во всяком случае, для Арсентия, была сродни хроническому катару верхних дыхательных путей, когда в горле свербит и душит до головокружения, а ты бессилен что-либо изменить.
Но более всего Пржевальского бесило то, что Заратустра начисто отказывалась признавать за ним право давать ей какие-нибудь режиссерские советы. Играла она, как сама считала нужным, что, следует немедленно признать, выходило настолько уместно даже в его диких постановках с лошадьми и веревочными лестницами, что ему поневоле приходилось оставлять ее в покое. Но, чего греха таить, в душе Арсентий искренне считал поведение Кнуппер-Горькой безнравственным.
Это до чего же, господа хорошие, докатиться на театре можно, ежели каждый актер пожелает обходиться без режиссера?
Такого положения вещей Арсентий, понятно, допустить не мог, а посему, чтобы сохранить хотя бы видимость своей руководящей роли, на каждом шагу надоедал Кнуппер-Горькой своими указаниями. Она выслушивала их молча, но непосредственно сразу вслед за тем с ней делался сердечный приступ; и ее увозили домой на директорской «Волге».
Однако не было случая, чтобы она не играла премьеру. Игнорируя советы главрежа, естественно.
Учитывая все вышеизложенное, Пржевальский повел себя героически: нечеловеческим усилием воли он взял себя в руки и, обращаясь к Леночке как можно спокойнее, сказал: «Будьте так любезны, передайте уважаемой Заратустре Сергеевне, что, вопреки ее ожиданиям, я не рассвирепел и, ежели она осчастливит нас своим присутствием, то я получу, наконец, возможность продолжить репетицию… И я также требую, – он, как и Леночка, сделал особый нажим на слове «требую», – чтобы мою просьбу передали дословно!»
Дослушав его речь до конца, Леночка сей же миг исчезла. Все погрузились в тягостное ожидание, завязнув в нем, как в болоте. Возникло ощущение, что Фауст наконец остановил мгновение, но оно оказалось премерзким. На самом деле Заратустра ждать себя не заставила, а буквально через несколько минут царственной походкой взошла на сцену и застыла, как Ермолова на известном портрете.
– Начнем! – сделав вид, что ровным счетом ничего не произошло, бодрым голосом скомандовал Пржевальский.
По его команде на сцене сверху по лестнице двинулась процессия. Впереди шли Лизочка с Куршумовым, за ними Люля и Фелочка, неся вдвоем небольшой фибровый чемодан, замыкал шествие откуда-то вынырнувший Лешка Медников в неимоверном ржаво-рыжем парике. Игорь остался на верхней площадке лестницы и оттуда старательно махал вслед уходящим большим клетчатым платком.
Спустившись вниз на сцену, Лизочка обронила нечто, завязанное узелком в белую крахмальную салфеточку, после чего ушла за кулисы. Остальные последовали за нею.
Как только процессия скрылась за сценой, медленно отворилась обшарпанная дверь под лестницей. В том существе, которое появилось оттуда, немыслимо было узнать царственно-величественную Кнуппер-Горькую. И, тем не менее, это была она. Куда девался ее высокий рост и внушительная фигура, гордая осанка и аристократические манеры… Перед сидящими в зале оказалась гнусная, суетливая старушенция; маленькая, сухонькая, как и требовалось по роли, с немыслимыми дефектами речи и жуткой, невнятной скороговоркой.
Одним словом, Аннушка. Та самая, что на горе Михаила Александровича Берлиоза пролила подсолнечное масло на Патриарших. Она воровато огляделась по сторонам и, быстро нагнувшись, сгребла маленькой когтистой, как птичья лапка, рукой оброненную Лизочкой салфеточку. Развязав зубами узелок, Аннушка-Заратустра достала оттуда брошь в виде подковки и камешками пустила «зайчиков» в зал.
«Знать ничего не знаю! – прижав брошь к груди, затараторила она. – Ведать ничего не ведаю!.. К племяннику? Или распилить ее на куски… Камушки-то можно выковырять… И по одному камушку: один на Петровку, другой на Смоленский… И – знать ничего не знаю, и ведать ничего не ведаю!»
Внезапно перед нею, как чертик из табакерки, возник Лешка Медников и, тесня ее грудью, потребовал: «Давай подковку и салфеточку!»
«Какую такую салфеточку-подковку?» – сразу впадая в протокольно-скандальный тон, взвизгнула Заратустра. – Никакой я салфеточки не знаю, – при чем она нахально затолкала салфеточку с брошкой в отвислый карман грязной вязаной кофты. – Что вы, гражданин, пьяный, что ли?»
В ответ Медников повел себя не менее протокольно, ни слова не говоря, он ловко ухватил Заратустру пальцами за горло. Подержав ее так некоторое время, Лешка убрал руку, и Заратустра-Аннушка, хватая воздух широко открытым ртом, согнулась в угодливом поклоне и подсыпала гороху лживых слов.
«Ах, подковочку, сию минуту! Так это ваша подковочка? А я смотрю, лежит в салфеточке… – она вынула и то, и другое из кармана. – Я нарочно прибрала, чтобы никто не поднял, а то потом поминай как звали…»
Заратустра выпалила все именно так, что ни у кого не осталось ни малейшего сомнения, что говорит она именно ложь, врет от первого до последнего слова, от восклицательного знака до многоточия.
Но Лешка сделал вид, что ее гнусному вранью свято поверил, и принялся расшаркиваться, прижимая руку к сердцу. И у него все вышло весьма правдоподобно.
«Я вам глубочайше признателен, мадам! – с неведомо откуда взявшимся нелепейшим акцентом гнусил он, продолжая шаркать ногами. – Мне эта подковочка дорога как память. И позвольте вам за то, что ее сохранили, вручить двести рублей…» – и он действительно всучил потерявшейся Заратустре пачку каких-то купюр.
Заратустра в ответ стала неловко приседать и в результате сотворила книксен, в котором участники новогодней вечериночки с восторгом узнали точную копию того книксена, которым при знакомстве почтил ее несчастный Варфоломеев. Зюня толкнул в бок стояще рядом Фелочку и зашептал: «Ах, черт! Во дает, старуха». Фелочка кивнул и, вновь издав губами чмокающий звук, закатил глаза.
А на сцене Заратустра, не переставая нелепейшим образом приседать, наконец обрела дар речи и заверещала: «Ах, покорнейше вас благодарю! Мерси! Мерси!» – и была она в тот момент похожа на старого облезлого попугая, счастливо вырвавшегося из цепких кошачьих когтей.
Медников, не дослушав ее, устремился назад за кулисы, но вдруг приостановился и злым шепотом чисто русским языком без всякого следа акцента прошипел:
«Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдавай, а не за пазуху прячь!» – после чего исчез.
Вместо него на слове «милиция» за спиною Аннушки-Заратустры выросли, как из-под земли, двое в синей форме и подхватили ее, все еще приседающую и каркающую: «Мерси! Мерси!» – под руки. В глубине сцены вспыхнуло светящееся табло, на котором обозначились слова: «Сдавайте валюту!»
«Гражданка!» – сурово произнес один из возникших, а именно тот, что застыл у правого плеча, А тот, что застыл у левого, тут же подхватил: «Будем сдавать доллары!»
Вот тут-то Заратустра показала настоящий класс. Таким базарным интонациям позавидовала бы сама Лариса себе Наумовна.
«Ничего не знаю, какие такие доллары, – голосом, противным до зубной боли, взвыла Заратустра. – И не видала я никаких долларов. Мы в своем праве! Нам дали награду, мы на нее ситец покупаем… А за домоуправление мы ответ не несем, завели, понимаешь ли, на пятом этаже нечистую силу – житья нету!»
Двое в форме, накрытые волной ее пакостного голоса, втянули головы в плечи, и выражение у них на лицах стало такое, как будто они дерьма съели. С брезгливым омерзением они подхватили Заратустру и вынесли ее за кулисы.
На том все, пожалуй, и кончилось бы. Но, как выяснилось позже, пока все, пораскрыв рты, следили за игрой Кнуппер-Горькой, прогляделось главное, а именно: трое, недавно тихо зашедших в директорский кабинет, уже некоторое время тому назад так же тихо покинули его, и всю предыдущую сцену простояли у задних рядов кресел, внимательнейшим образом следя за происходящим.
И если бы кому-то, хотя бы тому же Зюне, пришло в голову приглядеть за полномочной троицей, то он, безусловно, заметил бы, как они вопрошающе переглянулись между собой. А один, стоящий в центре, а потому, видимо, главный, кивнул головой и опять же тихо, одними губами, молвил: «Безусловно!». Двое других так же по разу кивнули головами, соглашаясь. После чего троица исчезла из театра также таинственно, как и появилась.
Что для них в происходившем на сцене показалось безусловным, осталось непроясненным, однако последствия их визита сказались незамедлительно. Каким-то образом, хотя никто ничего не объявлял, стало известно, что репетиция отменяется. Членам же парткома, профкома и художественного совета надлежит срочно явиться в директорский кабинет для экстренного совещания.
Как ни спешил на него Пржевальский, но не смог удержаться – и все же в последнюю минуту дал Заратустре Сергеевне совет «не тянуть одеяло на себя». Заратустра, как всегда, поджав губы, промолчала. А Зюня и Фелочка понимающе переглянулись.
– Ничего не поделаешь, – тихо сказал Зюня, – у нас страна Советов…
И хотя сказал он это почти шепотом, но Арсентий все же его реплику услышал, и только крайняя спешка помешала ему достойно ответить Зюне. Покачав головой, он умчался.
Ну, а виновники сего театрального переполоха, так загадочно и быстро испарившиеся, что даже Луиза Марковна проглядела их уход, надо заметить, сквозь землю не провалились. Самым естественным образом от главного театрального входа, который, на сей раз неведомо по каким причинам, оказался открытым, молча пожав друг другу руки, разъехались они каждый в своем персональном автомобиле.
Первым отбыл в поданном шофером предлинном черном лимузине тот, кто показался главным в их троице и каковым и являлся. Он укатил совсем недалеко, на Старую площадь, где у него был свой кабинет, выходящий окнам на памятник героям Плевны.
Двое других, чуть погодя, также сели в черные «Волги» и разъехались в разные стороны. Один – чуть дальше главного и тоже на площадь, и тоже с памятником. Памятник был поставлен Основателю дела, которому служили обитатели большого дома, стоящего тут же, и имя какового употреблялось исключительно с прилагательным «железный».
Черная «Волга» вкатила в большие мягко разъехавшиеся ворота этого здания.
Другой был увезен хоть и на площадь, но уже без всяких памятников, зато с причудливым высотным зданием, на двадцать первый этаж которого он и поднялся. Из окна его кабинета старый Арбат был виден весь, как на ладони.
И все трое почти одновременно доложили по телефону, судя по почтительным интонациям, каждый своему высокому начальству, что все исполнено.
Вот тут-то и возникает законный вопрос: в чем же причина суеты в столь ответственных учреждениях, представителями которых являлась чрезвычайная тройка, посетившая театр?
Откроем секрет: Племянник!
Кое-кто из читателей, особенно из числа тех, кто ближе знакомы с деятельностью всех трех учреждений на площадях, в такое из ряда вон выходящее происшествие, вероятно, не очень-то поверит. Ведь не дураки же, в самом деле, сидят там, чтобы из-за невесть откуда взявшегося, самозваного родственника потомка литературного героя срываться из своих кабинетов и самолично, будто не для того придуман телефон, мчаться отдавать распоряжения.
Однако факт, было это.
И Племянник был. Как явился в ночь злополучного спиритического сеанса, так никуда более не исчезал, а, наоборот, поселился в гостиной собственной кооперативной квартиры. Вел он себя до крайности странно: был таинственен и молчалив. На все попытки Башмачкина, равно как и Ивана Борисовича, заговорить с ним отвечал скупо и односложно. Леночка и вовсе старалась не попадаться ему на глаза. Признаться, трусила отчаянно.
По утрам Племянник ровно в восемь выходил из дому и исчезал. Возвращался он обычно в разное время и с каждым днем все более таинственный. И подмигивал, сволочь. Причем обоими глазами сразу. Акакий Акакиевич не раз перед зеркалом, понятно, в отсутствие Племянника, пробовал так же моргнуть. Ни черта у него не выходило.
И главное, куда он Рахиль дел?
Не было ее с ним, а когда спрашивали: «Где?», – широко открывал глаза, изображая недоумение, а потом снова подмигивал.
И паспорт у него, между прочим, был советский. Правда, сейчас оказался и вовсе странный: выданный в одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году Конотопским уездным советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов на имя крестьянина Херсонской губернии Ильи Айсидоровича Сумарокова, тысяча восемьсот пятьдесят девятого года рождения, из крепостных. Но никого, кроме Башмачкина, в первое время его дикий паспорт не удивлял и не тревожил. Акакий же Акакиевич понял мгновенно: шпион. Но из-за вечного своего страха ни с кем своим открытием не поделился.
И что странно, даже в вышеназванных учреждениях ни у кого не возникло ни малейших подозрений. А ведь Племянник регулярно по утрам исчезал именно туда. И заявлялся он не просто с какой-нибудь личной жалобой или же на худой конец с гневным протестом. С таковыми претензиями его бы живо наладили куда следует. Нет. Он, оказалось, ни много, ни мало – как полномочный посол прибыл. И грамоты у него, говорят, верительные были, все честь честью, со многими подписями и печатями. Но вот на каком языке, однако, сего разобрать так и не смогли.
Представьте себе, в Москве специалистов не нашлось. Правда, один профессор-языковед утверждал, что написаны они на одном из диалектов шумерского языка, но так ли оно было – доподлинно до сих пор не выяснено. Так что поверили, что вообще уму непостижимо, на слово.
А ведь даже где находится государство, от коего послом он прибыл, с его слов понять было невозможно. То ли в Северной Африке, то ли в Южной Америке. Но вот на что купил он всех этих деятелей, подлец, с потрохами купил, мол, хочет ихнее, неведомо где находящееся государство дальше шагать по некапиталистическому пути развития. Такой крючок они живо все заглотнули; и государственная машина уже без Племянниковой помощи заработала на полную мощность.
В то время вопрос расширения социалистического лагеря за счет малоразвитых стран стоял особенно остро. В последней исторической речи глава государства неоднократно подчеркивал огромное значение их присоединения в целом для коммунистического движения во всем мире. И Племянник, видимо, тщательно ознакомился с его речью. И хорошо зная наше пристрастие к последним решениям, глаза им и отвел.
Наваждение, одним словом.
Но далее не о Племяннике речь. Так как тут уж в дело вступили силы не менее всемогущие, чем потусторонние. Доклад, содержащий предложения по вновь образовавшемуся государству, был заслушан на самом высоком уровне. При принятии решения разногласия возникли лишь в одном: какую помощь оказать первой – военную или же гуманитарную.
Раньше бы такой вопрос даже и не возник, но к тому времени пацифистские настроения, как раковые метастазы, уже стали разъедать мировое сообщество.
Поначалу все же большинство проголосовало за военную. Но нашлись и такие, хоть и меньшинство, но активное, кто непоколебимо занял миролюбивые позиции.
Точку в споре, к удивлению собравшихся, поставил самый молодой из них, глава учреждения в уже упоминавшемся большом здании на площади с памятником «железному» основателю. Он подошел к проблеме с совсем уж неожиданной стороны. В его предложении было то преимущество, что при осуществлении предложенного убивались как бы два зайца. И это были, следует признать, довольно жирные звери.
Во-первых, будет оказана гуманитарная помощь и оказана, что немаловажно, без особых материальных затрат; а во-вторых, одновременно удалялся из Москвы рассадник инакомыслия на срок неопределенно долгий. Страна-то малоизвестная, вновь образованная, порядки в ней, скорее всего, дикие, глядишь, и навсегда удастся избавиться. И тогда, сколько же умов от диссидентской скверны получится уберечь. И при всем том, что немаловажно, перед всем культурным человечеством не потерять ни квадратного сантиметра своего лица.
Что говорить, предложение было заманчивое. И хотя не сразу, но, в конце концов, с ним согласились все. Решение было принято единогласно.
Чего, собственно говоря, и добивался Племянник.
Во исполнение своего интернационального долга «Театру на Стремянке» предписывалось срочно отбыть на гастроли в ту самую, неведомо где находящуюся республику. И там уже в рамках культурного обмена сеять разумное, доброе, вечное. Авось этим вновь образовавшимся, в силу языкового барьера, оно не так повредит.
– Одной головной болью меньше! – подвел черту автор проекта.
И все присутствующие легко вздохнули, как будто каждому только что вкатили двойную дозу анальгина. Заседание, что примечательно, состоялось ровно за сутки до посещения театра полномочной троицей. Так что сработали ответственные товарищи весьма оперативно.
Теперь, когда наконец разъяснено, что предшествовало их таинственному появлению в кабинете папки Карло, на мой взгляд, следует немедленно вернуться на совещание туда же. Тем более что поспеваем мы как раз в самый разгар прений. Казалось бы, чего дискутировать, граждане? Приказы не обсуждаются. Ан, нет. Недаром, видимо, самый молодой, из принимавших решение на высочайшем уровне, занимал свой пост. Дело он знал.
Ведь до чего же хитро был поставлен вопрос: никто, как выяснилось, не неволил театр оказывать интернациональную гуманитарную помощь. Отнюдь. Сурово настаивали на том, чтобы решение было принято добровольно всем коллективом театра, в демократическом, так сказать, порядке и желательно оформлено в виде заявления для прессы. (Что было также частью плана молодого).
Что ж, спрашивается, при таком раскладе языки второй час бить, отказаться – и весь разговор! Но в том-то и заключалась основная хитрость молодого: к главной бумаге с предложением гастролей был приложен скромный на вид листок, содержащий в себе маршрут, по которому театру надлежало следовать до вышеозначенной республики. А в нем – Марсель, Париж, Рим, Мадрид, Лондон… Короче, дух захватывает и слюнки текут. И, вспомните, какие это были годы. За границу разве что Большой театр выезжал да танцевальный ансамбль «Березка».
Для Дункеля вообще любой намек оттуда, из здания на площади с памятником героям Плевны то есть, являлся высшим откровением. Казалось, такое убеждение он всосал с молоком матери. А может, во время его пионерского вызревания, прежде чем сделать председателем Совета Дружины, сделали ему прививку на верность коммунистическим идеалам. В то время он способен был стать Павликом Морозовым, но его родители, партийные работники средней руки, не дали ему такой возможности. С тех пор на всем своем пути Антон Карлович искал случая отличиться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































