Текст книги "Катастрофа. Бунин. Роковые годы"
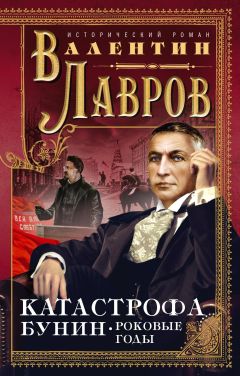
Автор книги: Валентин Лавров
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 49 страниц)
Кровавые пиры
1
Пока Бунин был раздираем дилеммой – бежать за границу или продолжать терпеть мытарства в любезном отечестве, доблестный предводитель разноперого войска Нестор Махно душевно отдыхал за праздничным столом в доме бывшего градоначальника Мелитополя. Повод был серьезный – выход первого номера газеты «Повстанец».
Пленарное заседание и доклады заменили тосты бесхитростные, но идущие из глубины анархистских сердец.
Махно открыл застолье. Он не любил речи говорить. Более того, он ненавидел всех тех, кто мог связно сказать более десяти слов подряд. Это считалось признаком интеллигентности, а всех интеллигентов на свете батько справедливо считал врагами народа и пролетарской революции. (В этом он вполне сходился с будущим вождем Советского государства Н. С. Хрущевым.) Однако батько уважал сказать тост.
– Хлопцы, значит, мы «Повстанец» напечатали, – произнес он. – Газета добрая, пусть читают, мать их. И только. Выпьем!
Батько умным и внимательным взором оглядел присутствующих: все ли выпили? Не гнездится ли где измена? Ах, вот…
– Мижурин, ты зачем пренебрегаешь?
– Чтой-то, батько, сердце у меня ныне того, бьется…
Батько ласково улыбнулся:
– Пей, пес! А то оно у тебя вовсе перестанет биться… Так, хлопцы, говорю?
Все дружно загоготали:
– Так, батько, так! Пусть хлебает…
Мижурин, ходивший в предынфарктном состоянии, с отвращением проглотил вонючую самогонку.
– Вот сейчас и полегчает! – обнадежил батько. – И только.
Как ни удивительно, начальник гарнизона сразу же почувствовал себя легче, стал глядеть веселее.
– Вот видишь, он, первач, у нас целебный! – торжествующе произнес батько. – А теперь, хлопцы, по другой примем. За светлое дело освобождения трудящих!
Мижурин и все прочие опрокинули по второй кружке.
…Сподвижники вскоре в разговоре слегка распоясались, стали непринужденней и нахальней.
– Батько! – повернул усатую, разрубленную у лба морду Гавриил Троян. – Расскажи, как тебе Ленин кланялся.
– Да я уже…
– Батько, не все слыхали. Расскажи, не жмись, – дружно загудел стол.
Уже раз двадцать Махно рассказывал сподвижникам, как ездил он в Москву. Но вспоминал об этом с удовольствием, поэтому жаться не стал. Историю эту он уже сказывал складно, как по писаному.
Глуховатым, сиплым голосом батько начал:
– В прошлом годе по весеннему времени, когда мы временно, из соображений тактической дипломатии, поддерживали красных и когда те дали мне орден Красного Знамени, германо-австро-венгерские отряды заняли мое родное Гуляй-Поле. Весть эта застала меня на станции Царево-Константиновка, застала и потрясла. А бегство революционных сил я видел сам. Все это сделалось за мою трехдневную отлучку. И только.
Махно посмотрел в лица сподвижников и прочитал в глазах восхищение блестящим слогом батько.
– Ну ро́ман прямо! – искренне восторгнулся Абраша Шнейдер, который возил с собой в сумке книжки и даже иногда по слогам читал их.
– С помощью веры в революционное крестьянство и моей непримиримости к тому, чтобы гетман воцарился на Украине, я решил пробраться в Москву. Я хотел у Ленина определить свою дальнейшую политику. От Астрахани до столицы я добирался вначале по воде, затем по железной дороге.
И вот я оказался у ворот Кремля. И только. Возле них прохаживался латыш-стрелок с ружьем. За ним – другой. У меня уже был ордер-документ из Моссовета. В комнатушке возле ворот мне выписали пропуск. Я вошел во двор Кремля, поднялся по трапу на второй этаж. Я пошел влево, не встретив ни одного человека. Лишь на дверях читал: «ЦК партии», «Библиотека». Я пошел в ЦК…
Перебив Махно, поднялся широкоплечий, с чубом, падавшим на щеку, заведующий идеологическим отделом Володин:
– Пьем, хлопцы, за освободителя всех пролетарий и крестьянства особенно, за нашего дорогого и прочее, за батько Нестора Иваныча, который добрался до самой Цеки! – И перевернул содержимое кружки в красную пасть.
Махно выпил со всеми вместе и продолжил:
– В ЦК сидели четыре человека. Один показался мне Загорским, другой Бухариным. Этот указал нужную дверь. Я постучал, вошел. Сидит девица, говорит: «Чего вам?»
– Я хочу видеть Председателя Исполкома Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов товарища Свердлова.
Девица записала мой документ и направила в другую дверь. И только. Там помещался выхоленный мужчина. Он тоже спросил, что мне нужно. Я пояснил. Тогда он спросил удостоверение.
– Так вы, товарищ, с юга России? С кем имеете связи?
Я бегло ответил. Допрашивал он меня и дальше о настроении крестьян, каково их отношение к Раде и к советской власти.
– Батько, – подал голос Каретников. – Мы не выпили за твое прибытие в Москву…
– Это надоть! – дружно поддержали застольники. – За прибытие, мать в ногу, в эту самую Москву, чтоб ей провалиться! Вместе со всеми москалями и кацапами. Чтоб их подняло да хлопнуло!
Выпили. Жевали сало и глядели батьке в рот. Тот степенно продолжал:
– Мужчина куда-то позвонил по телефону и тут же предложил пройтись в кабинет к председателю ВЦИКа товарищу Якову Свердлову. И только. Прежде я слыхал, что к вождям простому смертному не дойти. Теперь я остро почувствовал вздорность этих слухов. И свободно вошел в двери Свердлова. Вижу: из себя жидок кучерявенький, верткий, все покашливает и глазки отводит. Улыбается, ручку протянул, влажненькая она. Тычет в кресло: дескать, садись! Спрашивает:
– Товарищ Махно, вы с нашего бурного юга. Вы чем там занимались?
– Тем, чем занимались широкие массы тружеников революционной деревни. Они живут идеями революции.
Свердлов перебил меня:
– Что вы говорите, крестьяне юга в своем большинстве кулаки и сторонники Центральной рады.
Я, конечно, рассмеялся…
В это время Исидор Лютый, зная порядок, икнул и прошепелявил:
– Хлопцы, выпьем за встречу батько с товарищем жидом, как его…
– Свердловым, – подсказал Абрам Шнейдер.
Выпили. Крякнули. Закусили.
– Ну, батько, слухаем тебя! Скажи, как ты с Лениным поссорился?
– Это позже. Тогда Свердлову без всяких колебаний признался, что я – анархист-коммунист бакунинско-кропоткинского толку.
– Нет, – отвечает мне Свердлов, – вы совсем не похожи на анархистов, которые засели было на Малой Дмитровке, да мы их, гадов ползучих, раздавили. Сей миг об вас позвоню товарищу Ленину.
И тут же в трубочку сообщил, что имеет у себя товарища, который привез важные сведения об крестьянах на юге… Ленин ответил: дескать, завтра дожидаю.
– Пьем за батькину встречу с этим… – заорал Лютый.
– Да подожди ты, – осадили нетерпеливого казака его товарищи. – Ты на свою бабу и то созревший лезешь, а тут особый манер – вожди!
Батько спокойно переждал перепалку и продолжил:
– На другой день, ровно в час дня, я был опять в Кремле у товарища Свердлова. Он провел меня к товарищу Ленину…
– Ура! Пьем за батько и Ленина, – заорало несколько ссохшихся глоток. – Ур-ра, батько!
Выпили. Закусили, кто салом, кто капустой или огурцом. Махно вдруг, весь внутренне засияв, как гимназист на выпускном балу, сказал:
– Товарищ Ленин встретил меня, что тебе отец родной. И только. Сам махонький, картавенький, а глаз прищурит хитрущий – в душу будто заглянет. Одной своей ручкой взял меня за руку – вот так, другой – этак легонько касаясь моего плеча, в черной кожи кресло усадил. Говорит Свердлову, мол, Янкель, чего как пень торчишь? Садись!
– И об чем он выспрашивал? – поинтересовался Каретников. Он всегда в этом эпизоде задавал такой вопрос.
– Первое – из каких я местностей. Затем – как крестьяне этих местностей восприняли лозунг «Вся власть Советам на местах». И бунтовались ли крестьяне моих местностей против нашествия контрреволюционных немецких и австрийских армий. Я на все отвечал кратко. Свердлов сидит и слушает. Молчит не хуже рыбы. Ленин обо всем расспрашивает меня подробно. А об одном месте моего рассказа три раза переспросил.
– Это об чем? – полюбопытствовал Лютый, заскорузлым пальцем выковыривая мясо изо рта.
– А об том, как крестьяне лозунг «Вся власть Советам на местах» разумеют. Я прямо говорю: вся власть на месте действительно должна отод… отжестьвляться с волей самих крестьян.
Ленин личико скривил: ему это не по сердцу.
– В таковом случае в ваших местностях крестьянство заражено анархизмом.
– А рази это плохо?
– Я, дескать, не того хочу сказать, – Ленин уклончиво отвечает. – Даже напротив, это ускорило бы победу коммунизма над капиталом. Только такое настроение в крестьянстве неестественно. Это все от анархистской пропаганды.
Я возразил, что вождю нельзя быть пессимистом. Тут Свердлов встрял:
– Так что, анархию надо развивать среди крестьян?
– Ваша партия развивать не будет! – режу в глаза.
Тут Ленин подхватился:
– Во имя чего надо развивать анархию? Чтоб дробить силы пролетариата? Чтоб повести его на эшафот, под топор контрреволюции?
Я тут малость распалился. Объяснил ему, что анархисты не ведут к контрреволюции. И только.
– А рази я это сказал? – спросил Ленин. И объяснил, что он просто против раздробления сил.
Потом мы стали говорить об будто мужестве красногвардейских отрядов. Я сказал, что участвовал в разоружении десятков казачьих эшелонов и никакого их мужества не заметил.
– Как так? – удивился Ленин.
– Трусливости и безыдейного воровства было больше, чем мужества и революционности.
Спросил меня Ленин за пропагандистов по деревням. Я ему объяснил:
– Не нужно увлекаться. Пропагандистов по деревням так мало, и они там беспомощны. И только.
Свердлов с восторгом улыбался, а Ленин, сложивши палец меж палец своих рук и нагнувши голову, об чем-то думал. Затем сказал мне:
– Об всем, что вы мне сейчас осветили, приходится сожалеть. Преобразовав красногвардейские отряды в Красную армию, мы идем по верному пути к окончательной победе пролетариата над буржуазией. – И еще, повернувшись к Свердлову, сказал: – Анархисты всегда самоотверженны, идут на всякие жертвы. Но они близорукие фанатики, пропускают настоящее для отдаленного будущего. – И тут же предупредительно повернулся ко мне: – Вас, товарищ, я считаю человеком реальной и кипучей злобы дня. Если бы таких анархистов-коммунистов была хотя бы одна треть в России, то мы, коммунисты, готовы были бы идти с ними на известные условия и совместно работать на пользу свободной организации производителей.
Я убежденно считал Ленина виновником недавнего разгрома анархистских организаций в Москве. И я глубоко в душе начал стыдиться самого себя…
– Это ты зря, батько! Ты, батько, кремень! – сказал Лютый. – Значит, хлопцы, пьем за батько.
Выпили.
Махно продолжал:
– И выпалил я в Ленина словами: «Анархисты-коммунисты все дорожат революцией и ее достижениями. Это свидетельствует об том, что они с этой стороны все одинаковы».
Ленин рассмеялся:
– Ну вы нам об том не говорите.
Потом Ленин заложил эдак пальчики в жилет, стал расхаживать по кабинету и убеждать меня:
– В настоящем анархисты жалки, беспочвенны исключительно потому, что они в силу своей бессодержательной фантазии реально не имеют с этим будущим связи. И у вас, на юге России, то же самое.
Маленько я опять вспылил:
– Я полуграмотный крестьянин. И об такой запутанной мысли, которую вы, товарищ Ленин, выразили, понятие не имею. И только. Но в корне вы ошибаетесь, что мы не понимаем настоящего. И еще: чего-то вы избегаете говорить слово «Украина», а все обзываетесь – «юг России»? Анархисты-коммунисты на этом самом «юге России» дали уже много примеров преданности идеалам революции.
Я так строго разговаривал и примеры разные приводил. А Ленин видел, что я разнервничал, и стал разговор в сторону уводить. Участливо так спрашивает:
– Ведь вы на Украину будете перебираться нелегально?
– Разумеется, – отвечаю.
Ленин, как прямо отец родной, обо мне думает.
– Желаете, – говорит, – воспользоваться моим личным содействием? Яков Михайлович, для товарища Махно надоть все необходимые для нелегального перехода документы приготовить!
Оформили мне фальшивые документы. С ними я спокойно перебрался на Украину. Хотя потом мы с Лениным разошлись идейно, но я об нем думаю как об своем кровном брате. И только.
Хлопцы гаркнули пропитыми глотками «ура!» и почали новую бутылку самогонки. Пили за Махно, за «Повстанца», за Ленина, за победу, за анархию, которая вроде бы мать порядка. А если и нет, то хрен с ей, лишь бы война длилась да побольше самогонки.
Потом пели песни и любимую, батько сам ее начал:
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить…
Хорошая песня, душевная. Особенно когда выпивши.
2
При свете коптилки, щуря глаза, Бунин читал номер «Повстанца», неизвестным образом попавший в Одессу. Газета, отпечатанная на двух страницах грубой зеленоватой бумаги, в которую в доброе старое время мелитопольцы брезговали завертывать даже селедку, имела три раздела: агитационный, официальный, хронику.
«Да здравствует Рабоче-крестьянская революция!» – этот лозунг был набран на всю полосу.
Не гнушаясь орфографическими ошибками, автор передовицы советовал «одергивать с офицеров-золотопогонников мундиры да шомполами пороть их благородия». Далее шли призывы браться за оружие: «Надо все-таки раскачиваться помаленьку, товарищ мелитопольский обыватель… Мы, повстанцы, отняли всякую власть над тобой, и ты, уже вольный и свободный, вступай в ряды батько Махно!»
Далее Бунин прочитал нешуточное предупреждение:
«Приказываю всем торговцам и владельцам всякого рода предприятия, не получившим еще квитанций о доставлении сведений об имеющихся у них товарах, явиться за таковыми в продолжение 10 ноября. Если и на этот раз не исполнят приказа, буду пороть за неподчинение приказу. Нач. гарнизона Мижурин».
Рядом напечатано «объявление»:
«Для сведения г. Мелитополя объявляю, что владельцы ресторанов и притонов, продающие самогон, будут расстреливаться на месте. Командующий Володин».
* * *
Вера внесла чай. Бунин с изумлением произнес:
– Какие характеры! Твердая уверенность, что если перестреляют буржуев и непослушных, то сделают счастливыми всех пролетариев сразу…
– Но никого в частности, – метко вставила слово Вера.
– С невероятным упорством этот батько творит кровопролития, хотя наверняка знает, что самому головы не сносить!
На этот раз Иван Алексеевич ошибся. 28 августа 1921 года под ударами кавалерийского эскадрона 24-го полка Нестор Иванович с остатками своих верных бойцов, взбурлив Днестр, под огнем красноармейцев, теряя друзей, лошадей и обильно орошая воду кровью, переправится на западный берег – в Румынию.
Их осталось менее восьми десятков – беспощадных, храбрых до безумия, идейных анархистов-революционеров. Махно украшали четырнадцать ранений, полученных во время Гражданской войны «за счастье революционного крестьянства». Мрачный взгляд его темно-карих глаз сделался еще острее, и он никогда не менялся – даже при редкой улыбке. Смелости, честолюбия и энергии у него, как и прежде, было с преизбытком, но изменилась жизнь, изменились обстоятельства. В наступившей мирной жизни все эти «революционные» качества приложения не имели.
В Румынии батько и его отчаянную жену Галину Андреевну заключили в концлагерь. Спустя шесть месяцев – побег в Польшу. Еще шесть месяцев они провели в лагере для интернированных. Затем камера Варшавской крепости. Здесь Махно стал отцом. Галина Андреевна родила дочь Елену. Через год и месяц семья Махно вышла на волю.
Еще раз его посадили в тюрьму в Данциге. Но это было последнее заточение. Из Германии Махно перебрался в Париж.
«Я обретаюсь нынче в Париже, среди чужого народа и среди политических врагов, с которыми так много ратовал», – писал Нестор Иванович в апреле 1923 года. Мог бы написать проще: «Которых я убивал и которые хотели убить меня». Во имя чего? Чтобы лишиться близких людей и родины?
Теперь не было тачанки, не было верных головорезов, да и вообще по сравнению с Гуляй-Полем тут было скучно до отвращения.
– Разве это жизнь! – говорил он своей верной подруге. – Не жизнь – лягушачье болото: Париж, и только! Вот у нас на Украине… – И батько мечтательно прикрывал веки.
С большим трудом Махно устроился чернорабочим в киностудию, жена – прачкой в богатый дом. Вот тут-то Махно и понял свою ошибку в анархизме, пожалел о сотнях загубленных его головорезами жизней. И Махно смирился. Все больше стал задумываться о душе, все чаще его встречали в церкви на рю Дарю.
Молился он горячо. О чем? Это знал лишь его исповедник.
3
Двадцать пятого августа деникинские войска овладели Одессой. В тот же день Вера Николаевна записала в дневник:
«Мы решили уехать из Одессы при первой возможности, но куда – еще не знаем. Власть еще не укрепилась. Нужно подождать, оглядеться. Жутко пускаться теперь куда-либо, но нельзя же вторую зиму проводить в этом милом городе».
Спустя шесть дней новая запись:
«Надежда попасть этой осенью в Москву у меня пропала. Как у меня болит сердце за оставшихся там…»
* * *
Вечером 18 сентября в комнату Веры Николаевны кто-то постучался. Она открыла дверь и увидала военного с красивыми густыми усами, умным лицом и обильной плешью. Щелкнув каблуками, военный представился:
– Пуришкевич, Владимир Митрофанович! Могу я видеть господина Бунина?
– Проходите, Иван Алексеевич скоро, вероятно, вернется!
Бессарабский помещик, монархист и один из основателей Союза русского народа, один из участников убийства Распутина, депутат трех Государственных дум шагнул в комнату:
– Я давно мечтал познакомиться с замечательным русским писателем. И вот, временно находясь в этом городе…
– Чай подать? Анюта, приготовь…
Пуришкевич поднял руку:
– Спасибо, не надо! Мне некогда. Я хотел выяснить взгляды господина Бунина на некоторые основополагающие вопросы современности. Передайте ему нашу партийную программу. – Владимир Митрофанович протянул тонкую брошюру. – В ней два главных пункта – конституционная монархия и против евреев. Я надеюсь, он будет нам сочувствовать.
Вера удивилась:
– Но Иван Алексеевич не антисемит! Да кроме того, он человек не партийный.
– Теперь все должны быть партийцы!
– Он всего лишь поэт. Он чужд всему остальному…
– Очень, очень жаль. – Пуришкевич грустно посмотрел на Веру Николаевну. – А мне сообщили, что он желает вступить в Союз русского народа. Поэтому я и пришел… Что ж! Верните программу.
Он повернулся и быстро вышел. Ровесник Бунина, он погибнет на следующий год.
Вскоре пришел Бунин. Узнав о визитере, он пожал плечами:
– Зачем я понадобился Пуришкевичу? Если рождался когда-либо человек, далекий от всяческих групп, группировок и политических течений, то это я. Лишь одного хочу в жизни – спокойно и свободно работать. А вот этого как раз я и лишен теперь…
Помолчав, с тоской произнес:
– Голова кругом идет! Что дальше делать, как жить – ума не приложу. Бывает, жалею, что из Москвы уехал. Там все-таки наш дом, да о Юлии сердце изошлось. Но как оставаться в России? Эти идеи всемирного братства и равенства вовсе не по мне. Скажи большевики нашему дворнику, что он мне товарищ и брат, – так он и сам смеяться начнет: «Куда с нашим рылом в калашный ряд? Они – дворяне, академик, а я крестик заместо подписи ставлю». Такого равенства, слава богу, никогда не будет. А если будет – свет погубит.
И вдруг с каким-то изумлением добавил:
– Но что удивительно: когда жил в России по-человечески, постоянно тянуло путешествовать. Весь мир с тобою, Вера, объехали… А теперь, когда жизнь хуже собачьей стала, не могу Россию покинуть. Капитаны вместе с кораблем на дно идут. Теперь это хорошо понимаю. Боюсь, Вера, ох боюсь. – Бунин понизил голос до шепота. – Коли уедем, то уже никогда нам России не видать. Чует беду сердце. Господи, научи, что делать?
* * *
Весь мир стронулся с места. Все перемешалось, ничего не понять, не разобрать. Самые мудрые оказывались в дураках, а задним числом легко правду высчитывать.
Бегство
1
Жизнь после прихода белых заметно оживилась. Недорезанные и недорасстрелянные буржуи стали вылезать из нор и щелей.
Двадцать первого октября, в канун дня рождения, и в жизни Ивана Алексеевича произошло памятное событие. Впервые за долгие годы он начал служить – редактировать «Южное слово». Членами редколлегии этой газеты стали академик Никодим Павлович Кондаков, писатели Иван Шмелев, Константин Тренев, Сергей Ценский.
Бунину редакторская работа весьма понравилась. Газетная суета, встречи с авторами, вечная нехватка времени, а больше всего персональный автомобиль с национальным флагом, который ежедневно возил писателя в редакцию и обратно до дому, – все это развлекало Ивана Алексеевича, долго кисшего в домашнем заточении.
Радовалась новой службе и Вера. Особенно она любила вечерние часы.
Бунин возвращался усталый и голодный.
Пока он мылся, переодевался, Вера торопливо собирала на стол. Бунин ужинал в одиночестве, с отвращением пережевывал дурную пищу. Затем начинал рассказывать новости, приходившие в редакцию.
Теперь большевики крепли, все более теснили белых. Колчак терпел одно поражение за другим, плохи дела были у Деникина и Врангеля, лучших людей теряли Петлюра, Шкуро и генерал Краснов. Большевики гнали белых к последней российской черте – Черному морю.
Оставалось либо топиться, либо переправляться к берегам Анталии – «чтобы накопить силы и победоносно ударить по большевикам».
И бежали русские, доверяли себя бурной морской стихии.
Зимнее Черное море гуляло вовсю, взмывали до неба мутные ледяные горы. Шли на дно суденышки, перегруженные корнетами и полковниками, нянечками и крестьянами, оперными певцами и действительными статскими советниками.
Был удивительный случай, спасся один поэт. Об этом – позже.
2
Все чаще Бунины приходили на причал, все чаще Вера обливалась слезами: уезжали друзья, навеки прощались, навсегда расставались.
Одесса стала транзитным городом.
Прибыл в нее елецкий житель, поэт и журналист Борис Велихов. Был известен он тем, что однажды газеты напечатали его некролог. Как выяснилось, несколько преждевременно.
– Налетел на Елец полковник Мамонтов, соратник генерала Краснова, – рассказывал Велихов. – Большевики вначале не придали серьезного значения этому рейду по их тылам. Это много содействовало успехам Мамонтова. Мы радовались: пришло наконец освобождение от большевиков. Большевики грабили-убивали, влетел в Елец Мамонтов – тоже начал грабить и убивать. Правда, головы сшибал только коммунистам.
– У него большое войско? – полюбопытствовал Бунин.
– Знакомый офицер говорил, что у них шесть тысяч сабель, три тысячи штыков, несколько бронепоездов.
– Грозное воинство!
– Да, сила немалая. Мамонтов занял Тамбов, Козлов. Тридцать первого августа ворвался в Елец. Их лозунг: «Спасай Россию и бей жидов!» Многим этот лозунг пришелся по вкусу.
– Потому что после революции многие командные должности были заняты евреями?
– Да, и поэтому. В руки мамонтовских казаков попали все комиссары. И все они были перебиты. Тяжелое зрелище!
Бунин горестно вздохнул:
– Страшная, немыслимая беда – гражданская война.
– Вы, Иван Алексеевич, доктора Лакиера знали, кажется!
– Конечно. Я с ним когда-то познакомился у Чехова в Аутке. Милейший человек.
– Ведь он годами принимал бедных бесплатно. Святой человек.
– И что с ним?
– Арестовали Лакиера и его сына. Сам доктор сумел убежать из тюрьмы, а сына расстреляли. За что?
Бунин решительно сказал:
– Среди евреев, как и среди русских, разные люди встречаются. Нельзя всех под одну гребенку стричь. Разве можно к этому чудному доктору относиться так же, как к негодяям Троцкому и Зиновьеву? Конечно нет!
– Кстати, – улыбнулся Велихов, – меня тоже чуть не прихлопнули. Шел я однажды по Дворянской, навстречу верхом едет казак. Увидал меня, улыбается.
– Попался, – говорит, – жидовская морда.
Приставил пистолет к груди, вот-вот пальнет. Говорю ему:
– Я русский дворянин!
– Чем докажешь? Есть документ?
Показал ему паспорт. Казак прочитал, почесал в затылке:
– Да, дворянин жидом быть не может!
Отпустили меня.
– Веселенькая жизнь! – сквозь зубы проговорил Бунин.
– Это надо видеть! Люди навзрыд плакали, когда по приказу большевиков в мужском монастыре желающие жгли иконы. Теперь устроили там синематограф.
– А как с питанием?
– Хлеба получали по полфунта, и то очень дурного. Кроме картошки и пшена, ничего нельзя достать. Молоко было, но очень дорогое.
Бунин простонал:
– И это в Ельце, всегда отличавшемся изобилием и дешевизной продуктов! Что натворили эти революционеры!
Вера добавила:
– Ян органически не переносит революционеров, как я кошек и крыс.
Бунин согласно кивнул:
– Для меня что Троцкий, что Вельзевул – разницы не вижу.
Пожалуй, Иван Алексеевич был прав.
3
Через французское консульство получили письмо из Парижа – от Цетлиной. Она писала о своей жизни: «Тишина, благоденствие полное. Французы веселы, галантны и гостеприимны. Магазины набиты всякой всячиной, и все стоит так дешево, что даже не верится. Не верится и другое: Франция воевала, как Россия, но следов этой войны здесь почти нет. Только инвалиды на костылях, да русские постоянно прибывают сюда, все устраиваются хорошо. Часто видим Алексея Николаевича (Толстого). Он, как всегда, весел и полон оптимизма. Жизнью своей вполне доволен. Обещал написать большое вам письмо, а пока шлет поклон. Думаем, что скоро возобновим свой литературный салон. Так не будет вас хватать! Приезжайте скорее, на первых порах разместитесь у нас. Бегите из этой Богом проклятой России, пока не погибли от голода, большевиков, тифа или ножа какого-нибудь экспроприатора».
Вера жалобно смотрела на мужа.
Бунин молчал.
Вера, взяв его руку и нежно ее поглаживая, говорила:
– Я прошу тебя… Я так устала от страха, от голода! Зима пройдет, и мы вернемся домой, в Россию.
Бунин не отвечал.
– Шполянский уезжает, Овсянико-Куликовский и Кондаков хлопочут о визе в Сербию, у Полонских уже есть виза, и они едут в Париж. Саша Койранский сбежал из дома умалишенных, прислал письмо из Стамбула. Пишет, что жизнь там трудная, но веселая. Очень много в Турции русских.
Вера замолчала, испытующе глядя на мужа. Потом добавила:
– Вчера ночью на Преображенской какие-то бандиты опять несколько интеллигентных семей вырезали. Китникова с женой и детьми живьем сожгли. А тут еще головорез Махно наступает, взял Бердянск, Мелитополь и Александровск. Вырезывается вся интеллигенция.
Наконец он сказал:
– Давай пока все-таки подождем! Я не хочу стать эмигрантом. Для меня в этом много унизительного. Я слишком русский, чтобы бежать со своей земли. А Китникова жаль до слез, исключительный человек был!
Она поняла, что спорить бесполезно. Лишь в ее дневнике появлялись новые записи:
«Вчера была у нас Ольга Леонардовна Книппер. Странное впечатление производит она: очень мила, приветлива, говорит умно, но чувствуется, что у нее за душой ничего нет… Большевики к ним предупредительны, у нее поэтому не то отношение к ним, какое у всех нас… Шаляпин на „ты“ с Троцким и Лениным, кутит с комиссарами. Луначарский приезжал в Художественный театр и говорил речь – „очень красивую, но бессодержательную, он необыкновенный оратор“».
«Уже декабрь (по старому стилю – 2, по новому – 15 декабря. – В. Л.). В комнатах холодно… Мы опять как на иголках. Каждую минуту, может быть, придется сорваться с места. Но куда бежать? Трудно даже представить. Курс нашего рубля так низок, что куда же мы можем сунуться? Везде зима, холод. Правда, нас трудно теперь чем-либо напугать – мы знаем, что такое холод, что такое голод, но все переносится легче у себя дома…»
Дома – значит в России.
* * *
В эти же дни «группа ученых и литераторов» в очередной раз направилась к французскому консулу по фамилии Готье.
Консул обожал Россию, изучал ее историю по Леклерку, читал в подлинниках Толстого, Тургенева и Бунина (который ему очень нравился) и гордился тем, что знал наизусть кое-что из Пушкина.
Литераторы и ученые вновь прослушали отрывок из «Евгения Онегина»: «Мой дядя самых честных правил…», после чего насели на Готье и наконец уломали.
Но – с условиями: предъявить паспорта, справки о прививках, а также расписки, что в случае кораблекрушения утонувшие никаких претензий к французскому правительству иметь не будут.
За эти документы было обещано: бесплатно доставить по воде литераторов вместе с учеными до Константинополя; выдать по одному литру ординарного красного вина на душу.
Как покажет ближайшее будущее, французы с пунктуальностью выполнили обещания: и вина дали, и по воде доставили. Но и россияне не подвели: ни один из утонувших не выступил с претензиями.
Все остались довольны друг другом.
* * *
Толстой-парижский вспомнил об обещании, прислал в Одессу письма супругам Буниным. Письма весьма любопытные:
«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено – не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острову в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».
В другом письме он сообщал:
«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал „Грядущая Россия“ (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашен редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем, в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо… Большевиков здесь быть не может».
Ветер эмигрантской стихии Бунина не подхватывал. Хотя надежда, что идеи Маркса – Ленина не полонят легкомысленных французов, весьма утешала.
* * *
Он продолжал показывать характер – вполне железный.
Большевики победоносно гнали разрозненные, раздерганные в междоусобицах белые армии.
Даже людям, далеким от стратегических наук, становилось ясно: Белое движение обречено на гибель.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































