Текст книги "Катастрофа. Бунин. Роковые годы"
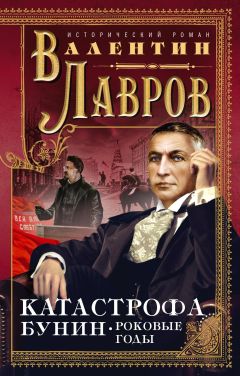
Автор книги: Валентин Лавров
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 49 страниц)
Эпилог II
1
В тот час, когда вождь немецкого народа рухнул на черную крышку дубового стола, Бунин с Верой Николаевной разместились в облезлом вагоне третьего класса. Старенький паровоз, служивший уже лет тридцать, потащился в Париж.
Бунин все взвесил, все продумал. И теперь негромко произнес:
– Жить нам осталось мало – пять – десять лет. Здесь терять нечего. Пусть хоть кости наши упокоятся в Русской земле.
Вера Николаевна, давно уже положившая свою судьбу на волю Божию и на своего Яна, смиренно ответила:
– Как ты скажешь…
– Конечно, если позволят обстоятельства.
Обстоятельства разворачивались круто.
* * *
Еще в Грасе из рассказов тех, кто побывал в крупных городах, из газетной хроники и радиопередач Бунин с некоторым ужасом убеждался: победное торжество выливается порой в упоение кровью, в бессмысленную жестокость. Чувство мести слишком часто вытесняло из сердец победителей всякое милосердие.
Арестовали премьер-министра Пьера Лаваля. На ревматические ноги для чего-то натянули средневековые пудовые колодки, как будто этот пожилой человек мог сбежать из одиночной камеры. Несчастный испытывал такие страшные боли, что порой исторгал из груди жуткие звуки, приводившие в ужас даже тюремщиков. Незадолго до казни, желая сократить его терзания, какая-то сердобольная душа передала ему яд.
Лаваль яд принял, но бдительные стражники желудок промыли и скрюченного от резей старика потащили расстреливать. Поскольку бывший премьер-министр стоять не мог, то его усадили на стул и расстреляли в сидячем положении: полдюжины здоровых мужиков в военной форме пальнули из ружей. Приговорили к смерти и бывшего командующего Тулонским портом и тамошней эскадрой адмирала де ля Борда. Приговор был несправедлив, ибо именно адмирал спас от гитлеровцев часть французского флота. К счастью, возмущение и заступничество боевых товарищей адмирала в последний момент спасли его от расправы, но не спасли от позора.
То и дело засыпавший на собственном процессе Петен тоже был приговорен к смерти. Но расстрел милостиво заменили пожизненным заключением. Герой Франции времен Первой мировой войны, малость не дотянув до собственного столетия, умрет в крепости в 1951 году. Неразлучно по своей воле с ним пребывала его старенькая жена.
Других, менее знаменитых и заподозренных убивали без суда и следствия. Французы уничтожали французов. Таких жертв, по некоторым сведениям (Г. Озерецкий и другие), «набежало лишь до августа 1945 года приблизительно 100 тысяч!». Дикую оргию самосудов мало-помалу ввел в русло юридических норм генерал де Голль.
Очевидец писал: «После освобождения Парижа ловили женщин, имевших сношения с немцами. Им заламывали руки за спину, стригли волосы и мазали лицо красной краской. На квартире у них все разбивали». Фашизм наоборот!
Повсюду, где появлялись «красные освободители» – на Балканах, в Прибалтике, в Центральной Европе, – они первым делом после уничтожения нацистов принимались за бывших соотечественников. Их по-домашнему арестовывали на улицах, брали на квартирах – так же, как это привычно делалось где-нибудь на Лиговке в Питере или у Красных ворот в Москве.
Могучая десница родного НКВД умело выбирала из всего мирового российского рассеяния практически всякого, с кем надо было свести счеты. Лояльные союзники старательно помогали Сталину. Выдавали на смерть даже тех россиян, кто родился на чужбине и в СССР никогда не жил.
В мае 1945 года в австрийском Юденбурге англичане передали советскому командованию целый казачий корпус – около сорока пяти тысяч человек. Казаки готовы были погибнуть, но большевикам не сдаться. Англичане обманом их разоружили и отдали на кровавую расправу.
Союзники, словно спеша друг перед другом продемонстрировать преданность Кремлю, выдавали русских из Италии, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Норвегии, Дании.
И пусть читатель не заблуждается: сталинские расстрелы и концлагеря ожидали не только тех, кто оказался на стороне Гитлера, но и тех, кто героически сражался… против фашизма.
* * *
Уже вскоре после возвращения в Париж Бунин сумел связаться с советским посольством. В ноябре 1945 года впервые навестил посла Богомолова.
По расставании Богомолов записал отчет об этой встрече в журнал: «В 17 ч. ко мне пришел писатель И. Бунин. Ему уже 75 лет, но он держится бодро. Беседа шла в духе обычного „светского“ разговора и никаких деликатных вопросов не захватывала.
На беседе присутствовал Гузовский, которого я попросил сообщить об этой беседе в Москву (А. А. Гузовский – старший советник посольства. – В. Л.).
Мои впечатления о Бунине пока еще очень поверхностны. Старик полон всяких воспоминаний, мелочей, привычек и т. д. Он любит выпить, крепко ругается и богемствует в среде своей писательской братии.
У меня на приеме старик держался, как и полагается на приеме у посла, немножко рисуясь и кокетничая.
Приглашу его к себе позавтракать, он человек интересный».
Ну а пока что в Москве досье на Бунина пухло от бумаг. Заведующий первым Европейским отделом Наркомата иностранных дел Козырев писал докладную на Лубянку: «По сообщению т. Богомолова, писатель Бунин стар и весьма неустойчив по характеру (он много пьет). Политическое настроение Бунина также неустойчиво. То он хочет ехать в СССР, то начинает болтать всякий антисоветский вздор. Богомолов пока ничего четкого не может сообщить о нем…»
Выпивающий и колеблющийся Бунин стоял перед сложным выбором: голодная, но свободная жизнь во Франции или…
Хотел уехать, но боязнь роковой ошибки заставляла быть нерешительным.
* * *
В июне 1946 года русскую эмиграцию всколыхнул указ: «Правительство СССР приняло решение, дающее право каждому, кто не имел или потерял гражданство СССР, восстановить это гражданство и таким образом стать полноправным сыном своей Советской Родины… В годы Великой Отечественной войны большая часть русской эмиграции почувствовала свою неразрывную связь с советским народом, который на полях сражений с гитлеровской Германией отстаивал свою родную землю».
Некоторые пожелали перейти в советское гражданство. Так, во Франции советское гражданство получили одиннадцать тысяч человек. На родину отправились лишь две тысячи.
Почти всех их ожидали концлагеря. Долгие десятилетия торжествовала сталинская логика (или еще существует?), по которой русский человек, поживший на Западе, не может не быть врагом СССР.
Русских, вернувшихся на родину, продолжали сажать в концлагеря и при «демократе» Хрущеве – еще в пятидесятые годы (я сам знал нескольких таких). Обвинение было стандартным: «восхвалял буржуазный образ жизни». Если на родину тебя привела любовь к ней, то отправляйся в Мордовию или Пермскую область. И только на «строгий режим», ибо совершил «особо опасное государственное преступление». Вот такая хрущевско-сталинская логика!
2
Но были исключения – когда фигура возвращенца была заметной или ему удавалось сохранить тесные связи с Западом. В Кремле огласки боялись.
К таким исключениям относился и Сосинский, обосновавшийся в конце концов на Ленинском проспекте в Москве. Мне доводилось бывать в его крошечной квартирке, где вокруг гостеприимного и вечно жизнерадостного хозяина толпились известные писатели, актеры, художники, космонавты.
Вот отрывок из рукописных воспоминаний Сосинского:
«Перо мое сейчас обливается кровью… Организация эта называлась „Военная миссия СССР по репатриациям“. Помещалась она в Париже на улице Генерала Апперта, в доме 4. Начальником миссии был подполковник Алексеев. Из первых встреч с ним помню такую сцену в его кабинете, украшенном портретом Сталина.
Молодая, весьма красивая женщина с возмущением говорила:
– В фильме „Цирк“ нам доказывали, что мы можем полюбить любого – желтого, черного, любого иностранца. Это что – пропаганда?
– Да, пропаганда. Вы должны вернуться в СССР без мужа.
– А я без него не поеду.
– Поедете. Если нужно, силой отправим. У нас на такой случай есть договор с Францией. Изменников родины мы не очень жалуем.
…Думаю, что такие сцены разворачивались здесь раз сто в день. Москва слезам не верит.
Что-то с тех пор у меня дрогнуло в сердце. Я себе так ясно представил, как мои ребята, столько лет подвергавшиеся издевательствам немцев, в страшном плену томительно ждали конца войны, ждали, не сложив руки, возвращения на любимую мачеху-родину, для которой они пожертвовали всем, а многие и жизнью своей, как Антоненко, Ковалев, Ершов, Красноперов, как они, бежав из плена (дело нелегкое), яростно боролись с фашистами – и вот финальная награда: „Изменники родины!“
Помню Васева, который на радостях, по случаю столь долго желанной победы заказал себе в Париже (я с немалым трудом раздобыл ему денег на это) мундир советского лейтенанта (в таком чине он попал в плен, само собой разумеется, в составе целой армии, окруженной немцами, – для этого не надо было быть тяжело раненными в бою, как мы все привыкли рапортовать своему начальству). Васев прикрепил к своей груди военный крест, которым наградил его Леклерк.
Мы отпраздновали такое событие в жизни Васева не где-нибудь, а в очень дорогом ресторане „Русский медведь“, где я не раз до войны бывал с Бабелем. Ну а что произошло дальше?
Это я узнал лишь много лет спустя, когда вернулся на родину в 1960 году. Как только такой порядочный и счастливый лейтенант советской армии вошел в поезд, уходивший из Парижа в Москву, на него с яростью набросились черти с вилами, сорвали золотые погоны – их было труднее всего сделать парижскому портному, оторвали с груди военный крест с мечами и разорвали документы на двух языках, в которых французы перечисляли его подвиги и на изготовление которых я, старый дурак, столько времени и сил потерял в приемных парижских нотариусов.
Откуда у этих чертей такая ненависть к соотечественникам за рубежом, ими же освобожденным в победный час от фашизма?!
Прости, Господь, сим неразумным, подпавшим под власть тьмы».
Приведу еще одно свидетельство – А. Солженицына:
«Из Франции их с почетом, с цветами принимали в советские граждане, с комфортом доставляли на родину, а загребали уже тут. Более затяжно получилось с эмигрантами шанхайскими – туда руки не дотягивались в 45-м году. Но туда приехал уполномоченный от советского правительства и огласил Указ Президиума Верховного Совета: прощение всем эмигрантам! Ну как не поверить? Не может же правительство лгать! (Был ли такой указ на самом деле, не был, – органов он во всяком случае не связывал.) Шанхайцы выразили восторг. Предложено им было брать столько вещей и такие, какие хотят (они поехали и с автомобилями – это родине пригодится), селиться в Союзе там, где хотят; и работать, конечно, по любой специальности. Из Шанхая их брали пароходами. Даже судьба пароходов была разная: на некоторых почему-то совсем не кормили. Разная судьба была и от порта Находки (одного из главных перевалочных пунктов ГУЛАГа). Почти всех грузили в эшелоны из товарных вагонов, как заключенных, только еще не было строгого конвоя и собак. Иных довозили до каких-то обжитых мест, до городов, и действительно на 2–3 года пускали пожить. Других сразу привозили эшелоном в лагерь, где-нибудь в Заволжье разгружали в лесу с высокого откоса вместе с белыми роялями и жардиньерками. В 48–49-м годах еще уцелевших дальневосточных реэмигрантов досаживали на-подскреб».
3
Бунин решил вернуться на родину. Он зачастил на рю Гренель – в советское посольство. Здесь имел несколько бесед с послом А. Е. Богомоловым – с глазу на глаз. Содержание бесед – по уговоренности – не фиксировалось. Но о чем они говорили, догадаться несложно – об условиях возвращения.
Бунин хотел немногого: издать собрание сочинений да нормальные бытовые условия.
И как по заказу получил открытку Телешова от 11 октября 1945 года. Тот заманчиво писал: «Дорогой мой, откликнись, отзовись! Наша Родина, как тебе известно, вышла блестяще из труднейших условий войны и всяких потрясений. У нас все прочно и благополучно. Когда вернулись к нам Алексей Толстой, и Куприн, и Скиталец, они чувствовали себя здесь вполне счастливыми.
Шаляпина и Рахманинова у нас чтут и память их чествуют. Таково отношение у нас к крупным русским талантам».
Намеки были ясными, как летнее небо в Париже.
Бунин отвечал – через советское посольство, не доверяя скромности французской почты. Завязалась переписка.
Телешов продолжал гнуть свою (или, вероятней, не совсем свою) линию: «К тебе везде отношение прекрасное.
Твою открытку ко мне всю затрепали – так интересуются тобой и ждут. Между прочим, очень важно, что Государственное издательство печатает твои рассказы, около 20–25 листов. Это очень значительно и приятно».
На крючок прицепили вроде заманчивую приманку. Но дело делалось по-советски, то есть шаляй-валяйски.
Бунин гневно отвечал:
«Я называю это дело ужасным для меня потому, что издание, о котором идет речь, есть, очевидно, изборник из всего того, что написано мною за всю мою жизнь, нечто самое существенное из труда и достояния всей моей жизни – и избрано без всякого моего участия в том (не говоря уже об отсутствии моего согласия на такое издание…).
Я горячо протестую против того, что уже давно издано в Москве несколько моих книг (и в большом количестве экземпляров) без всякого гонорара мне за них…[13]13
По моим подсчетам, только в 1920-е годы в СССР вышло как минимум семь книг И. А. Бунина.
[Закрыть] – особенно же горячо протестую против этого последнего издания, того, о котором ты мне сообщил; тут я уже прямо в отчаянии, и прежде всего потому, что поступлено со мной (который, прости за нескромность, заслужил в литературном мире всех культурных стран довольно видное имя) как бы уже с несуществующими в живых и полной собственностью Москвы во всех смыслах: как же можно было, предпринимая издание этого изборника, не обратиться ко мне, хотя бы за моими советами насчет него, – за моими пожеланиями вводить или не вводить в него то или другое, за моими указаниями, какие именно тексты моих произведений я считаю окончательными, годными для переиздания!
Ты сам писатель, в Государственном издательстве ведают делом люди тоже литературные – и ты и они легко должны понять, какое великое значение имеет для такого изборника не только выбор материала, но еще и тексты, тексты! Я даже не знаю, известно ли в Москве, что в 1934–1935 гг. вышло в Берлине в издательстве «Петрополис» собрание моих сочинений, в предисловии к которому (в первом томе) я заявил, что только это издание и только его тексты я считаю достойными (да еще некоторые произведения, не вошедшие в это издание и хранящиеся в моих портфелях, – для следующего издания); заявил еще и то, сколь ужасны мои первые книги издания Маркса, безжалостно требовавшего от покупаемого им автора введения в его издание всего того ничтожного, что называется произведениями «юношескими» и чему место только в приложении к какому-нибудь посмертному академическому изданию, если уже есть надобность в таких приложениях.
В конце концов вот моя горячая просьба: если возможно, не печатать совсем этот изборник, пощадить меня; если уже начат его набор, – разобрать его; если же все-таки продолжится это поистине жестокое по отношению ко мне дело, то по крайней мере осведомить меня о содержании изборника, о текстах, кои взяты для него, – и вообще войти в подробное сношение и согласие со мной по поводу него.
Эти письма (тебе и Государственному издательству) я посылаю при любезном содействии Посольства СССР во Франции. Дабы ускорить наши сношения, может быть, и вы найдете возможным немедленно ответить мне тем же дипломатическим путем».
Занимавший в те годы ответственный пост в Союзе писателей СССР Михаил Аплетин рассказывал мне: «С Буниным я находился в деловой переписке и успел отправить ему аванс – валютой». Но и это не помогло. Наживка сорвалась. Набор книги пришлось рассыпать, издание не состоялось.
* * *
Жил Бунин не в безвоздушном пространстве: каждый его шаг, каждое заявление для газеты, порой просто неосторожное слово, сказанное публично, – все это замечалось и фиксировалось теми, кому это надлежало делать по должности.
И не только на Лубянке в Москве. У эмиграции было свое НКВД, свои берии и ежовы.
За нобелевским лауреатом бдительно следили с обеих сторон. По-разному эти стороны расценили и посещения советского посольства, и то, что он не отклонил тост Богомолова – «За Сталина!» и дал интервью для «Русских новостей» – просоветской газеты, начавшей выходить в Париже.
Корреспондент спросил:
– Как вы, господин Бунин, относитесь к указу советского правительства о восстановлении гражданства?
Бунин сказал то, что думал:
– Двух мнений об этом акте быть не может. Конечно, это очень значительное событие в жизни русской эмиграции – и не только во Франции, но и в Югославии и Болгарии. Надо полагать, что эта великодушная мера советского правительства распространяется и на эмигрантов, проживающих и в других странах.
И это одобрение было неосторожно…
4
В июле прилетел в Париж Константин Симонов. Популярность его была чрезвычайной. Вся русская эмиграция читала наизусть, повторяла как заклинание «Жди меня, и я вернусь…», цыганский ансамбль знаменитого Полякова переложил стихи на романс и исполнял его с такими коленцами и загибами, что публика в зале рыдала и плакала, щедро посыпая сцену франками.
Симонов, по его же признанию, имел важное задание: «душевно подтолкнуть» нобелевского лауреата к возвращению домой. Дело для советского правительства было особой важности.
…Они явно понравились друг другу и, встречаясь, каждый раз договаривались о новом свидании.
– Давайте завтра пообедаем! – предложил Симонов.
– Где? У нас разные рестораны – по финансовым возможностям.
– У меня только что вышли во Франции две книги, так что гулять можно широко! – рассмеялся Симонов. – Где у вас лучше кормят?
Бунин приятно удивился:
– Однако!.. Тогда, быть может, в «Лаперузе»?
На другой день согласно договоренности они сидели в сиявшем зеркалами, хрустальными люстрами и прочей роскошью «Лаперузе», расположившемся на набережной Сены. Обедали под любопытными взглядами публики, узнавшими российских знаменитостей.
К столу с поклонами подкатил русский ресторатор, развернул салфетку, достал замшелую бутылку:
– Наш комплимент дорогим гостям – «Моет-э-Шандон»-с урожая благословенного 1923 года!
Не спеша смакуя дорогое шампанское, они, не сговариваясь, наконец решили говорить с полной откровенностью.
Симонов еще ни разу не заикнулся о причинах своего внимания к Бунину. Но тот и сам все понимал. Ему надоело играть в молчанку, он посмотрел в глаза знатному гостю:
– Константин Михайлович, вам, полагаю, легко догадаться, о чем я неотступно размышляю уже долгие годы.
Симонов наклонил голову:
– Конечно, Иван Алексеевич. Ваше желание вернуться на родину естественно и нравственно. Наша власть поддерживает писателей. Пусть я не покажусь вам нескромным, но у меня две секретарши, рабочий кабинет дома, другой – в Союзе писателей, автомобиль. Книги выходят громадными тиражами, и гонорары у нас высокие.
Бунин усмехнулся:
– Вы нужны власти, вот она вас и поддерживает. У нас писатели бедней чистильщиков обуви – у тех хоть заработок регулярный. У Бориса Зайцева нет машинки, у Зурова – минимума для нормальной жизни, ваш покорный слуга не имеет возможности поехать в санаторий, полечить бронхит. – Вздохнул. – Мне очень хочется домой. Я устал от чужой речи, от чужих нравов, от унизительной роли апатрида, от бедности.
– Желание справедливое.
– Но не поздно ли? Я уже стар, из близких друзей остался один Телешов, да и тот как бы не помер, пока приеду. Боюсь почувствовать себя в пустоте… А заводить новых друзей в моем возрасте поздно. Может, и впрямь мне лучше любить вас, Россию – издали? А брать советский паспорт и не ехать – это не по мне. Ведь дело не в документах, а в моих чувствах…
Симонов раскраснелся от выпитого вина. Он сказал подлетевшему официанту:
– «Флер де шампань брют» есть хорошего качества? Урожай тридцать пятого года? Прекрасно! Несите бутылку, нет, любезный, лучше две…
Бунин улыбнулся:
– Узнаю русский размах. Бутылка этого «Флера» стоит столько, сколько я расходую на жизнь в три месяца. В Москве нынче гуляют по-прежнему, как в мирное время?
– Гуляют, конечно, но особенно размахиваться теперь не принято – сразу возьмут на заметку. Россия, милый Иван Алексеевич, переменилась. Война тяжело легла на плечи советского народа. Я ходил по Парижу и удивлялся вашей роскошной жизни – так быстро сумели прийти в себя!
– Нет, Константин Михайлович, по сравнению с довоенным Парижем нынче бедность вопиющая.
Симонов подумал: «Нам бы такую бедность!» – но сказал другое:
– Гляжу я, Иван Алексеевич, на вас, как на какое-нибудь чудо! Для меня вы классик, словно сошедший со страниц хрестоматий прошлого века. Вы дружили с Чеховым, переписывались с Толстым. Ведь это совсем другая эпоха! Тот же Толстой ребенком видел самого Пушкина!
Бунин живо откликнулся:
– Это еще что! Помню действительно потрясающую встречу. Я был избран в академики и новичком приехал на заседание. Сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Около меня осталось пустовать место.
Заседание началось, и тогда двери распахнулись и вприпрыжку вбежал хилый, сгорбленный старичок, опиравшийся на костыль. Ну истинно живые мощи! Я не знал, кто это, но выяснилось – это знаменитый физик и химик Николай Николаевич Бекетов, родившийся во времена, когда Пушкин был совсем юным. Я поразился его одеянием – какой-то странный белый балахон, похожий на ночную сорочку.
Впрочем, сей странный туалет никого не смутил: почет ему был оказан чрезвычайный. Все приветствовали его стоя. Проковыляв по конференц-залу, академик уселся со мною рядом.
Надо сказать, что в академии мы были чрезвычайно вежливы и почтительны, иначе как «ваше превосходительство» друг друга не называли.
Старичок мой прищурился, кашлянул и наклонился ко мне: «Опоздал я сегодня – страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такой же ливень был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок тогда я и простудился… А вы?» Константин Михайлович, вы можете представить мое состояние: Бекетов говорил о похоронах Крылова, а они состоялись в 1844 году!
Симонов рассмеялся:
– Пройдет время, и какой-нибудь нынешний юнец с восторгом станет вспоминать: «Я однажды видел самого Бунина, он мне свой автограф оставил!» И еще на аукцион автограф этот выставит, большие деньги сорвет. Иван Алексеевич, какие прекрасные устрицы, вот эту жирную отведайте!
* * *
Симонов с симпатией и даже некоторым восторгом глядел на живого классика. Посланца Кремля мучили мысли противоречивые. Он ехал в Париж с твердым намерением выполнить задание важных товарищей – переманить Бунина на родину. Но вот теперь, соприкоснувшись с этим необыкновенно талантливым и много страдавшим человеком, Симонов испытал душевные колебания. Он отчетливо представил советские несуразности, с которыми старый писатель на каждом шагу будет сталкиваться в СССР: постоянная и оскорбительная слежка, доносы соседей и собратьев по перу, отслеживание каждого шага и прослушивание каждого слова вчерашнего белоэмигранта, невозможность съездить за границу, даже для лечения…
Бунин будет страшно страдать, и боль от потери свободы не возместят ни бесплатные путевки в Коктебель, ни ресторан в Доме литераторов на Поварской, ни крошечная (по парижским меркам) квартирка в писательском доме в Лаврушенском переулке. И причиной всех этих мучений станет Симонов? Нет, только не это!
Симонов положил руку на сильную, в синеватых прожилках кисть Бунина, внимательно заглянул ему в лицо, неожиданно спросил:
– Иван Алексеевич, вы ведете личный дневник?
У Бунина потянулись вверх брови:
– Разумеется! А что?
– Можно вас просить: не писать в дневник и никому не сообщать содержания наших бесед? Я могу положиться на вас? Мне хочется быть с вами предельно откровенным.
Бунин чуть побледнел, вилка выпала из руки.
– Да, Константин Михайлович… слово чести!
– Иван Алексеевич, надо быть готовым не только к этим сложностям. Наша страна сильная, могучая. Сталин заботится о лучших писателях. Но положение вчерашнего эмигранта поставит вас в особый ряд. Я уверен, что встретят вас как героя. Но я вовсе не уверен, что уже через месяц-другой не начнутся проблемы…
– С цензурой, что ль?
– И с ней тоже. Настроение наших властей меняется быстро. На возвращенцев принято смотреть как на шпионов. Это дикость, но она реально существует. Многие из вернувшихся прямиком направляются в Сибирь – в лагеря.
Они выпили еще и еще, но настроение стало тяжелым. Бунин подавленно произнес:
– Спасибо, Константин Михайлович, за ваш честный совет. Я отлично представляю, на какой подвиг вы пошли. – Пожевал маслину. – Нет, я не поеду, не поеду на старости лет… это было бы глупо с моей стороны… Нет, я не Куприн, я этого не сделаю. Но вы должны знать, что двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года я, написавший все, что я написал до этого, в том числе «Окаянные дни», я по отношению к России и к тем, кто ею нынче правит, навсегда вложил шпагу в ножны, независимо от того, как я поступаю сейчас.
Симонов почувствовал облегчение, он предупредил, его совесть теперь была чиста. Желая разрядить обстановку, сказал:
– Но, Иван Алексеевич, интерес к вашему творчеству в СССР велик! За вашими книгами настоящая охота в букинистических магазинах.
– Вот это и жаль – только в антикварных лавках! А я ведь пишу для народа, для русского народа…
– Мне скоро уезжать, Иван Алексеевич! Где устроим мои проводы, в какой ресторан вас пригласить?
– Нет, довольно, – решительно заявил Бунин. – Наоборот, пора мне вас пригласить к себе. – Погрустнел. – Правду сказать, наш быт теперь таков, что и гостя принять нет возможности.
Симонов попросил:
– А давайте, Иван Алексеевич, все сделаем на коллективных началах: ваша территория, мой провиант…
– Пожалуй, – охотно согласился Бунин.
* * *
В те дни в Париже проходила конференция четырех министров союзных держав. Между Парижем и Москвой ежедневно курсировали самолеты. Симонов, расставшись с Буниным, сразу поехал в гостиницу, к советским летчикам. Они как раз летели в Москву, Бунина не читали, но рады были помочь знаменитому Симонову.
– Ребята, держите деньги, выполняйте правительственное задание!
Симонов объяснил им суть дела и дал записку в Москву. Летчики передали записку домашним Константина Михайловича. В Елисеевском магазине (он был тогда коммерческим, торговал по высоким ценам, но зато без карточек) накупили сугубо отечественной снеди: громадных сельдей – залом, черный хлеб, калачей, любительской колбасы и прочего. Все это на второй день было доставлено в Париж, а затем – домой Бунину.
Ивана Алексеевича все это растрогало. Он ел колбасу и приговаривал:
– Да, большевистская колбаска хороша!
Гостями Бунина были Тэффи и понравившийся Симонову Адамович, «один из самых умных литературных людей в эмиграции», как позже он писал. Надежда Александровна вновь пела под гитару, а Симонов читал стихи. Очень душевной была обстановка, вечер прошел как нельзя лучше.
На прощание именитый гость обнялся с классиком, сказал:
– Еще раз, Иван Алексеевич, все обдумайте и примите решение!
– Пожалуй, я свой выбор уже сделал – в феврале двадцатого года! И спасибо вам, мой друг! Лучше тосковать по родине на берегах Сены, чем таскать тачки на родной Колыме.
* * *
Миссия Симонова завершилась – он улетел в Москву.
В своих воспоминаниях (содержащих немало фактических ошибок, но верных по сути – об этом я писал в романе «Холодная осень») Константин Михайлович поведал: «Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении. Мысль о поездке его пугала и соблазняла».
Советское посольство Бунин больше не посещал, о желании вернуться в дневнике и письмах не писал.
И еще нечто весьма примечательное: тут же, по отъезде Симонова, Бунин вдруг начал уничтожать какие-то бумаги.
Вера Николаевна не утерпела, спросила:
– Ян, что случилось?
Бунин строго погрозил пальцем:
– Любопытной Варваре… Помнишь, за что ей нос оторвали? За любопытство.
Продолжает – с малой интенсивностью – переписываться с Телешовым, последнее бунинское письмо помечено 15 сентября сорок седьмого года.
В этих письмах он восхищается творчеством А. Твардовского и К. Паустовского, но больше пишет о своей нищей старости да бронхите, об остром малокровии и ужасной одышке. За каждой строкой читается неизбежная мысль о скором «освобождении».
Осенью сорок шестого года Николай Рощин, осведомитель НКВД, уехавший навсегда в СССР, заявил в своем интервью: «Замечательный писатель Иван Бунин тоже собирается в Россию». По Парижу полз злобный шепот: «Предатель!»
Зато в Париж из США приехал старый друг – Мария Самойловна Цетлина. Она была в курсе всех событий и всех разговоров, как говорят профессиональные разведчики – «владела обстановкой».
Не без раздражения она заявила Бунину:
– Раз вы без России жить не можете – уезжайте. Правда, я не уверена, что вы получили бы дворец у Никитских ворот, как ваш друг Пешков, но в Сибирь угодили бы наверняка. Или какие-нибудь «евреи-вредители» (ведь известно, что почти все вредители в СССР – евреи!) насыпали бы вам порошок в кашку. Вредителей, понятно, разоблачили бы, а вас с почестями похоронили на Новодевичьем. – И она в сердцах повернулась к Вере Николаевне, которая смотрела на нее с обожанием: только что гостья преподнесла ей дорогие подарки – несколько платьев, осенние туфли, отличное нижнее белье.
Впрочем, в отношениях с Иваном Алексеевичем трещины у Цетлиной не возникло. Она очень о нем заботилась, предложила организовать подписку денег в его пользу (врачи настаивали на поездке Бунина на юг), но он отказался: «Нет, я стыжусь. К тому же сейчас все русские в Париже живут бедно!»
Иногда с шутливой укоризной спрашивала:
– Говорят, вы много шампанского стали пить? Осторожней, этот напиток для почек не очень хорош. Ну а Симонов как, не записал вас в большевики? Уж вы с ним прямо-таки друзьями стали.
Она часто навещала Буниных. Каждый раз приносила подарки – американскую рубашку с пуговицами на воротничке (батендаун), сигареты «Кэмел», мягкие ботинки без шнурков (мокасины), несколько отличных галстуков. Расстались они в конце ноября друзьями. Вера Николаевна даже всплакнула, а Мария Самойловна неожиданно блеснула эрудицией.
– Помните, Иван Алексеевич, – говорила она, ласково глядя Бунину в лицо, – Толстой сказал: «В случаях сомнения – воздерживайся!» Послушайте этого мудрого человека. Воздержитесь от необдуманных шагов. А ваши друзья в США вас не забудут. Если не хотите ехать к нам, то мы станем оказывать вам помощь здесь. Не дадим вам пропасть!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































