Текст книги "Катастрофа. Бунин. Роковые годы"
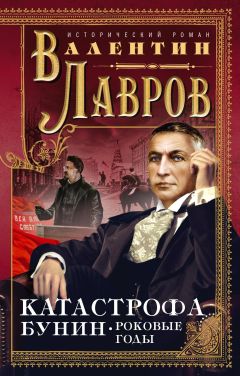
Автор книги: Валентин Лавров
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
«Несладко живется русскому эмигранту на чужбине. Изнеможенные, голодные, больные, без денег, без возможности найти работу, без права выбирать местожительство по своему усмотрению, – русские беженцы производят жалкое гнетущее впечатление.
Комиссионные магазины завалены их вещами. Вы увидите здесь на полках все, вплоть до обручальных колец и нательных образков. Продажа таких вещей указывает на голод в буквальном смысле этого слова.
Кроме этой ужасающей нищеты, русский беженец переживает всяческие унижения и оскорбления. Даже женщины не избавлены от них…»
* * *
Бунин, всегда близко к сердцу принимавший чужую беду, не уставал читать эти страшные известия.
Вот и на этот раз он обратился к жене:
– Какой страшный грех взяли на душу те, кто развязал Гражданскую войну. Эмиграция и беда – понятия неразрывные! Каждый раз убеждаюсь в этой истине, читая печальную хронику.
– Но мы, слава Создателю, устроились неплохо…
– Эту нищенскую, унизительную жизнь ты одобряешь? «Неплохо…» Хуже живут только собаки.
– Все-таки мы в Париже!
Бунин с досадой поморщился. Ну как Вере объяснить, что «столице мира» он гораздо охотней предпочел бы захолустное Глотово. Ловил бы с попом жирных карасей в пруду, ел бы уху под водочку, ругал правительство, писал стихи, бродил бы по живописным окрестностям, флиртовал с юными пейзанками. Поселил бы у себя Юлия. И рад был бы прожить там до скончания дней своих. Да чем Вера виновата, что надо пребывать в чуждом окружении, приютившем его, не обойденного Господом талантами, в бедности, в неизвестности относительно дня завтрашнего, ежедневно, ежечасно ощущать на себе покровительственно-высокомерное отношение французов!
Ничего этого не сказал Иван Алексеевич. Лишь нежно обнял слабые плечи жены, шутливо поцеловал ее кончик носа:
– Конечно, нам еще повезло! Сейчас, правда, Saison Morte – мертвый сезон…
– Лоло хорошо назвал его – «сезон морд»!
– Ну да, этот самый сезон провели бы мы с тобой в Венеции. Или на Маркизовых островах. Ау, где ты, наша сумочка с бриллиантами?
И они улыбнулись.
– Раз Париж, то пойдем гулять! – заключил Бунин. – Мы так мало бываем вместе на его древних улицах. Как Бодлер писал о Париже? – С пафосом воскликнул: – «Там красота царит, там лишь порядок властен, там роскошь благостна, там отдых сладострастен». Вперед на сладострастный отдых!
5
В первое же лето массового беженства, пришедшегося на двадцатый год, вся эмигрантская нищета вылезла наружу.
Французы со свойственной им заботливостью о здоровье суетились с баулами, сумками, чемоданами, детьми, женами и нянями на парижских вокзалах – Лионском, Северном, Восточном, Монпарнасском, Аустерлицком и Сен-Лазарском.
Разъезжались богатые, разъезжались бедные – на все четыре стороны – лишь бы быть «на лоне природы».
Закрывались предприятия, заводы, пустели театры, кафе, рестораны. Жизнь в Париже замирала до осени.
И оживляли столицу лишь невольные горожане – русские. Они мыли чужие авто и чужие витрины, латали чужие штиблеты и подметали мостовые. Они стали рабами на чужой сторонушке. На них никто не вешал кандалы. Но и вырваться они не могли – некуда!
В «Последних новостях» появилась юмореска Тэффи «Мертвый сезон»:
«Все разъехались. По опустелым улицам бродят только обиженные, прожелкшие морды, обойденные судьбой, обездоленные.
– Ничего, подождем. Когда там у них в Трувиллях все вымоются, и в Довиллях все отполощатся, и в прочих виллах отфильтруются, когда наступит там сезон морд, тогда и мы туда махнем! У всякой овощи свое время. Подождите – зацветет и наша брюква!
…Морды прожелкшие, обиженные, обойденные судьбой ходят по опустелым улицам, дают друг другу советы, смотрят в окна магазинов на выгоревшую дешевку, празднуют свой сезон».
6
Бунин шел по опустелым улицам. Час был ранний. С Сены подымался голубоватый туман и медленно таял в розовом воздухе. Вечные удильщики недвижно замерли на гранитных сходнях. Какой-то бедняк спал на скамейке, накрывшись газетами. Краснолицый полицейский – ажан – равнодушно прошел мимо. Запоздалые влюбленные, держась за руки, возвращались после счастливой ночи. Через каждые двадцать шагов они надолго замирали в поцелуе.
Кое-где начинали раскладывать свой заманчивый товар букинисты. Они, эти чудаковатые, одержимые страстью к раритетам люди, составляют часть экзотического лица Парижа. «Холодные торговцы» появились здесь еще в семнадцатом столетии. Легко представить, какие сокровища лежали на парапетах вдоль Сены! Древние рукописи, первопечатные шедевры Гутенберга, Эльзевиры, латинские стихи Этьенна Доле – дух замирает!
Людовику XIV почему-то не понравились на этом месте торговцы раритетами, он разогнал их. И все же они, букинисты, пережили все указы и гонения. И в нашем веке они стоят на тех же местах, в тех же позах, как и триста лет назад. И прав, конечно, Анатоль Франс: «Так как Сена – подлинная река славы, то выставленные на набережных ларьки с книгами достойно венчают ее…»
Бунин любил рыться в развалах, среди этих книг отыскивая русские издания. Спроса на них почти не было, поэтому за сущие пустяки можно было порой купить интересную книгу.
(Упоминавшийся Александр Яковлевич Полонский рассказывал мне, как в крошечной букинистической лавочке на берегу Сены однажды за символическую плату приобрел… автограф А. С. Пушкина – беловой экземпляр стихотворения «На холмах Грузии».) На этот раз взгляд Бунина выхватил из книжного вороха кожаный корешок с золотым тиснением: «Гоголь».
Он взял в руки увесистый том. На титульном листе прочитал: «Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников. Пополненное по рукописи автора. Том третий». И выходные данные: «Москва, типография А. И. Мамонтова, Армянский переулок, № 14. 1867 год».
Милый Армянский переулок! Сколько раз здесь бывал Бунин, сколько раз видел этот старинный особнячок под номером 14, в котором когда-то размещалась типография.
Рядом, в какой-то полсотне шагов, в Кривоколенном, был двухэтажный дом. В него, как гласила молва, часто заходил сам Пушкин к своему близкому, рано умершему другу Дмитрию Веневитинову. Айхенвальд как-то рассказывал, что именно здесь поэт впервые читал главы из «Бориса Годунова».
Бунин листал книгу и с удовольствием обнаружил с юности не перечитывавшиеся «Выбранные места из переписки с друзьями».
– Сколько стоит? – спросил Бунин, про себя решив, что книгу можно приобрести франков за пять – семь.
Старуха, сидевшая на складном стульчике и зябко кутавшаяся в черную с бахромой шаль, оценивающе посмотрела на элегантного покупателя в дорогом костюме и свежей рубашке.
Старуха решительно мотнула головой:
– Пятьдесят франков!
Бунин усмехнулся:
– Почему не пятьдесят тысяч? – Книгу все же приобрел, опустошив портмоне. (Шесть с небольшим десятилетий спустя секретарь Бунина А. В. Бахрах переслал томик Гоголя в Москву, испещренный пометами Ивана Алексеевича.)
Изрядно побродив по городу, Бунин двинулся домой. Он поднялся на рю Бонапарт, затем спустился по рю Сен-Пер. Он любовался витринами, на которых можно было найти абсолютно все – от подзорной трубы, принадлежавшей якобы адмиралу Нельсону, до кружки, из которой пил молоко – по уверению владельца лавчонки! – сам Робеспьер.
* * *
Еще тридцать три года – всю оставшуюся жизнь! – Бунину предстояло провести в этом городе. Он бродил по Марсову полю и Елисейским полям, полюбил Большие бульвары и Латинский квартал, Монмартр и совсем крошечную рю Жак Оффенбах в 16-м арондисмане, улочку, которую даже не на всех картах Парижа изображают и на которой в доме номер 1 ему предстояло отдать Богу душу.
Он полюбил этот город с его роскошными дворцами – Бурбонским и Луврским, с собором Нотр-Дам, Оперой, Пантеоном, с построенным на пари миниатюрным дворцом Багатель в Булонском лесу, золотыми трюфелями на куполе Дома инвалидов, с Вандомской колонной, отлитой из трофейных пушек, захваченных Наполеоном при Аустерлице, с древними монастырями, опутанными сетью бедных, заросших густой зеленью улочек.
Но в последний день жизни он повторит:
– Если бы пройтись по Арбату или день прожить в Глотове!
Загадочна русская душа…
Ветер истории
1
1920 год шел на убыль. Как верстовые столбы на проезжем тракте, мелькали события – исторические и пустяковые.
В июле стало известно, что Юзеф Пилсудский готовится начать мирные переговоры с Советской Россией.
Это весьма переполошило Мережковского. Дмитрий Сергеевич и его супруга Гиппиус были «за интервенцию».
Мережковский обратился с приватным письмом к Пилсудскому. Но содержание письма неведомыми путями дошло до газетчиков (не с помощью ли самого Пилсудского, человека строгой морали?). Весь русский Париж содрогнулся от хохота, прочитав в газетах послание Дмитрия Сергеевича.
Бунину, во всяком случае, оно доставило много веселых минут.
Дмитрий Сергеевич начал послание задушевно:
«Господин Начальник Государства! Пишу Вам потому, что люблю Ваш народ особой любовью, какой его не любят другие… Я не решился бы обратиться к Вам, если б не твердая уверенность в том, что обращаюсь не только к Великому Вождю великого народа, но к кому-то большему, кто не всем еще известен: к единственному человеку в Европе, который в состоянии отразить самую большую опасность, какая когда-либо угрожала культурному миру, так как отразить ее может только тот, кто углубит внутреннее содержание повседневных явлений…
Я – писатель. Писатель среди народа это – как птица в воздухе, легкая, слабая, но возносится выше и видит дальше, чем сильные и пассивные».
Далее шло нечто скромненькое:
«…Если я имею талант, какой приписывают мне мои читатели, то, может быть, видел в этом государстве то, чего не видели другие, заметил то, чего другие не заметили… Все это побудило меня обратиться к Вам, Господин Начальник Государства, с просьбой о свидании, хотя знаю, как дни Ваши обременены трудом».
Пилсудский полтора часа слушал птицу от литературы, но мирные переговоры с большевиками все равно начал. Случилось это 7 августа. Восемнадцатого октября военные действия были прекращены.
Забавное совпадение! Еще в январе того же двадцатого года Пилсудский пригласил к себе на службу Бориса Савинкова. В тот же день, когда Мережковский давал советы Начальнику Государства, в гостиницу «Брюлевская», в номер, который занимал Савинков, забрались злоумышленники. Далее – газетная хроника:
«Была совершена крупная кража. При помощи подобранного ключа вскрыт несгораемый шкаф. Похищено 500 тысяч царскими рублями, 8 миллионов польских марок, 40 тысяч франков и на 24 тысячи царских золотых рублей, а также драгоценности, документы, переписка с Пилсудским. Розыски полиции не увенчались успехом».
Ах, эти революционеры! Не сеют они, не пашут, а мешки с золотом имеют. Откуда? Вот благодатная тема, ждущая своего исследователя.
* * *
Предвижу вопрос читателя: чем занимался Савинков в Польше? Военными делами вообще, а в частности – формировал в составе войск Пилсудского подразделения Булак-Балаховича. Кстати, этот крестьянский сын прошел путь от скромного штабс-ротмистра до генерал-майора. Как и Махно, воевал на стороне большевиков, но, разочаровавшись в них, перешел на сторону белых. Отличался стратегической мудростью и исключительной личной храбростью.
В 1940 году пятидесятишестилетний Станислав Никодимович был убит в Варшаве неизвестным. Что ж! Еще один факт для любителей политических загадок.
Пришла весть, что большевики надругались над могилой доблестного генерала Лавра Георгиевича Корнилова.
Борис Мирский, задыхаясь от эмоций, выступил со статьей «Красное и черное» в «Последних новостях». Русские люди качали головой, читая:
«Из России бегут без оглядки уже не люди одного какого-нибудь партийного катехизиса, даже не одного класса, бегут разные и непохожие, богатые и нищие, славные и безвестные, – течет многообразный поток русского изгнания, оседая в крупных европейских центрах…
Эта новая русская эмиграция слишком разнокачественная, и ее нельзя суммировать, нельзя обобщать. Если внимательно присмотреться к быту эмигрантов, к их нравам, то это непривлекательное зрелище… Психологическая природа вынужденного пребывания на чужбине, при всем внешнем материальном различии, как это ни странно, почти одна и та же: мелочный и злобный провинциализм, уездная атмосфера взаимных пересудов, интриганство; сплетня, внесенная в порядок общественного дня. Бесталанная и позорно похоронившая себя „соль земли“ старого строя, реакционеры, перебивающиеся политическими интригами и черносотенством, томительно надеющиеся на далеких генералов».
В Берлине с лекцией выступил Антон Иванович Деникин, еще в апреле сложивший с себя звание Верховного правителя Южнорусского правительства и объявивший своим преемником Врангеля. Сам Деникин на английском эсминце отправился в эмиграцию.
Замирение Пилсудского с Троцким дало возможность большевикам обрушить все свои силы на армию Врангеля, раздерганную, распропагандированную, где рядом с геройским самоотвержением соседствовали малодушие и предательство.
2
Владимир Бурцев, начавший с увлечения террором и призывами к цареубийству, стал знаменитым после своего сенсационного разоблачения Евгения Азефа (правильней – Азева). В Париже с 1920 года Бурцев издавал газету «Общее дело». Он печатал материалы, в которых на основании новых изысканий обвинял большевистскую верхушку в шпионаже в пользу Германии.
Разоблачительную публицистику Владимира Львовича с охотой помещали многие эмигрантские газеты:
«Бурцев напоминает, что начиная с мая 1917 года он формально обвинял Ленина и его многочисленных друзей – Троцкого, Зиновьева и Раковского в сношении с неприятелем и в измене России. Правительство Керенского, пишет Бурцев, осталось глухим к моим обвинениям, давая большевикам возможность продолжать их дело измены. Бурцев заявляет, что он всегда имел полную уверенность в том, что Ленин во время войны поддерживал сношения с Германией… Во время последней поездки в Берлин лицо, занимающее в Германии высокое положение и игравшее во время войны значительную роль, категорически подтвердило убеждение Бурцева в том, что Ленин состоял на службе у Германии и получал от нее деньги. Бурцев пишет: „Я утверждаю, что начиная с августа 1914 года и в сравнительно короткое время немцы передали лично Ленину 70 миллионов марок для организации большевистской агитации в союзных странах. Конференции в Циммервальде и Кентале, которые сыграли такую отрицательную роль в международном социалистическом движении, были организованы Лениным на германские деньги и при помощи германского Генерального штаба. В течение 1915 и 1916 годов Ленин много раз посещал тайком германское посольство в Берне, где агенты Генерального штаба вручали ему деньги и давали инструкции для его дальнейших действий“» (варшавская газета «Свобода», 5 октября 1920 г.).
3
Войска Врангеля отступали к роковой черте – Крыму.
Сорокадвухлетний барон с 11 мая 1920 года стал главкомом русской армии. Лихой наездник, бесстрашно ходивший в первых рядах нападающих на вражеские редуты, успел отличиться еще в войне с японцами. В 1910 году он с блеском окончил Академию Генерального штаба. В Первую мировую получил чин генерал-майора и под свое начало – кавалерийский корпус.
Уже во время Гражданской войны с присущей ему горячностью готов был провести земельную реформу, отобрать землю у помещиков и всю ее передать крестьянам. Склонен был значительно сократить чиновничий аппарат России. Врангель убеждал окружающих:
– Чиновники – страшная беда для России, все равно что саранча для урожая. Чиновники не только поглощают уйму средств, но своими амбициями и бюрократическими структурами, порой похожими на непроходимые болота, засасывают многие полезные дела и начинания.
Высокая стройная фигура Врангеля в черной черкеске весьма напоминала лихого джигита, каким он и был по своей сущности, не только в стратегии, но и в политике. Его несколько странное, удлиненное лицо словно со светящимися волчьими глазами производило сильное впечатление. Во всем: в манере говорить, в нервных и решительных жестах, в повелительном громовом тоне – чувствовался сильный и властный человек.
Ему вечно не хватало времени, он спал по три, по четыре часа в сутки. Врангель очаровывал всех, с кем сталкивался, простотой обращения, ласковой лукавой улыбкой и любовью к России.
– Куда там разным Англиям со всеми их колониями! – уверенно говорил барон. – Богатства наших недр неисчислимы, земли плодородны, а народ, народ какой! Господь, создавая русских, устроил себе пиршество: и трудолюбивы, и умны, и сильны! – И добавлял при этом: – Только правители должны быть достойны такого народа! А с этим у нас не всегда было ладно. Чаще – очень плохо.
Николая Александровича он не любил, считая его безвольным и недалеким. Но чтил его монаршее предназначение.
Как покажет ближайшее будущее, барон и сам оказался далеко не безупречным стратегом и политиком.
– В рядах белых – раздор и шатание, – говорил Врангель. – Надо замириться с Лениным, сохранив при этом южнорусскую государственность. Затем собрать силы и ударить по кремлевским жидомасонам.
В октябре двадцатого года Петр Николаевич развернул боевые действия с целью вывести войска за Днепр, вновь овладеть Одессой и установить связь с Польшей – на Правобережной Украине.
Пилсудский отказался воевать с большевиками, однако позволил Борису Савинкову сформировать на своей территории 3-ю русскую армию. Она насчитывала до 80 тысяч человек. Грозная сила!
Но белые дрогнули под ударами большевиков, наступавших в Северной Таврии. Врангель не сумел организовать отпор. Он отступил к последней черте – на Крымский полуостров.
* * *
Когда эшелоны врангелевских войск переходили через Перекопский перешеек и Сивашский мост, в Севастополе наблюдалось праздничное оживление. Сюда съехались представители торгово-промышленных и финансовых учреждений. Некоторые прибыли даже из Лондона, Парижа и Константинополя.
В ожидании прихода большевиков все чувствовали себя весьма неуютно. Хотелось не обсуждать экономические проблемы, а подхватиться и бежать на раздутых парусах.
Но вот, стуча каблуками по паркету, в проходе зала появился Врангель. Собравшиеся зачем-то устроили ему овацию. Взойдя на сцену, Врангель грозно поднял кулак и крикнул громовым голосом, словно командовал кавалерийским полком:
– Друзья! Не теряйте мужества! Мы отступили, это отступление вызвано стратегическими соображениями! Нельзя держать столь растянутую линию фронта против врагов, намного превосходящих своей численностью. Но подступы к Крыму – броня. Большевики сломают о нее зубы. Слава великой России!
Торговопромышленники крикнули «ура!» и, вполне успокоенные, стали обсуждать очередные реформы.
* * *
Двадцать четвертого октября газеты опубликовали беседу с генералом Слащевым – тоже весьма успокаивающую, как настойка валерьянки: «Укрепления Сиваша и Перекопа настолько прочны, что у красного командования ни живой силы, ни технических средств для их преодоления не хватит… По вполне понятным причинам я не могу сообщить, что сделано за этот год по укреплению Крыма, но если в прошлом году горсть бойцов удерживала крымские позиции, то теперь, при наличии громадной армии, войска всей красной Совдепии не страшны Крыму. Замерзание Сиваша, которого, как я слышал, боится население, ни с какой стороны не может мешать обороне Крыма и лишь в крайнем случае вызовет увеличение численности войск за счет резервов. Но последние, как я уже говорил, настолько велики у нас, что армия сможет отдохнуть за зиму и набраться новых сил».
Все это оказалось, увы, обычным российским бахвальством!
Прошло всего четыре (!) дня, и Врангель подписал указ об эвакуации из Крыма. Не сумев дать большевикам отпор, генералы употребили свои стратегические таланты на организацию бегства.
Этот разгром на всех произвел ошеломляющее впечатление – так он был неожидан.
4
Когда Бунин вернулся после очередной прогулки по Булонскому лесу, Вера Николаевна, встретившая мужа в прихожей, радостно произнесла:
– Ян, а у нас гость дорогой – Оболенский, князь Владимир Андреевич!
Оболенский, уроженец Петербурга, был на год старше Ивана Алексеевича. Когда-то их познакомил на одном из банкетов в петербургском ресторане «Вена» академик Овсянико-Куликовский.
Князь сразу же понравился Бунину. Весь вечер они рассказывали друг другу о себе. Выяснилось: у них не только много общих друзей, но много общего и в судьбах.
Как у Бунина, отец Оболенского был весьма колоритной фигурой. Он учился в училище правоведения вместе со знаменитым К. П. Победоносцевым и дружил с ним, хотя не разделял его политических взглядов. Ближе Андрею Васильевичу были его приятели – славянофилы Аксаковы, Киреевские, Кошелев. Отец служил в Калуге, где участвовал в реформе 1861 года и заслужил репутацию нелестную – «крайнего либерала». Был предан и другой пагубной страсти – карточной. Последняя стоила ему дороже либерализма – он проиграл почти все свое немалое состояние.
Так что среди богатых Оболенских юный Вова считался бедным родственником.
Проигравшись, отец вскоре умер. Он легкомысленно оставил вдову и сына один на один с суровой прозой жизни. Владимир поступил в Петербургский университет, где был учеником Д. И. Менделеева и П. Ф. Лесгафта. (Последний был большим оригиналом. Он завещал родному учебному заведению… собственный скелет. Оный по всем правилам был в котле выварен, скреплен проволокой в суставах и представлен для всеобщего обозрения.)
От отца все же осталось некое наследство духовное: неуемная жажда общественной жизни. Владимир Андреевич стал членом I Государственной думы. В вышедшей в издательстве И. Д. Сытина книжечке, посвященной «портретам и биографиям» участников этого народного представительства, читаем: «Князь Оболенский Владимир Андреевич. Родился в 1869 г. Образование получил в частной гимназии Гуревича и в СПб. университете. Служил в министерстве земледелия (1883 г.). Земский статистик Псковского и Орловского земств (1896 г.). Гласный Таврического губернского собрания и бывший член губернской управы».
И у Бунина отец проиграл большое состояние в карты, и смолоду Иван Алексеевич тоже служил в Орловском земстве и тоже статистиком. Более того, именно в Орле в 1891 году вышла его первая книга – «Стихотворения», напечатанная в типографии газеты «Орловский вестник», в которой молодой Бунин служил с осени 1889 года. Был кем попросят – корректором, автором передовых статей, театральным критиком.
* * *
И вот теперь Владимир Андреевич порывисто обнял давнего друга. Они пили водку, вспоминали Россию.
– Как все-таки произошло крушение Белой армии? – допытывался Бунин.
Оболенский неопределенно пожал плечами:
– В октябре, в канун нашего панического отступления, я побывал у Врангеля. Я высказал сомнение в прочности нашей позиции: «Петр Николаевич, допустим, Крым неприступен. Но выдержит ли армия длительную осаду? Ведь в Северной Таврии погибли запасы провианта, а Крым не в состоянии прокормить двухсоттысячную когорту. К тому же ей просто грозит полное разложение…» «Нет, я имею точные сведения, что наших запасов вполне хватит до марта», – возразил Врангель.
Бунин удивился:
– Как же так? Ведь я сам читал в газетах более поздние заявления Врангеля, что он и не собирался якобы защищать Крым, в его задачу входила успешная эвакуация армии из Крыма.
Оболенский горестно вздохнул:
– Для меня самого остается загадкой поразительная неосведомленность командующих Белой армией о положении в Крыму. Надо только представить, с какой легкостью Красная армия обошла перекопские и сивашские якобы неприступные укрепления! Ведь они действительно, эти укрепления, были отлично оснащены разнообразным вооружением, в том числе и дальнобойными морскими орудиями. Но красноармейцы без всяких затруднений преодолели вброд Сиваш. И почти на том же месте, на котором перешли его по льду весной девятнадцатого года!
– Неужели нельзя было за полтора года укрепить берега Сиваша?
– Вот и я, профан в военном деле, задавал этот же вопрос Врангелю и его окружению. Вразумительного ответа не дождался. Заверения Петра Николаевича о неприступности Крыма стоили в конечном счете жизни тысячам людей, не успевших бежать от большевиков. Вам, Иван Алексеевич, надо лишь представить то, что я увидал в последний свой вечер в Симферополе. Ничто не предвещало надвигающейся опасности. Население, загипнотизированное уверениями о неприступности Крыма, гуляло в кафе и ресторанчиках, сидели семьями за вечерними самоварами, в театрах шли спектакли.
Бунин покачал головой:
– Узнаю нашу российскую беспечность!
– Зато ночью, когда стало точно известно, что большевики подходят к городу, началась страшная паника. Дома были освещены, по улицам громыхали обозы, люди с пожитками неслись в порт – лишь бы вскочить на любую водоплавающую посудину и бежать от убийц.
– А вы?
– Я решил было остаться, чтобы бороться с большевизмом. В борьбу с ними – находясь на другом берегу – я не верю. Но семья убедила меня, что необходимо бежать. Что творилось, господи, представить страшно! Все подлое и низкое, что людьми обычно тщательно скрывается, вылезло наружу. – Оболенский залпом выпил водку, долго сидел не шевелясь, уставившись взором в пол. Потом сказал: – Особенно один случай запомнился. От Симферополя до Севастополя мы с великими муками добирались по железной дороге на санитарном поезде. За нами, буквально по пятам, двигались большевики. Вагоны, понятно, облеплены людьми, словно муравьями: висят на подножках, залезли на крыши, между вагонов – на буфера, рискуя при малейшем толчке полететь прямо на рельсы.
И вот когда мы вручную растолкали на подъеме состав и поезд начал набирать скорость, от соседнего, стоявшего на путях, вагона отделился красномордый, широкий в плечах полковник. Он безуспешно пытался зацепиться за подножку последнего вагона. Одноногий солдат, угнездившийся со своим костылем на подножке, хотел полковнику помочь, протягивал ему руку. Нет, ничего не выходило. Полковник даже ногу не мог укрепить на подножке. А поезд все более набирал ходу.
Бунин, затаив дыхание, слушал рассказчика:
– И что же?..
Оболенский махнул рукой:
– Тот, кто не пережил нашего панического бегства, не поверит тому, что я увидел своими глазами. Полковник, осознав, что за поездом ему не угнаться, вдруг дернул руку, которую доверчиво тянул инвалид. Он свалил одноногого на пути, а сам тут же взобрался на его место.
– Не может быть!
– Эх, Иван Алексеевич, еще как может!
– А вы потом не пытались поговорить с этим полковником?
Бунин подумал, что даже его беженские мучения бледнеют перед теми, что пережил Оболенский. С момента их последней встречи он заметно сдал: голова и бородка стали седыми, изрядно полысел, светлые умные глаза налились непроходящей тоской.
– Нет, я не говорил с полковником. Я вынул браунинг, попросил солдата, сидевшего рядом, крепче держать меня за ноги (я ведь с семьей ехал на крыше), свесился и окликнул: «Эй, полковник!» Тот услыхал не сразу. Я крикнул громче. Когда он поднял лицо и увидал, что я целюсь, у него от ужаса отвисла челюсть. Я прострелил ему череп.
– Разве Врангель не помог вам?
– Он мне очень «помог»! Выдал пропуск для прохода к турецким берегам на транспорте «Рион». Это случилось уже в Севастополе. Когда я спросил дежурного офицера, где стоит «Рион», тот выпучил глаза: «Да „Рион“ еще вчера ушел!»
Совершенно ошеломленный, я не знал, что делать. Вдруг вижу: идет французский офицер без руки.
Я хорошо знал всех офицеров французской миссии, но этого видел в первый раз. Он был весьма красивым брюнетом, с восточным лицом. Я рискнул обратиться к нему: «Я князь Оболенский. Вы не могли бы оказать содействие в размещении на одном из французских судов?»
К моему неописуемому удивлению, французский офицер вдруг ответил мне на чистейшем русском языке: «Князь, я вашу просьбу немедленно передам адмиралу на броненосец «Вальдек Руссо». И не теряйте времени. Побыстрее соберите ваших спутников на Графской пристани. Мы скоро отходим».
Через час, не веря своему счастью, мы причаливали к броненосцу. Еще через час заработали могучие машины – и русский берег стал удаляться. Толпа беженцев стояла на палубе и сосредоточенно глядела на берег, у многих на глазах были слезы. По бухте шныряли лодки, набитые запоздалыми беглецами. Они подходили то к одному, то к другому пароходу, моля взять их на борт. Но эвакуация закончилась, несчастных оставляли на произвол судьбы.
Наш адмирал отдал приказ замедлить ход. Мы подняли на борт несколько человек, которым в Севастополь уже возврата не было. В туманной дали мы различали клубы дыма от вспыхнувших в городе пожаров, явственно слышали пушечную канонаду и пулеметную трескотню…
– Кто же этот таинственный благодетель француз? – полюбопытствовал Бунин.
Оболенский вдруг улыбнулся:
– Вы, Иван Алексеевич, сейчас удивитесь. Этот милейший капитан носит фамилию Пешков. Он приемный сын Горького и родной брат Якова Свердлова, большевистского вождя. Впрочем, он не разделяет политических убеждений сановного родственника. Итак, через Константинополь я добрался до Марселя, а уже оттуда прибыл в Париж.
Бунин поднял рюмку:
– Выпьем за то, чтобы больше никогда на российской земле не было бунтов…
– Бессмысленных и беспощадных, – закончил Оболенский. – Пушкин знал, что говорил! Кстати, я ведь тоже печатался в «Орловском вестнике», в котором память о вас живо сохранилась как о талантливейшем авторе.
Бунин рассмеялся:
– Бронзовую доску еще не прибили: «Здесь творил и девок блудил великий русский писатель…»?
5
Гражданская война, вызванная большевиками, закончилась их победой. Они поймали в свои паруса ветер истории.
В октябре 1920 года великий кормчий революции Ульянов-Ленин успел заверить горячую аудиторию делегатов III съезда комсомола, что мечта всего передового человечества – коммунизм будет построен не позже, чем лет этак через десять, ну, если с по́ходом, то самое позднее – через двадцать. То есть к 1930–1940 годам.
Как писал, сидя на Севастопольских редутах, Толстой, «гладко писано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить!». Боевой задор рассеется, а овраги останутся.
Но пока что толпой овладели идеи Маркса – Ленина, а чуть попозже и мудрого, родного и любимого Сталина – на несколько десятилетий.
Железной ленинской рукой миллионы россиян, не успевших разбежаться из дорогого отечества, были направлены – кто прикладом, кто штыком, а многие миллионы и через концлагеря! – к сияющим вершинам коммунизма.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































