Текст книги "Катастрофа. Бунин. Роковые годы"
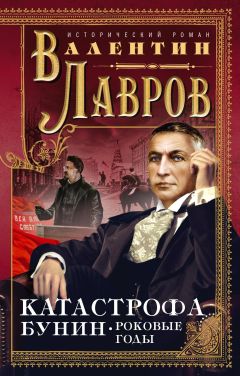
Автор книги: Валентин Лавров
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 49 страниц)
Бунин растрогался, они долго обнимались, а шофер во второй раз пришел в квартиру – Цетлина куда-то опаздывала.
Они виделись последний раз в жизни. Очень скоро они станут врагами – до конца своих дней.
5
– Жизнь у меня теперь очень интересная, – горько усмехался Бунин. – Она состоит из сплошных головоломок: где взять деньги, чтобы заплатить доктору? На что купить лекарства? Или вот совсем пустяк: на какие шиши питаться? Про такую роскошь, как новые шнурки для совершенно старых ботинок, я не говорю: подвяжусь медной проволочкой.
Вера лишь молча вздыхала. Бунин бросал саркастический взгляд на жену и продолжал веселиться:
– А что ты, Вера, думаешь? Это может в моду войти: впервые нобелевский лауреат свои ботинки зашнуровал, нет, запроволочил чем-то медным!
– Может, Марку Александровичу написать?
Бунин отмахивался руками, словно от назойливой мошкары, торопливо, словно уговаривая самого себя, произносил:
– Нет, нет! Только не это. Устал унижаться. Лучше удавлюсь. Еще мой покойный батюшка, царство ему небесное, учил: «Запомни, Иван, дороже всего обходится помощь бескорыстная!»
– Да, Ян, ты совершенно прав! – покорно соглашалась Вера Николаевна, уже совершенно высохшая от постоянного недоедания. – Ты – великий писатель и всегда должен помнить об этом. Ты не имеешь права терять своего достоинства. Я… я сама… кое-чего придумаю.
Бунин недоверчиво смотрел на жену, не понимая, что такое она может придумать: продавать уже нечего, а других ресурсов у них не было.
В полдень Вера Николаевна отлучилась на час. Вернулась, держа в руках целую сумку еды. Бунин ахнул:
– Откуда это: хлеб, кусок мортаделлы, селедка, пачка чая и сахар?
– Бог послал! – туманно отвечала жена.
На руке Веры Николаевны отсутствовало… обручальное кольцо.
«Господи, до какой нищеты дожили!» Он обнял жену, не удержался, заплакал.
* * *
Ночью, проснувшись, Бунин заметил, что жены на привычном месте нет. Он растворил дверь в гостиную. Вера Николаевна сидела за столом и что-то писала. Увидав мужа, вздрогнула и сунула лист под книги, лежавшие рядом.
– Вера, что ты ночью здесь делаешь? Пожалуйста, покажи, что спрятала. – Бунин говорил как никогда мягко.
Вера Николаевна вздохнула, протянула ему исписанную страницу:
– Ян, только не сердись…
Он читал, и его лицо заливала краска: было одновременно и стыдно, и горько. Вера Николаевна обращалась к Алданову, молила о помощи.
– Верочка, голубка, не надо! – Он разорвал листок. – Я сам напишу. Пойдем спать.
Закусив губу, он поутру торопливо – как чашу горькую принимал! – писал: «Милый, дорогой Марк Александрович, спешу вам ответить, горячо поблагодарить вас за ваши постоянные заботы обо мне и попросить передать Соломону Самойловичу Атрану, что я чрезвычайно тронут им и шлю ему мой сердечный поклон. Буду очень рад познакомиться с ним, когда он будет в Париже. Ваше сообщение (о сборе денег в США для Бунина. – В. Л.) чрезвычайно обрадовало меня, хотя эта радость смешана и с большой грустью, с боязнью, что, может быть, и не осуществится доброе намерение Соломона Самойловича. Ведь вы говорите, что могут быть какие-то «влияния» на него. Что ж – очевидно, на свете все может быть, век живи – век учись!.. Моя история, т. е. что некоторые в чем-то обвиняют меня… эта история похожа на самый нелепый, дикий сон… Что до моего материального положения, то вы его знаете лучше Столкинда. Жить чуть не на краю могилы и, сознавая свою некоторую ценность, с вечной мыслью, что, может быть, завтра у тебя, больного вдребезги старика, постыдно, унизительно доживающего свои последние дни на подачки, на вымаливание их, не будет куска хлеба, – это, знаете, нечто замечательное! Вы говорите о Цвибаке: у него моих капиталов осталось теперь всего 150 долларов, – на днях пришлось взять 200, – и никаких «сборов» он больше уже чуть не год не делает, да, конечно, и не будет делать – есть ведь всего 5–6 человек, которые кое-что дали ему для меня в прошлом году, и не думаю, что будет ему приятно снова клянчить на мою подлую, нищую старость…»
Поясню: С. С. Атран – чулочный фабрикант. И. Я. Столкинд еще в дореволюционные времена на Пятницкой улице в Москве, в доме 74 владел фабрикой «механического производства обуви» со 125 рабочими. Наследники Столкинда и по сей день занимаются делами благотворительности.
Что касается Цвибака, журналиста талантливого, то, перебравшись в США, он тесно сотрудничал с антисоветскими организациями, многие годы был главным редактором сионистской газеты «Новое русское слово». Кстати, судьба отмерила ему почти вековую жизнь, он пережил, и намного, всех участников нашей истории. Оставил живо написанные и пристрастные мемуары.
Подобная благотворительность – это паутина, которая налипает на жертву, лишая ее самостоятельности, подчиняя своей воле. Вот почему Бунину пришлось говорить об «истории» – жуткой и поучительной…
6
Ну и теперь вновь о бунинской бедности, и нечто такое, что самая смелая фантазия постигнуть была не в силах.
Кто только не писал о том ужасающем бедственном положении, в котором очутилась Вера Николаевна после смерти Бунина. Даже близкий друг дома Буниных, проницательный Александр Бахрах, в своих мемуарах сетует по поводу нищенского существования Веры Николаевны.
Но… не такой уж простушкой была Вера Николаевна, как об этом писали Берберова, Катаев и прочие.
После смерти своего великого мужа вдова снеслась с советским посольством, пообещала передать на родину весь его богатейший архив и – самое вожделенное – дневники.
Советское правительство назначило ей ежемесячную пенсию. Сумма была королевской – восемьсот инвалютных рублей, что составляло 1560 долларов США. «Зеленые» еще не успели увять, деньги это были громадные. За полторы тысячи, к примеру, можно было приобрести новый «рено».
То, что Вера Николаевна, получая эти колоссальные деньги, жила тем не менее убого, – факт. Куда девались эти франки-доллары? Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу еще один документ, хранившийся под грифом «Совершенно секретно».
«Советскому правительству от В. Н. Буниной
Париж, 17 января 1957 года
Настоящим письмом считаю необходимым обратить ваше внимание на следующее:
После того, как представители Советского посольства во Франции установили со мной контакт и договорились в принципе о постепенной передаче мною архива Ивана Алексеевича Бунина, мне была установлена ежемесячная пенсия с января 1956 года в размере 800 рублей, что составляет по нынешнему курсу 70 000 французских франков.
За этот год стоимость жизни во Франции очень возросла. И этой суммы мне хватает только на покрытие расходов первой необходимости. А между тем мое здоровье за этот год ухудшилось, приходится часто обращаться к врачам из-за декальсификации позвоночника, приобретенной в годы недоедания во время последней войны. Кроме того, обнаружился катаракт обоих глаз и грозит операция. Медицинское обслуживание и лекарства дороги, социальным страхованием пользоваться я не имею права, и часто мне приходится обходиться без них.
Помимо этого к моменту установления пенсии у меня оставались долги, сделанные во время тяжкой болезни Ивана Алексеевича, которые я и до сих пор до конца не могла выплатить <…>
Беру на себя смелость просить Советское правительство оказать мне единовременную помощь в счет гонорара от последнего издания избранных произведений И. А. Бунина… С уважением, В. Бунина».
Министерство финансов СССР просьбу сию сочло неприличной и в деньгах отказало. Так куда же девалось ежемесячное пособие?
Ответ напрашивается сам: все деньги полностью «усваивал» злой гений Бунина – Леня Зуров. И письмо, что для меня очевидно, было написано им, а подписала его со следами стыда на глазах Вера Николаевна.
7
«Все-таки самое страшное на земле – человек, его душа.
И особенно та, что, совершив свое страшное дело, утолив свою дьявольскую похоть, остается навсегда неведомой, не пойманной, не разгаданной», – это из «Страшного рассказа», который Бунин написал в 1926 году.
Когда он окончательно смирился с тем, что жалкий остаток своих дней придется влачить на постылой чужбине, эта самая дьявольская сила разверзла гнусную пасть.
8
Размягченный жарким июльским солнцем, умиротворенный тишиной парижских улиц, ибо французы оставались верны привычке летом уезжать на вакации, Бунин тоже отправился на природу. Нет, не на средиземноморское побережье и даже не на отсутствующую дачу, а всего лишь в соседний Булонский лес. В кармане лежало несколько франков, на которые можно было купить газету и бокал дешевого бордо.
Вера Николаевна оставалась дома и с иголкой в руке чинила мужу рубаху, купленную еще в декабре 1933 года. Она не успела залатать под мышкой, как муж вернулся. Он был бледен, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубахи и дышал прерывисто. В руке у него была газета, которую он в сердцах швырнул на пол.
– Ян, что случилось? – Вера Николаевна со страхом смотрела на мужа. – Не волнуйся, сядь. – Она схватила с полочки пузырек. – Вот, от сердца, прими…
Бунин отвел ее руку и горячо заговорил:
– Ты знаешь, с кем живешь? Оказывается, я – наймит Сталина. Недавно был у него в Кремле и еще на Лубянке. Выложил все секреты эмиграции. Оказывается, в этом затхлом болоте есть какие-то секреты! А прежде помог в выдаче большевикам Петра Краснова… Да, того, что казнили за сотрудничество с Гитлером. И потихоньку вернулся в Париж. Что так смотришь на меня? – Он неестественно тихо захохотал, схватился руками за голову. – Не веришь? Вот, в этой газетке написано. Выходит в Америке, называется «Новое русское слово».
Вера Николаевна подняла с пола газету, нашла заметку. Покачивая головой, прочла. Спросила:
– Тут подпись: «Иосиф Окулич». Кто такой?
– «Плешивый, пузатый, на кривых тонких ножках». Не знаю, кто этот мерзавец. – Подумал, добавил: – А может, такого и вовсе нет? Псевдоним? Эх, узнать да палку об него обломать!
Бунин вдруг застонал, схватился за сердце, привалился грудью на стоявший рядом стол и, полуоткрыв рот, тяжело задышал:
– Ой, плохо, сердце, сердце…
* * *
Несколько дней Бунин лежал в постели. Врача он запретил вызывать: «Если заплатим медику, сами помрем с голоду!» Но добросовестно принимал лекарства, и наконец хватило сил сесть за стол. Жену он успокоил:
– Я пишу в редакцию, Вейнбауму и Яше Цвибаку, в самых сдержанных тонах. Двое последних, думаю, вступятся за мою попранную честь. Редакции объясняю абсурдность обвинений этого самого Окулича и требую печатного извинения.
…Вера Николаевна сбегала на почту, письма отправила по авиа. Ответы тоже пришли самолетом, и довольно быстро. Первый был от Цвибака. Бунин с недоумением прочитал: «Не советую давать опровержения. Так, если промолчать, дело само по себе скорее забудется». Потом – от Вейнбаума. Тот почти слово в слово повторил Цвибака. Зато газета промолчала вовсе.
Едва впервые после болезни Бунин вышел на улицу, как услыхал за спиной: «Вон, Бунин пошел. Тот самый, что Краснова чекистам выдал». Говорил верзила со славянским лицом, а обращался он к своей спутнице.
Эту фразу позже он еще слышал несколько раз.
Но события только набирали силу.
9
Цвибак, Вейнбаум и К°, как шахматисты, точно рассчитали партию на много ходов вперед. Отказавшись печатать возражения против клеветы самого пострадавшего, они опубликовали «Письмо в защиту Бунина» Глеба Струве. Тот умиротворяюще вещал: «Милостивый государь, господин редактор! В № Вашей газеты от 19 сего месяца (июля 1947. – В. Л.) напечатана статья уважаемого И. К. Окулича, в которой он, как о факте, говорит о поездке И. А. Бунина после войны в СССР и возвращении его оттуда, почему-то при этом сопоставляя этот факт с судьбой выданного Москве американцами и расстрелянного большевиками генерала П. Н. Краснова, который, как известно, во время войны стоял на откровенно прогерманской позиции. Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления, я считаю своим долгом внести поправку в статью И. К. Окулича: И. А. Бунин в Советскую Россию не ездил и, насколько мне известно, ездить не собирается, хотя попытки «соблазнить» его поехать туда и делались. Можно так или иначе морально-политически оценивать некоторые действия И. А. Бунина после освобождения Франции, но нельзя взваливать на человека обвинение в поступке, которого он не совершал».
«Каково! – писал Цвибаку возмущенный Бунин. – Ясно, что этот „уважаемый“ Окулич приписал мне „поступок“ предательства мною Краснова на расстрел – какой же иначе „поступок“? И каков Глеб! Недурно „защитил“ меня, коварная блядь, защитил столь нежно по отношению к Окуличу и столь двусмысленно по отношению ко мне».
Но операция продолжалась. В парижской «Русской мысли» появился очередной разнос Бунину – некий С. В. Яблоновский обвинял его в «большевизанстве». Эта статейка была перепечатана в США – и опять имела большой резонанс.
– Что эти типы хотят от меня? – вопрошал Иван Алексеевич. Но его единственный слушатель – жена – на этот вопрос ответить не умела. – Ведь это настоящая травля!
Мстят за посещение посольства, за встречи с Симоновым, за симпатию, наконец, к России…
* * *
Почти без надежды быть услышанным написал просьбу Цвибаку: напечатать его, Бунина, ответ на статью Яблоновского. Хотя уже понял: в США публикуют какую угодно клевету против него, но не печатают ни строки возражения или даже оправдания.
Но Цвибак и те, кто находился за его спиной, держали наготове надежный кляп: «Если будешь жаловаться – прекратится наша помощь, помрешь с голоду».
Сам Цвибак с не присущей ему простодушностью проговорился в своих мемуарах: «Я начал уговаривать Ивана Алексеевича письмо не печатать, – прежде всего потому, что весь тон его ответа был несдержанный и на читателя мог произвести тяжелое (?) впечатление. Было у меня и другое соображение. В этот момент я был занят систематическим сбором денег для Бунина, нужда которого не знала границ, и мне казалось, что такого рода полемика в газете многих против него восстановит (?!) и в конечном счете повредит ему не только в моральном, но и в материальном отношении».
Одним словом, бьют и плакать не велят!
Бунин резонно возражал: «…вы думаете, будто мое разоблачение этих клеветников может мне повредить? Мне кажется, что мое молчание скорее может мне повредить. Вы говорите, что «ведь в Америке не знают этого дела „в точности“»; если так, так вот как раз мое «письмо в редакцию» и излагает это дело в точности. Письмо мое «резко»? Да ведь я давно заслужил право писать по-своему…
И если это даже «повредит сбору», так что же мне делать? Это будет совершенно дико, нелепо, – но пусть будет так, я не могу ради денег сносить клеветы молча. И вот еще что: я написал вам о моей нищей старости в минуту горячего отчаяния и теперь очень раскаиваюсь – тем более, что особенно вижу по нынешнему письму ко мне Марка Александровича, что во всем Нью-Йорке трудно найти среди архимиллионеров больше двух человек, способных дать сто долларов. И говорю вам истинно от всего сердца: не просите ради Бога ничего ни у кого больше…»
«Коготок увяз, всей птичке пропасть!» – не раз, наверное, вспомнил эту пословицу старый писатель. Его били хладнокровно, рассчитывая каждый удар, в самые болевые точки.
Но еще более страшное – по коварству и неожиданности – его подстерегало впереди.
10
Бунин был готов поссориться со всем миром, но он свято верил в дружбу с Цетлиной: пока Мария Самойловна жива, ему гарантирована помощь и поддержка. Тем более что она сама множество раз уверяла его в этом. Сколько щедрости, даже нежной заботливости она благодетельно проявила к нему в свой последний приезд в Париж.
Во время войны от нее не было ни слуху ни духу – но время-то какое. Михаил Осипович, муж ее, хоть был на двенадцать лет моложе его, Бунина, а умер в сорок пятом году – опять же ей тяжелое душевное огорчение.
Не по сердцу пришлись ей добрые отношения Бунина с советским послом Богомоловым, с Симоновым – поворчала и тут же, поди, забыла. Вера по сей день ходит в ее платьях – тех, что подарила осенью сорок шестого, да и туфлям на каучуковой подошве износа не будет – американские! Что без Цетлиной делали бы? Подумать страшно! Теперь к Рождеству надо ждать от нее подарок, не забудет же!
И вот пришел подарок – от свечи огарок!
В Париже царил чудный зимний праздник – Рождество. Еще, казалось, вчера с мглистого мутного неба беспрерывно сеял мелкий занудливый дождик. И вдруг мгновенно все преобразилось! Рванул северный ветерок, расчистил вечернее розовеющее небо. К утру пошел снег – крупный, пушистый, с четкими бриллиантовыми гранями. Сказочным ковром он покрыл островерхие крыши музея Клюни, гигантский купол Пантеона, широченную – 76-метровую! – авеню Елисейских полей.
На рю Жак Оффенбах появился сияющий, тщательно выбритый, в модном цветастом галстуке Бахрах.
– Богат я нынче, как Савва Морозов, или Крез, или, еще лучше, как великий Бунин после Нобелевской премии. Что вам, Иван Алексеевич, больше по вкусу? Мой замечательный друг Андре Жид, как известно, пошел по вашим стопам: только что стал нобелевским лауреатом. Вспомнил, что я делал ему кое-какие переводы с русского, и вот поделился своим миллионом. Так что приглашаю вас, супруги Бунины, в ресторан.
Вера Николаевна замахала руками:
– Господь с вами, Александр Васильевич! Отвыкла я, да и надеть нечего… Нет, нет! Лучше не просите.
Отправились вдвоем. Шли мимо ярких витрин, красочных реклам, праздничной пестрой и веселой толпы – словно никогда не было войны!
В ресторане «Тройка» начали с устриц и анжу, потом перешли на куропаток – под красное бордо. Затем было много съедено и выпито. Бахрах, пьяненький, счастливо улыбался:
– Если бы вы знали, Иван Алексеевич, как мне приятно хоть чуть-чуть отблагодарить вас. Ведь вы с Верой Николаевной мне, быть может, жизнь спасли, когда в Грасе у себя приютили…
– Полноте, батенька, это я вам признателен. Вы были таким замечательным собеседником. Помните наши вечерние прогулки? Сколько во мне тогда сил и надежд было. А теперь – все! В тираж вышел…
Бахрах смущенно улыбнулся: что, мол, делать. Потом кивнул официанту:
– Соберите нам в сумку, дома поесть: хорошую рыбу, фрукты. Не забудьте положить пулярку и бутылочку, нет – две белого пуи.
Они вышли на улицу ночного Парижа, сели в такси и отправились на рю Жак Оффенбах.
11
Вера Николаевна, словно догадавшись, что праздник из ресторана мужчины перенесут в домашнюю обстановку, спать не ложилась, чуть приодевшись, дожидалась мужа и Бахраха.
И вот они появились, раскрасневшиеся, веселые, шумные.
Сели за стол, открыли вино. Вспоминали грасское «сидение», которое в нынешний вечер казалось уже романтичным и даже в чем-то счастливым. Вдруг Вера Николаевна спохватилась:
– Тебе, Ян, гора поздравительных открыток – завтра уже Новый год! И пришло письмо – вот оно! – отгадай, от кого? Да, от Марии Самойловны!
Бунин был растроган. Он распечатал конверт, заляпанный множеством почтовых марок, вынул голубоватую страничку, исписанную округлым четким почерком. Начал читать – и лицо его недоуменно вытянулось.
– Ничего не понимаю, какая-то чушь! Послушайте сей перл: «Я должна уйти от вас, чтобы чуть-чуть уменьшить ваш удар. У вас есть ваш жизненный путь, который вас к этому привел. Я вам не судья. Я отрываюсь от вас… Я чувствую ваш крестный путь…» Какая-то ахинея!
Вера Николаевна встревоженно поднялась со своего места, положила руку мужу на плечо:
– Что случилось, чем мы обидели Цетлину?
– Вот, фраза об этом: «Вы ушли в официальном порядке из Союза писателей с теми, кто взял паспорта… Этим вы нанесли эмиграции большой удар». Цетлина спятила, разве это преступление? Все уходили – и я ушел.
Бахрах принялся хохотать – весело, до слез, так что сам Бунин чуть улыбнулся.
– Ну развеселила меня Цетлина! – Бахрах никак не мог остановиться, смех вновь находил на него. – Этот самый Союз писателей и журналистов, который мы создали еще в двадцать первом году, после войны совсем не работал, развалился. Помните, Иван Алексеевич, когда некоторые его члены, как Алексей Ремизов, взяли советские паспорта, то их из союза изгнали? Тогда и я ушел из него – в знак протеста, и вы, Вера Николаевна, и Леня Зуров, и Вадим Андреев с Сосинским… Да мало ли кто ушел! Это наше личное дело. А почему вдруг Цетлина стала переживать за творческое объединение, к которому никакого отношения никогда не имела?
– Я это тоже хотел бы знать, зачем ей нужно из мухи делать слона? – продолжал удивляться Бунин. – Да и почему я должен оставаться в организации, которой руководит человек, четыре года носивший фашистскую форму, – Зеелер? – Он помолчал, вздохнул: – И все же жаль, что так вышло. Ведь нас связывала тридцатилетняя дружба… Верно, она что-то напутала. Ведь когда Мария Самойловна последний раз была у нас в гостях, я уже ушел из союза. Но тогда Цетлина и словом не обмолвилась об этом, считала пустяком.
Проницательная Вера Николаевна отозвалась:
– Нет, Ян, все это лишь предлог для скандала. Думаю, эта история тесно связана со статейкой Окулича и прочими политическими интригами.
Весело начавшийся праздник закончился на грустной ноте. Бахрах, прощаясь на лестничной площадке, вдруг в каком-то душевном порыве обнял своего великого друга, жарко проговорил:
– Это, Иван Алексеевич, вам мстят за то, что вы не отреклись от России, за то, что хотели вернуться домой и бывали в посольстве, за то, что пили заздравную Сталину. Прежде они терпели, боялись, что уедете, – плохой пример для других изгнанников. Нынче же вы как бы в политической изоляции, вот и набросились… Такой, как вы, Иван Алексеевич, единственный во всей эмиграции. Вот все глаза и смотрят на вас…
Бунин благодарно пожал собеседнику руку.
* * *
Минули десятилетия. Теперь ясно: Цетлина, сама того не осознавая, невольно действовала как авторитетный «агент влияния». Она сделала последний ход в той партии, которая разыгрывалась против Бунина. И ходы, в том числе Цетлиной, наверняка подсказывались специалистами куда более искушенными, профессионально владевшими тайной политических дебютов и эндшпилей. Слишком крупной звездой на эмигрантском небосклоне был Бунин, чтобы безнаказанно прощать его «прегрешения».
* * *
Любимая поговорка Бунина: «Попал в стаю – не лай, а хвостом виляй!» Но сам он ей никогда не следовал.
Жизнь не баловала Бунина. Не было, кажется, испытаний, которые она не посылала бы ему: он потерял любимого сына – единственного и потому особенно дорогого; его обманывала любовь – когда он шел к ней с открытым сердцем; его предавали друзья; он, для которого весь смысл существования был в творчестве, на взлете своего дара лишился миллионов читателей; богато одаренный природой, он годы проводил в нищете, холоде и «всяческом мизере»; он должен был смирять свою непомерную гордость, чтобы из чужих рук принимать благодеяния. Вся сила его дара питалась связью с Россией, но обстоятельствами он был принужден жить на чужбине.
Что, казалось бы, человеку, изведавшему столько испытаний, какой-то мелкий и подлый удар сзади, нанесенный предательской рукой? Ему ли сломиться от этого? Но как большой корабль, долго сотрясавшийся ураганом, рушится под ударом последней волны, так и грязная волна клеветы, поднятая Цетлиной и ее верной компанией, добила старого писателя.
Некогда могучее бунинское здоровье было сломлено всем пережитым.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































