Текст книги "Катастрофа. Бунин. Роковые годы"
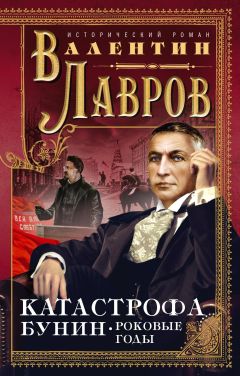
Автор книги: Валентин Лавров
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 49 страниц)
– Как когда-то в Москве на дне рождения Станиславского, – тихо и задумчиво произнес Москвин, обращаясь к Бунину.
В ресторанчике было дымно, шумно и весело.
– Иван Алексеевич, – играя переливами рокочущего баритона, говорил Константин Сергеевич. – Вот взяли бы и написали для нас пьесу. Играть звал вас – вы отказались, хотя актер из вас вышел бы великолепный. Давайте пьесу – поставим как нельзя лучше!
Бунин отшучивался. Разъезжались по домам через уснувший город уже за полночь. Утром, когда еще Иван Алексеевич спал, приходила Книппер-Чехова. Она сидела с Верой Николаевной, пила кофе и вспоминала Ялту, Антона Павловича…
На другой день к Бунину пожаловал другой мхатовец – Василий Васильевич Лужский. Он много рассказывал о Николае Дмитриевиче Телешове, с которым был близко знаком и который просил передать Ивану Алексеевичу привет.
– Скажите и мой поклон, – произнес растроганный Бунин. – Я часто вспоминаю о Чистопрудном бульваре и о соседней Покровке, где Николай Дмитриевич собирал «Среды». На них бывали Чехов, Шаляпин, Горький, Скиталец, Рахманинов… Прекрасное было время!
Когда гость ушел, Бунин долго сидел, задумавшись. Все эти встречи разбередили ему душу.
– Надо же, – обратился Бунин к жене, – скоро мхатовцы будут в Москве… А когда мы вернемся?
– Да уж, пожалуй, к Новому году обязательно! – решительно заявила Вера Николаевна.
В ночь с 31 декабря на 1 января они возвращались пешком из гостей. Когда проходили через «русский мост», носивший имя Александра III, часы на башне вдруг глухо ударили – было ровно двенадцать. Бунин удивился такому совпадению и произнес:
– Может быть, и впрямь в новом году будем вновь в Москве?
4
В январе 1923 года приехал, согретый заботами Бунина, Шмелев. Привез письмо от Бориса Зайцева, которого Иван Алексеевич считал своим «сватом». Именно в доме Зайцева он познакомился в 1906 году с Верой Николаевной. Теперь Зайцев мелкими кудряшками писал о своем бедственном положении и о желании выбраться из Берлина в Париж.
И вновь начались для Бунина долгие и трудные хлопоты – французские власти опустили шлагбаум перед беженцами, считая, что и тех, кто уже обосновался, слишком много.
Испробовав все испытанные способы, Иван Алексеевич пошел на крайний шаг. Он написал влиятельной даме – С. Г. Пети, супруге секретаря Елисейского дворца:
«Дорогая и уважаемая Софья Григорьевна, прибегаю к Вам с покорнейшей просьбой. Писатель Борис Константинович Зайцев с женой и дочкой (11 лет), как Вы, вероятно, знаете, в Германии (Ostseebad Prorow bei Haneman)[3]3
Западный берег у Ханемана (нем.).
[Закрыть], и всеми силами рвутся оттуда вон, что как нельзя более понятно. В Италию их не пустили, не дали визы – у них „красные“ паспорта (хотя сын жены Зайцева от ее первого брака расстрелян большевиками). Нельзя ли их пустить во Францию? Мы зовем их к себе на дачу в Грас, которая снята у нас до 10 октября. Не пишу Евгению Юльевичу, щадя его отдых. Но если возможна виза, не будете ли добры передать ему мой сердечный привет и мою просьбу за Зайцевых? Зайцеву лет 40, – кажется, 41, – его жене, Вере Николаевне, лет 45, дочке Наташе, повторяю, 11. Русские, православные.
Простите за беспокойство. Целую Ваши ручки, передаю поклон Веры Николаевны. Где Вы? Мы существуем, слава Богу, у нас гостят Шмелевы, в двух шагах – Мережковские. Преданный Вам Ив. Бунин».
Письмо было написано из Граса, куда на лето неизменно стали приезжать Бунины. Шел июль 1923 года.
…Тридцать первого декабря Зайцевы прибыли в Париж. На вокзале их встречал Иван Алексеевич.
5
Борис Константинович похудел, стал костистее, взгляд сделался печальнее, голос тише. Бунины радушно приглашали:
– Милости просим к нам, давайте вместе праздновать Новый год.
– Не до этого! – вздохнула Вера Николаевна Зайцева. – Настроение погребальное, не до шампанского…
Зайцев согласился с супругой:
– Если позволите, завтра придем к вам на обед.
– Вот и отлично! – хлопнул в ладоши Иван Алексеевич. – Будем пить водочку и петь песни – наши, русские, подблюдные. Любезная супруга, в честь наших сватов готовь праздничный обед.
* * *
На другой день собрались все вместе: как некогда прежде, на Поварской. Вера Николаевна вспоминала ноябрь 1906 года. Взбежав на четвертый этаж дома, в котором жили Зайцевы, она увидела в кабинете хозяина множество народу. Сидели на тахте, на стульях, на столе, даже на полу. За маленьким столом, освещенным электрической лампой, неловко примостился Викентий Вересаев и, уткнувшись в рукопись, что-то невнятно бубнил.
Затем его сменил Бунин – легкий, изящный, уверенный в себе. С какой-то ясной и светлой печалью он декламировал свои последние стихи:
Растет, растет могильная трава.
Зеленая, веселая, живая,
Омыла плиты влага дождевая,
И мох покрыл ненужные слова,
По вечерам заплакала сова,
К моей душе забывчивой взывая,
И старый склеп, руина гробовая,
Таит укор… Но ты, земля, права!
Как нежны на алеющем закате
Кремли далеких синих облаков!
Как вырезаны крылья ветряков
За темною долиною на скате!
Все взахлеб хвалили автора, а очаровательная Верочка Муромцева глядела на поэта с восхищением. Теперь она призналась:
– Я сразу, Ян, в тебя влюбилась…
– Другой любви не бывает – она всегда с первого взгляда. Зато когда я подошел в тот вечер к тебе…
– В столовой, помню.
– Как ты мне дерзко отвечала!
– Это от смущения. Но пригласила в гости – в ближайшую субботу. Надо правду сказать, ты в то время от светского образа жизни выглядел не очень свежим: лицо усталое, мешки под глазами…
– Даже твоя мама противилась нашей дружбе, полагая меня этаким российским донжуаном. Да и первый брак еще не был расторгнут.
– Сознайся, у дам ты пользовался успехом!
Все улыбнулись, а Верочка Зайцева погрозила пальцем:
– Иван, ты был известным ветреником! Анекдоты о твоих блестящих амурных победах были у всех на устах. Да и то: молодость, литературный успех, завидные гонорары.
Бунин вдруг стал серьезным:
– Но только с Верой мне было хорошо, с ней я никогда не скучал. Когда я ожидал какую-нибудь гостью, то всегда предупреждал близких. И они часа через полтора после прихода гостьи стучали ко мне в дверь: «Иван Алексеевич, к вам пришли… Ожидают!» Вот свидание и прерывалось. А с Верочкой – ах, всю жизнь мне хорошо! Она друг преданный.
Борис Константинович весь обмяк:
– Куда вся эта счастливая жизнь исчезла? Словно сразу провалилась в какую-то жуткую преисподнюю. Словно черти заговор на нас сотворили.
Он перекрестился и продолжал:
– Живем по-собачьи, скверно. Про Россию и говорить нечего – стала нищей, интеллигенцию истребляют, командуют повсюду инородцы. Жизнь исчезла, остались троцкие, стучки, зиновьевы, коминтерны, трудовые повинности. И что любопытно: все те, кто вчера горлопанил о свободе и равенстве, добравшись до корыта, тут же прочно забывают всяческий стыд и совесть. История Андрея Соболя лишь чего стоит!
– Это который большевик? – отозвался Бунин.
– Да, после Октября он стал довольно известным литератором. Но еще чуть не с детских лет боролся с самодержавием. В нежном возрасте умудрился попасть в сибирскую ссылку – это его воспитывали «царские сатрапы». Большевистскому перевороту радовался, как несмышленыш Деду Морозу, но однажды посмел сказать что-то против Троцкого. Теперь продолжили воспитание его единоверцы из ЧК – замкнули в камеру одесской тюрьмы. Мне жалко его стало, все-таки знакомые. Дернуло меня после одного из совещаний к московскому «генерал-губернатору» Каменеву обратиться.
– Хороший писатель, ну, сказал что-то нелестное в адрес Льва Давидовича. Впредь умнее будет. Надо помочь, всю молодость отдал борьбе за дело освобождения…
Лев Борисович смотрит на меня подозрительно:
– Это какой Соболь? Который роман «Пыль» написал? Плохой роман, пусть посидит.
Вспылил я, крикнул ему в лицо:
– Но ведь уже семь месяцев сидит, неизвестно за что!
– У нас невиновных не сажают!
Направился важно к выходу, плюхнулся в ожидавший его автомобиль и укатил в сторону Кремля…
…Все долго молчали. Настроение опять стало тяжелым – лучше не затевать этих разговоров, не травить душу. И лишь Бунин глухо отозвался:
– С каким звериным остервенением рушили и продолжают рушить Россию. За что? За то, что всем, кто хотел и умел трудиться, она была добрым, сытным домом?
Никто ничего не ответил, ибо перед жестокостью и глупостью разум замолкает.
И все-таки – за что?
6
Шестнадцатого февраля 1924 года парижский «Саль де жеографи» принял в свое чрево столько народу, сколько в него, наверное, никогда не набивалось. Здесь проходил вечер «Миссия русской литературы». Афиши украсились именами Дмитрия Мережковского, Ивана Шмелева, Павла Милюкова, Николая Кульмана и других.
Но многие пришли только для того, чтобы услыхать великолепного и страстного оратора – Бунина. Громом аплодисментов встретили его появление на сцене. Он вышел вперед, к самой рампе – легкий, изящный, вдохновенный.
– Соотечественники… – Он произнес только это слово, и голос его сорвался. Он попытался справиться с волнением. – Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека…
В зале повисла мертвая тишина. Бунин явственно слышал, как кровь стучит в его висках. Он наполнился решимостью, голос взлетел под высокий потолок.
– Падение России ничем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Революция, говорят, была неизбежна, ибо народ жаждал и таил ненависть к своему бывшему господину и вообще к господам. Но почему же эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всяческого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным обилием крепостных уз? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе, и знамя их было и есть интернациональное, то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних Божеских уставов нечто новое и дьявольское. – Бунин перевел дыхание.
Он взял в слегка дрожащие от волнения руки стакан воды, отпил глоток и вновь продолжил, теперь уже до самого конца без перерывов. И гнев его нарастал, и вдохновение говорило его устами:
– Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что же с ним сделалось? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уже давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.
Что произошло? Как ни безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая «планетарным» злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума, – сам министр-президент на московском собрании в августе семнадцатого года заявил, что уже зарегистрировано, – только зарегистрировано! – десять тысяч зверских и бессмысленных народных «самосудов». А что было затем? Было величайшее в мире попрание и бесчестье всех основ человеческого существования, начавшееся с убийства Духонина и «похабного мира» в Бресте и докатившееся до людоедства. «Планетарный» же злодей, осененный знанием, с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить «Семь заповедей Ленина».
Россия! Кто смеет учить меня любви к ней? Один из недавних русских беженцев рассказывает, между прочим, в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрениям, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебываясь от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горному снегу одежды белого ратника, – да святится вовеки его память! Под триумфальными вратами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота.
Бунин замолк, горестно опустил голову. И вновь возвысил голос, в котором зазвучали пророческие нотки:
– Но знает Господь, что творит. Где врата, где пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее. Будем же ждать этого дня. А до того да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для неправедного времени сего, и для будущих праведных путей самой же России!
Зал дружно поднялся. Все стоя рукоплескали страстному слову поэта. Лишь Милюков укоризненно покачал головой и наклонился к сидевшему рядом Мережковскому:
– Дмитрий Сергеевич, не кажется ли вам, что оратор хватил через край? Зачем такая чрезмерная и неуместная азартность?
– Вы абсолютно правы, Павел Николаевич! Столько излишней горячности… Следует быть политичней, ведь там интересуются тем, что мы говорим и что мы пишем. На вашем месте – простите за совет! – я не стал бы печатать бунинские тирады. Для его же блага.
* * *
Милюков для «блага» Бунина сделал другое: речь его опубликовал, но с такими сокращениями и такой редактурой, что Иван Алексеевич, прочитав 20 февраля ее в «Последних новостях», от обиды заскрипел зубами:
– Какая мерзость! Что ж этот старый пень поступает со мной как с мальчишкой?! Как он мог?.. – Иван Алексеевич гневно тряс газетой. – И какой заголовочек сочинил – «Вечер страшных слов»! Словно я не о величайшей трагедии вопию, а сказки рассказываю о летающих гробах. Ну политик, ну сукин сын!
Два последних понятия, по разумению Бунина, были вполне равнозначными.
– Кликушествовал в Думе и на митингах, царя ездил свергать, Россию просрал, а теперь за меня взялся – учит любви к русскому народу!
Милюков действительно обвинил Бунина в «претензиях на пророческий сан» и «нападках» на народ.
* * *
Но эта история получила неожиданное продолжение. Шестнадцатого марта московская газета «Правда» напечатала отклик на вечер, и он почти полностью совпадал с тем, что писал Милюков в «Последних новостях». И назывался отклик некрологически – «Маскарад мертвецов»:
«…Бунин, тот самый Бунин, новый рассказ которого был когда-то для читающей России подарком, позирует теперь под библейского Иоанна… Он мечтает, как и другой белогвардеец, Мережковский, о „крестовом походе“ на Москву… А Шмелев, приобщившийся к белому подвижничеству только в прошлом году, идет еще дальше… Для него „народ“ кроток и безвинен… и он во всем обвиняет интеллигенцию и Московский университет, недостаточно усмиренный в свое время романовскими жандармами».
Бунин поношения терпеть не стал. Сначала он хотел оскорбить Милюкова физически – по лицу, но затем решил иное. Третьего апреля в берлинской газете «Руль» без милюковского редактирования и купюр появилась речь Бунина. Автор снабдил ее обширным и ядовитым послесловием. Не забыл Иван Алексеевич процитировать «Правду», трогательно вспомнившую Милюкова: «Даже седенький профессор… назвал это выступление в своей парижской газете голосами из гроба».
Ивана Алексеевича возмущала не позиция «Последних новостей» или тем более «Правды» («Политики, что с них возьмешь! Изолгались, извертелись!»), его приводила в бешенство заведомая ложь. Кто не знает, что, в отличие от многих других, скажем Мережковского или Гиппиус, Бунин всегда был против интервенции. Но эти политики с неприличной яростью набросились на него за вырвавшуюся в полемическом задоре фразу о духовном «крестовом походе».
Вся эта история распалила желчь в Бунине. Именно в это время он приступил к работе над своей самой трагической книгой «Окаянные дни». Это были воспоминания, написанные в форме дневника. Он вновь содрогался, пропуская через сердце страшные события, разразившиеся над Россией после захвата власти большевиками, вспоминая, как ежедневно, ежечасно попиралось его достоинство, как унижалась и крушилась великая Русь.
Теперь он знал куда больше, нежели тогда, когда переживал лютые времена на родине. Знал он об уничтожении духовенства, о массовых расстрелах заложников – дворян, крупных чиновников, сдавшихся в плен юнкеров и офицеров.
Среди последних был и единственный сын Шмелева.
Овладев Перекопом, большевики вдруг сделали «великодушный» жест, заявили: «Кто желает покинуть Россию – милости просим, препятствовать не станем! Рады приветствовать и тех, кто хочет сотрудничать с новой властью…»
Воспитанные на лучших патриотических традициях, привыкшие верить честному слову, многие офицеры отказались от дальнейшей борьбы, сложили оружие, явились на регистрацию. Всех явившихся тут же арестовывали, по ночам выводили подальше от жилья и там расстреливали из пулеметов. Во главе этой бессмысленной кровавой расправы стоял бывший анархист и террорист Георгий Пятаков, непосредственным исполнителем стал воевавший во время мировой войны против русских солдат из Венгрии местечковый Бела Кун. (Как ни грустно, но по сей день в самом центре Москвы один из домов украшен мемориальной доской этому «славному интернационалисту». Ах, Россия, Россия…)
Путь к пропасти
1
Парижские газеты сообщили о смерти В. И. Ленина 23 января. Заметки были краткие и скорее соболезнующие, чем злорадные. «Последние новости» такое сообщение поместили на первой полосе, на месте передовицы:
«СМЕРТЬ ЛЕНИНА
…Ленин и большевизм – разве это не одно и то же? На протяжении истории большевизма был не один момент, когда вся партия воплощалась в Ленине».
Писал эти строки, конечно, сам Милюков, для которого у покойного всегда находились самые бранные выражения. Вся публикация заняла немного места. И вообще, смерть большевистского вождя прошла на удивление незаметно, тихо.
Бунин на это событие вовсе не отозвался записью в своем дневнике, а Вера Николаевна отметила: «Смерть Ленина не вызвала ни большого впечатления, ни надежд, хотя, по слухам, у „них“ начинается развал. Телеграмма, что на похоронах Ленина 6000 человек отморозило себе руки и ноги. Сколько же народу согнали они?»
Больше занимал вопрос: кто станет преемником Ленина?
Обратила на себя внимание «клятвенная» речь Сталина, произнесенная 26 января на II Всесоюзном съезде Советов:
«Товарищи! Мы, коммунисты, – люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы – те, которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин. Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны лишений и героических усилий – вот кто прежде всего должен быть членом такой партии».
В этих словах уже ясно звучит ритуальное почитание покойника. Таким оно пребудет десятилетия, даже после того, как Никита Хрущев прикажет предать анафеме и Сталина, и дело его, хотя сам будет старательным участником самых дурных преступлений, в которых обвинит Иосифа Виссарионовича.
* * *
Русская эмиграция удивленно пожмет плечами, когда преемником Ленина станут не его ближайшие сотрудники – евреи Каменев, Троцкий, Зиновьев, а грузин Сталин.
Говорят: выбор был плохим.
Ну а если бы жребий пал на Троцкого? Того самого, который издевательски приказывал голодным и разутым людям: «Работу начинайте и оканчивайте, где возможно, под звуки социалистических гимнов и песен, ибо ваша работа – не рабский труд, а высокое служение социалистическому отечеству!» Ковал трудовой энтузиазм всеми средствами, кроме экономических.
Этот вождь с впалой грудью и жидкими ножками, никогда не утомлявшийся от кровавых пиров, шумевших по его приказу по всей Руси, и на своем месте стал исчадием ада.
Власть еще большая лишь безмерно развязала бы его руки и его лютую злобу к России и к русскому народу.
Благо России никогда не входило в планы ни Троцкого, ни Зиновьева, ни Бухарина, никого из им подобных.
* * *
И еще любопытная деталь.
«Завещание» Ленина, с которым келейно, под страшным секретом, знакомились делегаты XIII съезда партии и которое было более полувека сокрыто от советских людей, в эмигрантской печати появилось еще в июле того же двадцать четвертого года. В «Последних новостях», которые читал Бунин, «завещание» было опубликовано в № 1306 за 29 июля.
Никакого впечатления оно не произвело ни на Бунина, ни на его окружение. Что из того, что Ленин назвал Сталина «недалеким, склочником» и якобы советовал «ни в коем случае не выбирать генсеком ЦК партии»?
– Это внутренние дела большевиков. Милости ждать ни от кого из них не приходится, – махнул рукой Иван Алексеевич. – К тому же завещание записано рукой Крупской, дамой склочной и базедовой. Дескать, со слов Ленина. Задним числом можно что угодно сочинить.
2
Месяц спустя русские впервые прочитали в «Последних новостях» о некоем Хитлере (именно такого написания придерживались газеты):
«Мюнхен. 26 февраля. Сегодня в 8 часов 55 минут утра начался слушанием дела процесс Хитлера, Людендорфа и других участников путча. Заседания суда проходят в здании военного училища… На вопросы председателя Хитлер отвечает очень любезно:
– Обвиняемые все добрые патриоты и не позволят себе выйти за пределы допустимого.
По этой, видимо, причине суд открытый. Речь вождя национал-социалистов продолжалась три с половиной часа…»
Зал с напряженным вниманием слушал этого человека. Что-то магически притягивало в нем: властные голубые глаза, тщательно взвешенная речь, четкая жестикуляция, сдержанные манеры, ясность мысли и убежденность в собственной правоте.
– Как я оказался в Вене? Это случилось после смерти моей матушки в 1909 году. Отец Алоиз умер еще прежде. Я чувствовал призвание быть художником! Но ограниченные педагоги Венской академии искусств хотя и признали во мне способности рисовальщика, но моя независимая манера творить и держаться напугала их, и мне было отказано в приеме.
– И как долго вы пробыли в Вене? – спросил председательствующий.
– До 1913 года. Я с содроганием вспоминаю то время. Чтобы не умереть с голоду, мне пришлось на вокзале подносить чемоданы, работал дворником – очищал улицы от снега, выбивал ковры… Но я не сдался: не пил, не курил, избегал дурных знакомств. Из нравственных побуждений не ел и не ем мяса.
– У вас, понимаю, было много свободного времени. Как вы его использовали?
– Часами я сидел в публичных библиотеках, восторгался «Фаустом» Гёте, «Вильгельмом Теллем» Шиллера, «Божественной комедией» Данте. Посещал филармонические концерты, слушал оперы великого Вагнера – если были деньги на билеты. И тогда же я стал антисемитом. Я заболевал лишь от одного еврейского лицемерия, от бесконечного стремления нажиться за счет другого. Когда началась мировая война, я упал на колени и благодарил небеса. Сам король Баварии Людвиг III дал мне разрешение служить в славном баварском полку. Это чудо, что я жив…
Сослуживцы подтвердили:
– Хитлер исключительно храбрый воин, награжден двумя Железными крестами.
Газеты отмечали: «Тридцатилетний капрал сделал выбор – он стал политиком. В 1919 году Хитлер поступил в национально-социалистическую партию. И уже на следующий год стал ее вождем. Цель партии – освободить Германию от евреев, демократов, социалистов, пацифистов, интернационалистов и прочих вредных элементов. Это необходимое условие спасения Германии».
Людендорф – бывший генерал-квартирмейстер армии, любимец народа и кайзера. Именно его Гитлер назначил руководителем немецкой национальной армии во время известного «пивного путча» в Мюнхене 18 ноября 1923 года.
Гитлер был приговорен к пяти годам заключения за «измену родине», Людендорфа суд оправдал.
* * *
Оказавшись в камере ландсбергской тюрьмы, Гитлер время попусту не терял. Он обложил себя трудами Шпенглера, Шопенгауэра и, конечно, Ницше. Узник диктовал своему сподвижнику и другу Гессу страницы будущей книги – «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости». Гесс специально прикатил из Австрии в Баварию – исполнять секретарские обязанности в тюрьме, а также морально поддерживать мученика и национального героя. Гитлер назовет книгу «Майн кампф» – «Моя борьба». Книга увидит свет 18 июля 1925 года. Тираж 25 тысяч экземпляров немцы ураганом сметут с прилавков – успех ошеломляющий!
…Расхаживая по камере, весьма, как известно, способствующей сосредоточению мысли, Гитлер обращался к своему будущему личному секретарю и заместителю по партии:
– Дорогой Рудольф, согласитесь, что само по себе рождение не дает никаких прав. Даже права наследования – титулов и богатств – безнравственны. Только талант и труд, только пот и кровь, только они, и ничего кроме, дают право индивидууму вознестись над стадом, называющимся гнусным словом «народные массы».
Взяв со стола одну из книжек, Гитлер раскрыл ее:
– Вот что пишет по этому поводу Ницше: «Никто не имеет права ни на существование, ни на работу, ни на счастье. Индивидуум не что иное, как жалкий червь».
– Да, мой фюрер, – согласно кивал Гесс, первым назвавший так будущего диктатора. – Само по себе рождение – это еще ничто!
– Это лишь допуск к экзамену, который надо сдать, – с воодушевлением продолжал Гитлер. – Сдал на «отлично» – вот тебе слава, богатство, красивые любовницы, всеобщее поклонение. Провалился на экзамене – держи щетку, подметай улицу и не ропщи! Это и есть закон высшей справедливости.
– Но всякие ублюдки, у которых нет способностей, кроме способности жрать и удобрять, эти неврастеники и педерасты больше всех кричат о «свободе, демократии и равенстве». Ведь так, мой фюрер?
– Вы, Рудольф, признайтесь, повторили мою мысль. И у этих жалких крикунов так мало мозга, что они не понимают очевидного: никакие социалисты, никакие утописты вроде Маркса, этого зловредного жида, или его плагиатора Ленина при всем своем желании никогда не смогут устроить на земле «социалистический рай» – ни политическими, ни административными мерами. Все это химеры, выдуманные для удовлетворения личных амбиций тех, кто эти идеи проповедует.
Гитлер, что-то напряженно обдумывая, быстро заходил по камере, властно буравя собеседника голубыми глазами. Слова его были тщательно взвешенны. Казалось, они исходят из самых глубин его существа. Говорил он просто, ясно и логично.
«С ним невозможно спорить, – подумал Гесс. – Какая-то потрясающая убежденность в собственной правоте. С такой убежденностью могут взойти на эшафот, но никогда от своей правды не откажутся. У этого человека, уверен, великое будущее!»
Гитлер резко остановился, от груди вверх взмахнул правой рукой и отчеканил:
– Прав Шпенглер, когда говорит о закате Европы. Но погибнут лишь расово неполноценные, те, кто не сумеет выдвинуть умных и смелых вождей, кто не сможет правильно организовать труд и хорошо работать. А это сумеет осуществить лишь семья арийских народов.
Гесс, отчаянно скрипя пером, торопливо записывал за Гитлером, время от времени с жаром повторяя:
– Мой фюрер, каждое ваше слово крепче стали!
– Граф Жозеф Гобино хоть и француз, – последнее слово Гитлер выговорил так, словно ему в рот засунули лягушку, – но он правильно утверждает: расовый вопрос превалирует над всеми остальными историческими категориями. И тысячу, сто тысяч раз Гобино прав! – Гитлер кричал уже на весь замок. – Настоящие арийцы, эта соль земли, позволили себе – пусть и в небольшой, но все равно в преступной мере! – перемешаться с неарийцами. Таких к ответу, в резервации! Чтобы земля процветала, не надо много людей! Для благоденствия существенны лишь три фактора. Первый – руководители, фюреры, самые мудрые и честные, кто поведет нацию по правильному пути. Второй – народ должен умело и очень хорошо трудиться, каждый на своем месте – будь то вождь или дворник, про которого я уже упомянул. И третий фактор – жизненное пространство с его недрами. Самую черную работу станут выполнять, понятно, неарийцы. Для этого они и появились на земле.
Но каждый должен работать, работать и еще раз работать! Кто не работает – того следует… – Гитлер сделал красноречивый жест вокруг шеи. – И еще – каждый ариец обязан, обратите внимание, Рудольф, обязан поддерживать чистоту расы. Эту мысль подчеркните. Это – основа основ. Только от здоровых родителей, никогда не куривших и не употреблявших алкоголя, родятся здоровые дети. Гниющее тело вызывает омерзение, хотя бы в нем жил поэтический дух. Будущая Германия придаст огромное значение физическому развитию нации. И оно будет начинаться еще до школы, а в школе это станет основной дисциплиной. Здоровая нация – мощная держава!
И Гитлер открыл буфет, налил бокал гранатового сока, медленно выпил и продолжил:
– Люди гибнут не из-за проигранных войн, а из-за потери сопротивляемости… Все, что не является полноценной расой на этой земле, – плевелы обреченные.
Диктовку прервал надзиратель:
– Господин Гитлер, господин Гесс, пожалуйте на ужин.
– Мы работаем, – сказал Гитлер. – Сделайте одолжение, скажите денщику, чтобы сюда принесли… И напомните: котлеты и курицу не надо. Сто раз говорил, что мясного я не ем. А они несут и несут!
– На ужин паровая форель с овощным гарниром, сыр французский камбоцола, красное вино и фрукты, – ответил надзиратель.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































