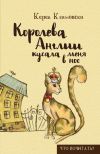Текст книги "Санки, козел, паровоз"

Автор книги: Валерий Генкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
А ребята постарше, студенты, крутили любовь по-настоящему. На Сашиной даче вместе с семьей Виталика какое-то время, год-два, жила семья маминых друзей. Они оставили след еще в ее довоенной и военной переписке. Он – Макс, Матвей Михайлович. Благороден, красив, элегантен. Большой машиностроительный начальник, ареста не избежал, ведь еще до войны побывал в Англии. Она – тетя Валя. Стройна, глазаста, некрасива и бесконечно обаятельна. Их дочери: Наташа, нежная, мягкая, в отца, красива на свой мягкий бархатистый лад, старше Виталика на пару лет, и Таня, копия матери, высока, худа, большеглаза, помоложе Виталика и в него немного влюблена. На даче он катает ее на велосипеде, а позже, во взрослой жизни, возьмет с собой в поход на Иссык-Куль. До него еще, Бог даст, доберемся. А пока, на даче, у Наташи завязывается роман с местным парнем, довольно паскудным приблатненным типом. Семья возбуждена. Те же проблемы у Ванды, кузины Саши, складной невысокой гимнастки – как они с Виталиком танцевали рок-н-ролл! – в будущем директрисы аптеки, которая помогала мне доставать для тебя лекарства, а еще в более далеком будущем – а ко мне сегодняшнему близком прошлом – добывала и добывает, дай Бог ей здоровья, отличный медицинский спирт в пятилитровых канистрочках. Так вот, завелся и у нее ухажер. А тут приезжает чуть ли не жених Вандин, чемпион Эстонии по боксу. И вот Виталик с Сашкой, малолетки, сопереживают, обсуждают, стремятся помочь. Как-то там все рассосалось, Наташа схлопотала от папы пощечину и, рыдая, просила прощенья, Ванда же ухитрилась и рыбку съесть, и с чемпионом в Москву укатить в полной идиллии.
Трудовая, Трудовая. Ну, всё точно – лягушечья прозелень дачных вагонов, зеленое знамя весны, хотится, хотится, хотится… Багрицкий знал в этом толк. Самого Виталика этой волной накрыло позже, в студенчестве. Вот на раскаленном пляже в Головинке он буравит взглядом затянутую в голубой купальник изумительную фигурку. Потом он вообразит и сам поверит в их молниеносный роман. Выйдя ночью покурить и посидеть на берегу, он и в самом деле увидел ее там снова, одну, уже без купальника – она по-дельфиньи резвилась в воде, ничуть не стесняясь. Облитая луной, вышла, натянула на мокрое тело сарафан и исчезла, даже не посмотрев в его сторону. А он сочинил и наутро рассказал собратьям по отдыху историю страсти на ночном пляже. Осмелев от собственной выдумки, он завладел вниманием чернявой и кучерявой Марины, не подозревая, что ей пятнадцать лет. Она оказалась москвичкой, и он пообещал учить ее английскому. Дело обернулось конфузом: на первый урок Марина пришла с мамой, которая первым делом потребовала от ошалевшего преподавателя точных сведений о стоимости и продолжительности занятий… Ну а там, в Головинке, им вскоре действительно завладела деваха богатырского вида. Крупные корявые ступни, широченные ладони, плоская грудь. Она утащила тощего Виталика в свою мансарду через несколько минут после столкновения с ним на том же пляже, на глазах двух – его и своей – компаний, и не выпускала сутки, проявив похвальную техничность и заботу о партнере.
Однако к Трудовой это не относится, order, order, ladies and gentlemen! Она, Трудовая, вылезает за пределы детских и школьных лет – в студенчество и далее. Курсе на втором он привозит на дачу институтского приятеля Володю Брикмана – картошка с тушенкой, приготовленная на керосинке (перебои с электричеством), теплая водка, танцы под проигрыватель или – опять же при перебоях – патефон. «Утомленное солнце» и «Танго соловья». Удивляет Сухум мой курортный костюм, голубая пижама. С Аликом Умным они три дня живут в палатке на той стороне канала под непрерывным дождем. Пьют, курят, разговаривают… Подбрасывают в костер можжевеловые ветки, смотрят на мертвенное посиневшее пламя, на воду – размышляют. Мелвилл обручил раздумье с водой – meditation and water are wedded forever, – почему-то позабыв об огне.
На Трудовую же мама стала привозить Виталику сигареты, что официально означало признание его взрослости.
А потом и ты узнала это место. Как только Ольге исполнился год, мы поехали туда на дачу. И потянулись новые дачные сезоны. Сколько было их – два? Три? Уже не помню. А теперь и спросить не у кого.
Умерла Нюта. «От сердечной недостаточности». Или избыточности?
Последний взрослый его детства.
Игра-загадка «Угадайка». Угадайка-угадайка, интересная игра, собирайтеся, ребята, слушать радио пора… Неужто так и пели – собирайтеся? Да нет, наверное: собирайтесь, все ребята… С утра сидит на озере любитель-рыболов, сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля (два раза). Сюда примыкают пластинки. Жесткие, пластмассовые, на семьдесят восемь оборотов. Иголки в железной коробочке и в лоточке, который толчком пальца выдвигается из бока патефона. Папа еще привозил какие-то особенные заграничные иголки, с ними и звук был почище, и менять их приходилось реже. Пластинки в чемоданчике, разделенном на отсеки-щели, удобно носить в гости, на дни рождения… Так вот, и первые в жизни пластинки он слушал с Нютой. Тринце-бринце-ананас, красная калина, не житье теперь у нас, а сама малина.
А песенка чудесная, и радость в ней и грусть, и знает эту песенку вся рыба наизусть.
После инсульта Нюта прожила три дня. За день до конца я приехал к ней с Олей и Леной. Нюта была без сознания, задыхалась, глаза скрыты белесой пленкой. Оля испугалась, вышла, заплакала.
Пока жила мама, она что-то делала, словно кто-то толкал ее – надо ходить за Лелей. А не стало мамы, будто сдулся воздушный шар, остановился завод, кончился заряд – помнишь, я тебе рассказывал. В конце концов мы с Леной взяли ее к себе, но через год стало ясно, что оставлять Нюту одну опасно, – и, да, да, ничего нового, дом «Забота». Как ни странно, там и впрямь о ней заботились – до самого конца. Последний год Нюта почти ничего не помнила. Я навещал ее по выходным, она отрешенно улыбалась, глядя на меня водянистыми, почти закрытыми катарактой глазами. Спрашивала, как там Оля, как маленький – это о нашем с тобой внуке, как Валерик – что-то давно не заходил. В Англии? А-а-а, далеко, наверно… Ну привет передавай. Я гладил ее шершавую руку. Сидел недолго, минут пятнадцать. Иногда – когда нужно было постричь ей ногти – чуть дольше. Мыли ее санитарки. Когда я собирался уходить, она заставляла меня вытаскивать из тумбочки и уносить с собой конфеты, яблоки, апельсины – от щедрот дома «Заботы». Ей было восемьдесят семь.
Ты не шибко ее любила, да в общем и не должна была. Ведь она из моего детства. Мы клеили елочные игрушки из новогодних календарей, делали электроплитку из картона и подогревали на ней щи из подорожника. И те пластинки ставили на патефон – вместе. Наша Мила, наша Мила очень беспокоится, три часа козла доила, а козел не доится. Если эту бороду протянуть по городу… На Арбате в магазине за стеклом устроен сад. Наш сосед Иван Петрович видит все всегда не так.
Вот и нарисовалось детство героя. Он вползает во взрослую жизнь. Каким?
Восприимчивым и мнительным – от завышенной самооценки, порожденной скромной мерой таланта, отпущенной ему природой, в сочетании с завистливой чуткостью к успеху других. Желая блеснуть, он притворялся, что импровизирует, а сам заблаговременно и долго ломал голову над задачей, остротой, каламбуром, рифмой – чтобы выдать итог за мгновенное решение, озарение, только-только мелькнувшую мысль. А медлительность ума, чтобы не сказать туповатость, в сочетании с честолюбием заставляла трудиться.
Щедрым – в стремлении преодолеть глубоко поселившуюся в нем прижимистость.
Вспыльчивым, чуть ли не наглым – от изначальной робости, а то и трусости. Неуверенный в себе, он подражал лидерам – в манерах, иронической небрежности. Любил нарочито витиевато говорить о пустяках без тени улыбки, полагая это признаком остроумия.
Добрым, отзывчивым, внимательным и нежным – когда полагал уместным сокрыть холодность, безразличие, равнодушие, сухость и проч. (см. «Словарь русских синонимов…» Н. Абрамова, 1890 г.).
Честным – на фоне отдельных эпизодов жульничества.
Ну и так далее.
А тем временем Виталик нырнул в круговерть выпускных экзаменов. Числом их было вроде бы семь. «Евгений Онегин» – энциклопедия русской жизни. Он очень старался. Предложения складывал попроще, чтоб никаких сомнительных препинающих знаков, чтоб и словам, и мыслям было просторно – или тесно? Короче, чтоб было их поменьше, мыслей, а слов сколько нужно. И что же? Все равно нарвался, мудак, во вступлении же стал выпендриваться и в жарком стремлении утвердить Пушкина первым национальным поэтом обозвал дедушку Крылова переводчиком Лафонтена, а чтобы не унижать Ивана перед Жаном, и последнего приложил, указав, что, дескать, и тот как мог перекладывал на свой французский Эзопа. Перестарался. Получил четверку. И хотя с другими шестью предметами сложностей не возникло, цвет ожидаемой медали изменился, и между Виталиком и институтом снова встали экзамены.
Но на дворе стояло фестивальное лето одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого, и восхитительное чувство свободы оглушило его. Free at last – то ли вторил он джинну из «Багдадского вора», то ли предвосхищал надпись на памятнике Мартину Лютеру Кингу.
– Where is my friend Alexander? – разносилось по второй линии ГУМа. Салех, красавец араб, корреспондент спортивного раздела «Аль-Гумхуриа», с искренним беспокойством вертел головой, разыскивая русского красавца, юношу шестнадцати лет и ближайшего друга Виталика. А предстояло им идти на Кузнецкий, чтобы сбагрить золотые часы египтянина. В комиссионку не сунешься – паспорт нужен. Оставалась часовая мастерская. Знал ведь хитрый араб, что два юнца вряд ли привлекут внимание гэбэшников, и медальная его рожа лучилась патологическим дружелюбием. Какой наивный человек. Его-то иностранного вида для чекистов вполне бы хватило, а чего не хватало, так это, видимо, наличного состава. Уж больно много их, забугорников, шастало по фестивальной Москве, на всех профессионалов не напасешься, а обалдевшие дружинники сами норовили потереться рядом и урвать жвачку, значок, открытку на худой конец. Старичок часовщик Алика игнорировал, национально близкая морда Виталика пришлась ему больше по вкусу. «И что это люди любят такие цацки? Куда лучше часы с гирями, даже простые ходики, а, юноша? – Виталик молчал, не зная, почему ходики лучше плоских, чуть изогнутых, изящных часов Салеха. – Не согласны? Ну так я вам расскажу, почему они лучше: к часам с гирями вы получаете в подарок, то есть совершенно бесплатно, целый земной шар в качестве источника силы. Да, да. – Он наконец вскрыл часы египтянина. – Механизм – дрек». – «Мит фефер?» – вспомнил Виталик. Часовщик сдвинул на лоб окуляр. «О! – Он с одобрением посмотрел на Виталика, окончательно признав за своего. – За металл – восемьсот. Скажи ему, никто больше не даст, а сам зайдешь завтра, я тебе сотню дам. Ну, ингеле, надо помогать друг другу». Ингеле – дедушка Семен, малаховский рынок. «He offers eight hundreds», – сказал Виталик. «Goes», – сказал Салех и легко расстался с часами. «Так я зайду завтра?» – уточнил Виталик. Старичок снова освободил глаз от окуляра и посмотрел на Виталика почти с нежностью. «Когда меня спрашивают, что будет завтра, я всегда отвечаю – на всякий случай: а менч трахт ун а Гот лахт. – Оценив степень растерянности Виталика, он добавил: – Вижу, вижу, идишу вас в школе учат не так чтоб очень хорошо. Человек хочет, а Господь хохочет – вот что я имел в виду, юноша». Вниз по Кузнецкому они шли бесформенной кучкой. Разбогатевший Салех, художник Вафи – низенький, невзрачный, потный (пару лет спустя Виталик увидел в «Иностранной литературе» его рисунки и возгордился: настоящий иностранный художник нарисовал его портрет – листок с угольным профилем до сих пор стоит за стеклом книжного шкафа у Ольги), грудастая Амина, чемпионка Египта по чему-то легкоатлетическому, и кудрявый Хасан, пинг-поганец. Да Виталик с Аликом Умным. Трепетные и удачливые ловцы иностранцев. Салех нахваливал Насера. Yes, he is very good, говорил Виталик о славном друге Советского Союза и будущем этого Союза герое. Very strong, уточнял Салех. Like Hitler, like your Stalin. Это сравнение Виталика покоробило. Алика тоже. Но возразить иностранному гостю не посмели. Куда там. Мир, дружба и peaceful coexistence – пиздфул коиспиздистенс, говоря словами охальника и остроумца, сделавшего Виталику честь своей дружбой через много лет, отца отца (деда, стало быть) русского Интернета.
Алик-Виталик, однако, покивали. Их везли на двух такси в гостиницу «Заря». Ана маср лиль таароф бик – так запомнилась Виталику арабская фраза «я очень рад с вами познакомиться». В тесном пованивающем номере они ели приторные иностранные конфеты и были осыпаны иностранными дарами – роскошной гобеленовой коробкой, пустой, как чемодан, который хотела подарить Портосу г-жа Кокнар, угольными портретами, тут же набросанными Вафи, и множеством картонных подставок для пивных бокалов.
На следующий день в часовой мастерской на месте знатока идиша сидел парень в ковбойке и ковырял здоровенный будильник. На вопрос Виталика о вчерашнем старичке он повернулся на табурете и крикнул куда-то вглубь:
– Эй, Корзинкер будет? Его тут спрашивают.
Из глуби выплыла дама с папиросой. Догадавшись, что через амбразуру ее почти не видно, она вышла из-за перегородки в полной красе. Блескучее платье цвета бордо, пухлые ноги вбиты в китайские босоножки, тугие волны «Красной Москвы».
– Вы к Исайю Григорьевичу, молодой человек?
– Я… Да… Мы тут вчера ему часы… Золотые…
– Так и что?
– Он сказал, чтобы я зашел. Сегодня…
– Приболел Исай Григорьевич. Через недельку заходите.
«Действительно, а Гот лахт, – подумал Виталик. – Ох, Исай Григорьевич, ну надул ты исконного врага Салеха, но меня-то за что? Правда, оставил на память смешную фамилию. Корзинкер – не хуже Кукушкинда».
На первом же, в Станкине (вослед маме, папе, отчиму), экзамене – по математике, он получил «неуд». И уже с легким сердцем, гори оно все, пошел в Институт связи, хвалимый дальней родственницей Нелей Затуловской, на которую, бывало, смотрел, с вожделением пуская мальчишеские слюни, на редких клановых встречах – тонколодыжная, чуть косоглазая, со вздернутой грудью и тронутой усиками верхней губой, ой, ой, ой. Она этот МЭИС только-только закончила и осталась там преподавать что-то телеграфное.
Тут все прошло гладко. Сочинение – без Лафонтена, английский – отполированный египетскими друзьями, физика и математика – мудрым Наумом Шаевичем.
Коль на ферме есть корма, не страшна скоту зима
И он повлек коричневый чемодан к товарняку Москва – Барнаул. Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная. Если вы утопнете и ко дну прилипнете… Захотелось старику, топы-топы, переплыть Москву-реку кверху жопой… Впрочем, он еще насвистывал позывные Би-би-си, в чем и был уличен соседом по нарам тощим узкоруким Яшей. Красивая мелодия – как выяснилось, написал ее триста с лишним лет назад некий Иеремия Кларк и назвал «Марш Принца Датского». «Сразу видно порядочного человека», – сказал Яша. Виталик шаркнул ножкой. Третьим стал невысокий складный паренек с чуть сдвинутым носом и крупными карими глазами – Арнольд. И вагонное знакомство первых минут нечаянно протянулось приятельством на годы и годы.
7.IX.1957
Здравствуйте, мои дорогие!
Теперь могу спокойно написать вам. Сижу я сейчас под прожектором на току и, хотя поясница побаливает, чувствую себя превосходно. По крайней мере, я рад, что приехал сюда. Опишу подробно всю дорогу и первые три дня на целине. Сейчас половина одиннадцатого, и, хотя на току еще работают, я и еще 5 человек из нашей бригады свободны, так как отработали целый день на скирдовке.
Итак, погрузили нас в вагоны. Вагон был рассчитан на 40 чел., а нас было 65. Тем не менее, хотя на нарах полагалось спать по 8 человек (чтобы втиснуться, нужно было предварительно принять холодный душ – если помните, тела при охлаждении сжимаются), наша боевая пятерка, вооружась наглостью и тяжелыми рюкзаками и пустив впереди боксера третьего разряда, захватила лучшие нары. Там мы блаженствовали две ночи. Потом начался бунт, и к нам вселили в порядке самоуплотнения еще троих. Меня зажали между стенкой и костлявым Арнольдом, который тут же заявил, что если кто костлявый, так это я. К вечеру следующего дня я включил голову, соорудил из чемоданов превосходный диван и заснул под завистливый шепот окружающих, которые полезли на нары. На следующую ночь полвагона спало на чемоданах, а я блаженствовал на полупустых нарах. Увидев мои манипуляции, наш преподаватель сказал, что я на целине не пропаду. Сперва я боялся уходить далеко от поезда и поэтому Свердловска и Омска не видел. В Новосибирске мы стояли три часа, и я вместо «приема горячей пищи» пошел в город. Он очень красив. Особенно оперный театр. Меня пропустили внутрь (как москвича-целинника). Театр гораздо больше Большого. В нем два зала, красивая скульптура. Вообще, моя путевка была волшебным документом. В Новосибирске я вошел в столовую, там была огромная очередь, а поезд отходил через час. Мой вид не внушал доверия официантке, но, когда я заявил, что сошел с целинного поезда и тороплюсь обратно, она посадила меня за служебный столик и накормила без очереди.
Пока хватит о дороге.
(Вот ведь, а про свой жуткий понос – ни слова. А между тем в середине одиннадцатидневного пути у него схватило живот, да так, что хоть вой. При этом – деваться некуда, никаких туалетов в товарном вагоне нет, надежда на остановки, а они редкие. И тут же – девушки. Вагон разделен на две части, в меньшей – нары девичьи, они занавешены застенчивой простыней. В другой, побольше, спят парни. Днем – все вместе. Мученья были немалые. Сутки сидел он, скрючившись, жевал сульгин и сухое печенье и молил – скорее бы заскрипели тормоза, залязгали буфера… На остановках скатывался с насыпи, приседал и на ближайший час-два получал немыслимое, сумасшедшее облегчение. До преклонных лет сохранилось в его памяти трепетное воспоминание о привокзальном туалете Омска – дворец, ну чистый дворец, давший ему приют и утешение во время трехчасовой стоянки.)
В Бийске нас погрузили в машины (плотность 10 чел./кв. м) И недоумки-шофера по ужасной дороге со скоростью 60 км/час привезли нас в колхоз. По дороге я не раз поминал бога, шофера и его бедную мать. После бани (запускали по семеро в каморку на троих) от нашего отряда отделили 14 человек и отправили в четвертую бригаду, где мы и расположились. Живем в зимнем доме, ночью здесь тепло, как в Москве. Еда, конечно, не ахти, но я в первый же день так проголодался, что съел две порции.
Работа началась на следующий день. Сперва меня и еще троих послали на веялку. Мы ведрами загружали в бункер зерно, пока веялка не испортилась. Пришел бригадир Платоныч и сказал… (этого я написать не могу). На наши вопросы он ответил, что ни один механизм в бригаде больше двух часов подряд работать не может, два часа – это «безремонтный пробег». Из сострадания он начислил нам по ¼ трудодня (который равен 10 р. и 2 кг зерна) и послал разгружать машины. Рай, а не работа: мы едем к комбайну и, покуда он наполняет бункер зерна или комбайнер лечит кувалдой свой агрегат, успеваем сыграть партию в шахматы и съесть полбанки конфитюра, который был у Арнольда. В перерыве между погрузкой первого и второго бункеров мы доедаем конфитюр и засыпаем сладчайшим сном, из которого нас выводит оглушительный мат комбайнера. Мы разравниваем зерно, едем на ток и сгружаем его. Так катались целый день с перерывом на обед. Оказалось, что я в первый день заработал два трудодня. Сегодня был второй день работы: грузили возы сеном и свозили их к скирде – собственно, оформлением самой скирды, скирдовкой, занимались люди поопытней. Здесь я впервые взял в руки вожжи и через 10 мин. вполне с этим освоился и довольно лихо катался по полю. Затруднение было одно: здешние лошади в ответ на «тпру» и «ну» – ни тпру, ни ну. Они понимают только мат. Причем не жалкий московский матишко, а такой, от которого наш сосед Василий Платонович залился бы краской стыда. Но я быстро освоился с этим затруднением и благодаря такому проникновению в недра русского языка заработал три трудодня (то бишь 30 р. и 6 кг зерна).
Хотя работаем мы по 12—14 часов, особой усталости не чувствую. Здесь изумительный воздух и прекрасная природа. Однако я уже не вижу, что пишу, глаза слипаются – мы встали в 6 часов.
Крепко целую вас, мои дорогие. Привет всем родным.
Обоим Аликам я напишу.
Виталик
В первую ночь у него украли сапоги – и ему же продали наутро: он раскрыл объятия реальной жизни, а она воспользовалась этой нелепой и беззащитной позой и двинула ему под дых. С тех пор он клал сапоги под голову. «Падымайсь», – зычно тянул Платоныч в пять утра. Замерзшая в рукомойнике вода. Рожки с комбижиром в столовой. Надпись на алюминиевой ложке: «Ищи, сука, мясо». Пудовки и плицы для разгрузки машин с зерном. По полям идут комбайны, а кругом лежат валки, мы, студенты из МЭИСа, собираем колоски. Вот он приехал в Быстрый Исток на элеватор разгружать зерно и никак не может открыть борт машины. Долговязый, смердящий потом, гнилыми зубами и сивухой водитель смачно сплевывает, смотрит на Виталика, как энтомолог на редкую козявку, и говорит: «Эх ты, хер эмалированный» – после чего легким движением грязной ладони мягко отодвигает железный шкворень. В их бараке, за занавеской, стая мобилизованных фабричных девиц из Быстрого Истока. Местные парни – шоферы, комбайнеры, трактористы – заглядывали к ним после смены. Арнольд в первый же вечер повлекся туда и был принят благосклонно. По сю пору не постиг Виталий Иосифович смысла происходившего тогда: в полной рабочей форме, включая сапоги и телогрейку, парень забирался на нары, плюхался на выбранную даму, одетую совершенно таким же образом, и лежал на ней некоторое время. Слов произносилось немного. Попыхтев, пара распадалась на составляющие элементы. Виталик спросил Арнольда, что ощущал он во время таких контактов. Вопрос поставил приятеля в тупик. Похоже, он просто выполнял свой долг, как его понимал. Долг перед столицей, родным институтом, природой, если хотите.
Холодной звездной ночью они с Яшей бредут из центральной усадьбы в свою бригаду и теряют путь в бескрайнем сжатом поле. Они орут: «Протрубили трубачи тревогу, всем по форме к бою снаряжен, собирался в дальнюю дорогу комсомольский сводный батальон», а потом Яша со знание дела говорит, что это слова того самого Галича, который сейчас такое пишет, такое пишет… Они омывают души застрявшими в памяти стихами, нажимая на Блока. Яша, сдавленно: «Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче». Виталик, почему-то хрипло: «Стало тихо в дальней спаленке – синий сумрак и покой, оттого что карлик маленький держит маятник рукой». И вместе, как марш: «Ночь, улица, фонарь, аптека…» Они зарываются в солому и дожидаются рассвета, чувствуя почти братскую близость. Спать не хочется. Яша с чувством мелодекламирует – это после Блока-то:
На острове Таити
Жил негр Тити-Мити,
И негр Тити-Мити
Был черный как сапог.
Вставал он утром рано,
Съедал он три банана
И, съевши три банана,
Ложился на песок.
У негра Тити-Мити
Была жена Фаити,
Была жена Фаити
И попугай Кеке.
Однажды на Таити
Приехала из Сити,
Приехала из Сити
Мисс Мэри Бильбоке.
В красавицу из Сити
Влюбился Тити-Мити,
Влюбился Тити-Мити
И попугай Кеке.
Жена его Фаити
Решила отомстити,
Решила отомстити
И мужу, и Кеке.
В большой аптеке рядом
Она купила яду,
Она купила яду
И спрятала в чулке.
Однажды утром рано
Лежат как три банана,
Лежат как три банана
Три трупа на песке:
Красавица из Сити,
Несчастный Тити-Мити,
Несчастный Тити-Мити
И попугай Кеке.
Или же начинает бормотать необыкновенно скоро – нет, не «тройка, семерка, туз», другое: жили-были три китайца – Цак, Цак-Цидрак, Цак-Цидрак-Цидрони, жили-были три китайки – Ципа, Ципа-Дрипа, Ципа-Дрипа-Лимпопони, поженились Цак на Ципе, Цак-Цидрак на Ципе-Дрипе, Цак-Цидрак-Цидрони на Ципе-Дрипе-Лимпопони, и родились у ник дети – Шак у Цака с Ципой, Шак-Шамак у Цак-Цидрака с Ципой-Дрипой, Шак-Шамак-Шамони у Цак-Цидрак-Цидрони с Ципой-Дрипой-Лимпопони.
И если уж говорить о поэзии в их целинной жизни, то на память Виталику – через пятьдесят лет – приходят элегические строки отрядного комсомольского вождя, третьекурсника Володи Минцковского, произнесенные другой – тоже звездной – ночью на задворках барака: «Я стою под дождем и курю над растоптанной кучей говна. Юрка серет в кустах, а вокруг – тишина, тишина, тишина…» Юрка, туповатый боксер – как уж он попал в институт? – добрый парень, взявший Виталика под защиту (этого не трогать!) от местных, за что подзащитный потом провел немало часов, пытаясь вдолбить хоть что-то из математики в его башку, любил рассказывать Виталику по ночам (лежали на барачных нарах рядом) о своих девочках из высоких партийных кругов, будоража сексуальность интеллигентного еврейского девственника. Впрочем, запомнилась ему – возможно, своей несуразностью – совсем не чувственная сценка. «И вот Светка в гараж въезжает задом, только тормоза взвизгнули, и ручки «Волги» – раз! – отломились». Бред какой-то. Как можно въехать в гараж, отломав ручки «Волги»? Еще зеркала – туда-сюда. Да и то, что за гараж, если у него такие узкие ворота? Врал Юрка, ясное дело, но логические эти неувязки приходят в голову позже, а тогда: Светка, сиськи – во! Да еще «Волга»! Лето Господне одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмое.
Писал он и другу Алику У. – о том же, но другим стилем.
20.IX.1957
Здравствуй, о жалкий раб цивилизации, умствующий червь, пожирающий свежий белый хлеб со сливочным маслом, скворчащие глазуньи с зеленым лучком и помидорами, возмутительно ароматные щи и оскорбительно сочные котлеты, и все это – из омерзительно чистых тарелок, пьющий лимонад и вино из преступно прозрачных стаканов, спящий на классово чуждых мягких матрасах и злобно хрустящих крахмальных простынях и при этом имеющий полную возможность писать мне письма на, как и следует из названия этого предмета мебели, письменном столе (я же сейчас пишу, положив бумагу на лопату, в ожидании, когда комбайн – да отвалится у него главная шестерня – наберет полный бункер зерна). Я вряд ли сумею закончить письмо в один сеанс. Начну с того, как нас (204 штуки) перегрузили из пульманов в грузовики. Когда мы в бане смыли верхний слой грязи, нашу группу – 14 студентов – привели в домишко, до ужаса вонючий и захламленный, где жили уже человек 20 местных, и разместили в два этажа на нарах.
На следующий день мы начали работать: заполнять веялку зерном (вручную, а рядом стоял автопогрузчик). А вчера, загрузив зерном бричку, я собрался было отдохнуть, но возчик закурил и невозмутимо сказал мне – «вези». Я знал не так уж много: нужно взять в руки вожжи, причмокнуть и сказать «Н-о-о!». Так я и сделал. Взял, причмокнул, сказал. Еще раз причмокнул и сказал. Тишина. «Ну, е… вашу, кони, мать!» – взревел возчик, и они, кони, пошли. Надо сказать, что матерятся здесь своеобразно: непременно указывается, о чьей матери идет речь, одним местоимением не ограничиваются. Причем угроза может распространяться и на родительниц неодушевленных предметов: сена, ведра, полена, лопаты и проч. «Е… твою, лопата, мать!» – вполне обычное дело.
Возить зерно на бричках – моя любимая работа. Везти приходится за 6 км – едешь себе и наслаждаешься видом степи. Попробовал я съездить верхом на центральную усадьбу, под дружный хохот местных протрясся с сотню метров и вернулся. Ой, гудит проклятый, зовет, мать его, комбайна.
Вчера не удалось дописать письмо, продолжаю.
Весь день работал на скирдовке, грузил возы с сеном. Сейчас отдыхаем. Вообще, я рад, что поехал сюда. Во-первых, многому научился, во-вторых – красота. В письме трудно описать, когда приеду – попробую рассказать. Здесь у нас идет соревнование, кто больше наработал. За четыре дня я заработал девять трудодней и пока на втором месте. Работаем по 12 часов в сутки, не меньше. Устаю, конечно. К тому же нас кормят главным образом ненавистным мне подсолнечным маслом. Мы его едим, смазываем им сапоги и цыпки на руках. Разве что ванны не принимаем.
Привет маме, бабушке, Светлане.
Виталик
Возвращаемся в Москву в человеческих вагонах, разливаем Юркин тройной одеколон (еще в зоне сухого закона) и слышим по радио: запущен первый в мире искусственный спутник Земли.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.