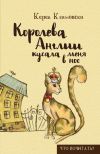Текст книги "Санки, козел, паровоз"

Автор книги: Валерий Генкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Виталий Затуловский
(продолжение)
А ходить в Пушкинский продолжал, чаще один – Умный Алик норовил убедить, на чем-то настаивал, выстраивал картины и художников по степени величия… Теперь уже не только импрессионисты и пост– притягивали, бродил Виталик и в иных залах. Правда, обилие Рейсдалей сбивало с толку и не сразу отличал, скажем, Якова Исааковича от Соломона Яковлевича. Но на какающую собаку в «Зимней сцене» Ваувермана мог смотреть долго. Тем более что там ее не было. Это уже из поздней жизни – выставка «малых» голландцев. Но все время недоумевал – неужели вот так, без толчков извне, без кодирования всей историей, можно действительно понимать, что – велико, а что – так себе? И осознал бы он величие, скажем, Моны Лизы, увидев ее проездом в зальце провинциального музея, за подписью какого нибудь Пьетро Пьетрини, пробегая мимо и торопясь заглянуть в буфет до отхода поезда?..
И как это люди буквально из ничего делают шедевры?
Или вот литература. Убить, спасти, осчастливить, ужаснуть, привести в восторг, рассмешить, довести до слез – цепочкой слов. Абсурд. Повзрослев, Виталик сделал ряд наблюдений. Вот, скажем, завораживала его манера письма столетней а то и более летней давности. Когда пальто строили, а тесто творили. Когда можно было прикорнуть в уголок, но никак не в уголке. Он в письмах пытался схватить этот стиль, и, хотя уловил несколько нехитрых приемов перевода то рваной, то уныло-штампованной современной речи в неспешную, основательную, благостную, кучерявую, какой пользовались век назад, – заменить «болеть» на «хворать», «мерзнуть» на «зябнуть», «иди» на «ступай», – дальше подобных мелочей дело не пошло. Или вот: «нарочно» вместо «специально». Но забавляться словами полюбил, восхищался их тайнами и терпеливо сносил их обманы. Простое английское window оказалось с секретом: стащив идею у скандинавов, англичане нарекли «окно» словосочетанием «глаз ветра», то бишь wind eye, которое потихонечку превратилось в одно слово. Виталик поскреб темя и заключил, что и русские «окно» и «око» небось в родстве. А свойственная словам лживость огорчила его еще в нежном возрасте. В самом простом варианте это было так: голландский сыр оказывался вовсе не из Голландии, а венгерская ватрушка – не из Венгрии. Пытался понять кое-какие правила словесных игр. Скажем, если сравнить яичницу с солнцем – не веселит, скучновато и плоско, а если солнце с яичницей – уже интересней. Забавы вроде «Алый бархат вечереет, горделиво дремлют ели» занимали его недолго, но зависть, что грызла Виталикову печень сызмальства, он распространял и на словесные изыски. Ну почему не он, а Набоков раскопал такой редчайший феномен: изменяя (добавляя или отнимая) одну букву, мы получаем цепочку английских слов crow—crown—cоw – и точно таким же манером в русском получаем их перевод: ворона– корона—корова! И не ему пришла в голову удивительная фраза: «Коси, косой, косой косой». От расстройства Виталик перестал играть в слова на целый месяц.
То обстоятельство, что седого и практически лысого (такое, знаете, сочетание) Виталика удручает нынешнее обращение с великим и могучим, уже нашло отражение в безответном письме Алику У. Конечно, все его претензии в письмо не влезли. Вот услышит он «приколись по-кислому» – и очень огорчается, а если «миксуй по жизни» – то вообще замыкается в себе, мрачно бродит по квартире и вместо обычных ста пятидесяти наливает все двести. Как-то он признался молодой, обворожительной и весьма образованной (разные языки превзошедшей) даме, что от выражения «Маша зажигает на танцполе» у него одновременно поднимается кислотность, зудят ладони, ломит поясницу и пища настойчиво стремится покинуть организм всеми доступными путями. На недоуменный и весьма заинтересованный взгляд блестящих глаз он ответил скучным бормотаньем. По его сведениям, мол, зажигать – глагол переходный. Спичку там, или свечку, или, на худой конец, любовь, даже страсть – зажечь можно, а вот так, зажигает – и все? Да и легитимность слова «танцпол» вызывает у него б-а-а-а-льшие сомнения… Глаза дамы потухли. И вольно ж ему так огорчаться? А как упадет его взгляд на перечень услуг современной парикмахерской? От «нейл-дизайна» одной диареей не откупишься. Бедный, трепетный, нежный, чувствительный Виталик. Его мучило сознание, что в какой-то конторе могут трудиться «некреативный» креативный и «неисполнительный» исполнительный директоры. Зато его всегда радовали неожиданные находки в самых, казалось бы, простых строчках. Скажем, «десятый наш десантный батальон». Эти «дес-дес» случайные? Или Булат Шалвович, хмуря брови, выдумывал их за письменным столом? А еще его зачаровывали сравнения, он таял от удовольствия, когда читал, что в крике осла слышалось отчаянье трубача, не прошедшего конкурс для музыкантов Страшного суда. Или: музыка была вязкой, как слюна после наркоза…
Слова, слова… Давным-давно, ребенком малым, он был смущен историей с Александром Матросовым, который закрыл собой амбразуру дзота. С «амбразурой» особых сложностей не возникало – слово красивое, звучит благородно, по-иностранному, приводит на память доктора Амбруаза Паре, ну все помнят, «Королева Марго», врач Карла Девятого, то-се… Сложнее с дзотом. Кто-то сказал ему – уж не отчим ли Анатолий, главный консультант по военным вопросам, – что это расшифровывается как «долговременная зенитная огневая точка». Но ведь ствол зенитного пулемета направлен вверх, разве не так? Какая-то нескладуха была с этим дзотом – ну стрелял он в небо, зачем и как его грудью-то… С этим представлением дожил Виталик до преклонных лет – не то чтобы неразгаданная тайна постоянно его мучила, но все же какой-то душевный неуют оставался. И только недавно узнал, что дзот – это деревянно-земляная огневая точка. Во как. Все стало прозрачно. Век живи…
«Романы писать просто», – нагло – и вскользь – заявлял Алик, и в ответ на вопросительное движение головы следовало разъяснение. Важно соблюдать два принципа: банановой шкурки или арбузной корки – если кто-то в первой главе ее уронил, то в седьмой на ней должны поскользнуться, и повтора персонажа – если в четвертой главе мелькнул чистильщик обуви, то в девятой выясняется, что его дочь принимала роды у племянницы главного героя. (Я-то как раз и забыл про второй принцип – и высовываются там-сям таинственные Фаня, вторая Ира, вторая же Леля… Ау, где вы – наследили тут и сбежали, канули.) И Виталик тщился испечь новый сюжет самостоятельно. Некий антигерой страстно хочет разбогатеть… Нет-нет, речь не идет о том, что идея эта свежа. Но пусть бросит в меня камень тот, кто доказательно объявит новой любую сюжетную идею мировой литературы последних пятисот лет.
Начать хотя бы с цифры – просится в строку освященный гениальным романом миллион. Сумма хорошая – добрый старый советский миллион. Где ж его взять? Честно, без уголовщины. Иначе герой – преступник, а роман превращается в детектив. Не то чтобы автор не любит детективов – напротив, жанр этот он обожает и каждый раз, заполучив в руки свежее произведение такого рода, откладывает служебные и домашние дела, обзаводится стеклянным взглядом и привычкой тыкать вилкой в компот и читает, читает… Словом, ведет себя, как вполне нормальный человек. Ведь и эти строки – чего уж тут скрывать – пишутся между надцатой и надцатой частями телесериала «Разбитые фонари на Петровке, 38». Он бы и сам рад написать детектив – да не умеет. Врожденная мягкость характера, разброд в мыслях, привычка перескакивать с темы на тему, неотчетливость чувств – все это не вяжется с геометрической выверенностью жанра. Тут и два принципа имени Алика У. не помогут.
Так вот, о миллионе. Где протагонисту этого, пусть и не написанного, романа взять миллион? Найти клад и законопослушно отдать государству? Неплохо, только следует иметь в виду, что в этом случае найти придется четыре миллиона – только тогда откат государства составит вожделенную сумму. Или – наследство. Инюрколлегия разыскивает родственников Серафимы Гнатюк, урожд. Сарры Блох, скончавшейся в Тангатуа, Нов. Зел., такого-то, такого-то, такого-то. Вполне возможная вещь – опочившая Гнатюк-Блох завещает герою сто тысяч баранов по 1 руб. 90 коп. за килограмм (средний вес завещанного животного нетрудно определить).
Так или так – не перевелись еще честные способы получения крупных сумм. Остаются сущие пустяки: выбрать самый удобный и решить, что станет делать с деньгами герой. Начать, впрочем, придется с выбора персонажа, наделения его телесными и духовными чертами, окружения роднёй, сослуживцами, друзьями, врагами, любимыми и любящими, после чего можно потихоньку переходить к обстоятельствам овладения помянутым кладом/наследством.
Героя автор знает превосходно. Он сам его придумал, а потом вместе с ним рос, учился в школе и других образовательно-воспитательных учреждениях. Герой этот нередко поверял ему свои сокровенные и иные, попроще, мысли и движения души. Поэтому автор имеет смелость заявить, что черпает свои наблюдения из гущи жизни, а не из чернильницы.
Вася (простое, благозвучное имя) рос наблюдательным, смышленым и очень любознательным ребенком. Как-то уже подростком, едучи в автобусе «Икарус» – кто не помнит «Икарусов» из братской Венгрии? – он обратил внимание на изящную табличку с надписью: «При аварии разбить стекло молотком». Вася поделился с Виталиком этим наблюдением.
– Ну и что? – спросил Виталик.
– А где взять молоток? – ответил он вопросом на вопрос, как обычно поступают Васи.
Молотка и впрямь не было, хотя пружинки-хваталки для него торчали рядом с табличкой.
– Украли, верно.
Вася задумался. Через несколько дней он вернулся к теме:
– Слушай, я проехал в двадцати четырех автобусах с надписью про молоток, которым следует разбивать стекло при авариях.
– Ну и что? – Как видите, в то время Виталик питал привязанность к такой форме вопроса.
– Молотков нигде не было.
Виталик немного подумал:
– Украли, наверно.
Ответы Виталика, как и вопросы, не радовали разнообразием и не могли удовлетворить Васину любознательность. Он принялся размышлять вслух и сделал весьма широкие обобщения, которые вполне могли бы заинтересовать вдумчивого и непредвзятого социолога.
– Видишь ли, – говорил Вася, – мне трудно это представить. Что же получается? Приходит новехонький автобус в парк, отправляется в первый рейс, и на первой же остановке в него врывается тип с блудливым взглядом и сразу, пока никто не видит, – к молотку. И так повторяется во всех автобусах марки «Икарус», а? Это ж воров не напасешься. Я думаю, – продолжил он после основательной паузы, – все происходит не так.
– А как? – Такого вопроса Виталик еще не задавал; прозвучав свежо и звонко, как хруст только-только снятого огурчика, он подбодрил Васю. И тот незамедлительно выложил свою теорию:
– Приходит автобус в парк, вызывает начальник водителя и говорит:
«Э-э-э, Мишустин, ты новую машину получил?»
«Получил, Игнатий Корнеич».
«С молотком?»
«С молотком, Игнатий Корнеич!»
«Так тащи его сюда, от греха».
«Вот, Игнатий Корнеич, уже притащил».
И кладет начальник этот молоток в сейф. К таким же молоточкам-близнецам из братской Венгерской Народной Республики.
Вот такую картину рисует Виталику Вася.
Рисует он такую картину и вдруг спрашивает:
– Скажи, – спрашивает он, – от кого Игнатий Корнеич молоток прячет? – И сам же отвечает: – От нас с тобой. Он нас жульем считает. Априори. – В этот период Вася увлекался иностранными словами. – Вот ты бы смог спереть молоток из автобуса?
Виталик задумался. Хотел было тут же возмутиться – да как же, мол, такое возможно, мы ж, дескать, то-се… Станем мы из-за паршивого молотка… Ну и так далее. А потом и говорит, вроде как сам с собой рассуждает:
– Это, наверно, такие маленькие блестящие венгерские молоточки с резиновой рукояткой.
– Ну и что? – говорит Вася. Ему такая форма вопроса тоже нравилась.
– Такие, – говорит Виталик, – в магазине не купишь.
Заметим здесь, что дело происходит в далекие соцвремена, когда с ассортиментом молотков в торговой сети не все обстояло благополучно.
– Ясно дело, не купишь. И ты что, взял бы?
– Если, – говорит Виталик, – условия благоприятные, никто не видит, мог бы и взять. Все равно – не я, так кто другой возьмет.
Понурился Вася:
– Значит, правильно Игнатий Корнеич их в сейф прячет. Стало быть, имеет право в каждом пассажире вора видеть.
Впрочем – к сюжету. Как могли бы развиваться события с Васей и его вожделенным миллионом? Автор еще не придумал, каким образом Вася вступит во владение богатством, и до поры оставляет за читателем право выбрать этот способ самостоятельно – при условии законности последнего.
Нечаянной радостью Вася делится с другом Петей. Они строят планы. Тут же где-то мельтешит общая знакомая друзей Маша, с которой их связывают запутанные по форме, но весьма прозрачные по содержанию отношения. Виталик представлял себе роскошную обстановку тройственной встречи с целью обсуждения перспектив, которые открывались перед ними после обретения сокровища. Для начала они идут на Центральный рынок, где – а надо сказать, что Вася был большой знаток и ценитель всяческих искусств и даже посещение рынка связывалось для него с клубком ассоциаций фламандско-раблезианского толка, – производят многостраничную закупку. С пахучими желтоватыми корзинами, купленными тут же у входа, они степенно плывут по узкому проливу между мясным и цветочным рядами, и Вася тычет аккуратным пальцем во влажный телячий оковалок и говорит: «Это нам нужно?» – а потом упоительно обсуждают рецепты кушаний и оформляют стол.
И надо такому случиться, что через день-два Вася звонит Пете и врезается в разговор друга с Машей, который невольно подслушивает. Идет кошмарный текст – план отъема у Васи капитала с намеком на печальную неизбежность его, Васи, убийства.
Следуют мучительные раздумья, разочарования – друг детства, любимая, то-се. Что делать? И он бросает дом, работу и бежит – прочь, прочь, – объятый отчаянием, но и обремененный деньгами. Начинаются скитания героя. Города, села, они же веси, и эти… поселки городского типа. Вот Вася в Ленинграде…
Лениво бродит он по залам главного музея, рассеянным оком скользя по расставленным там-сям древностям, когда голос одной из гидесс привлек его слух необычной для экскурсовода Государственного Эрмитажа интонацией – в ней, интонации, была сокрыта, не слишком, правда, старательно, ирония над предметом ее поучительного рассказа (им был надутый позолоченный павлин из часов Павильонного зала) и над нею самой, поставленной в необходимость давать незнакомым и нередко малосимпатичным ей людям пояснения к вещам и событиям, связанным с ее духовным миром узами сложных, глубоких отношений, в которых она и сама разбиралась неохотно и часто с большим трудом. Оглянувшись на голос, Василий увидел молодую женщину не слишком привлекательной, но уж и не отталкивающей наружности, в которой (наружности) особенно выделялись длинная белая шея и тонкогубый рот и которая (женщина) не без грации, даваемой сочетанием профессионального умения и природного изящества, гнала перед собою по блестящим навощенным лугам табун посетителей, не давая им щипать корм где попало, но уверенно направляя их к шедеврам, предусмотренным экскурсионным планом. Взгляды их встретились и некоторое время ощупывали друг друга, проверяя добротность излучателя, потом свились, переплелись, устремились вверх к хрустальным листочкам люстры, упали к шахматно-медальонному пастбищу, обежали по периметру барочный зал, густо нафаршированный продукцией гениев, распались с тихим звоном – и погасли.
Когда женщина распустила экскурсантов, Вася подошел к ней и скромно, почти робко, предложил леденцов, которые она приняла в узкую ладошку и принялась грызть с необыкновенным проворством…
Уже потом, совсем в другом городе – то ли в Киеве, то ли в горбатом Тифлисе, – по нечаянному созвучию фигур, ее и промелькнувшей туземки, он вспомнил, как она искала куда-то запропастившуюся серьгу, страшно дорогую, крупная брильянтовая капля в обруче белого золота, они торопились в театр, а серьга не находилась, как сквозь землю… Губы еще больше кривились, но ему не было жалко этой, с долгой шеей, змеистыми губами и влажными серо-зелеными глазами. А вот старую тетку с белыми космочками он жалел. Когда Вася – редко очень – приходил в ее привилегированную богадельню, где старухи жили по две, а то, если пенсии хватало, как у его тетки, и по одной в комнате, телевизор, холодильник «Морозко» и мочой почти не пахнет, она рассказывала о тамошних новостях, кто с кем, кто к кому ходит, и про балерину непременно, которая блистала лет сорок назад, еще в сороковые, а потом ушибла позвоночник и вот здесь, а ведь ей и семидесяти нет, и кто умер за последние дни – Васечка, когда ты у меня был в последний раз? – и кого взяли на одиннадцатый этаж, умирать. И совала ему сахар, у меня остается, мне нельзя так много сахару, а ведь дают, не выбрасывать же. И вафли давала, завернутые в несвежую газетную страницу, – выходя, он брезгливо кидал их в урну у ворот. А в тот раз тетка была невменяемой – не рассказывала о новостях, не говорила о политике. Беда, беда, сережка пропала. Она вся в этом горе – двигает чашки, встряхивает платочки и тряпочки, ощупыват себя, халатик, чулки, шарит по углам веником, становится на колени, задыхаясь лезет под низкую узкую кровать, запускает руку в сапог под вешалкой, второй еще на ней, не успела снять. Утром, помню, была. Гуляла – я шляпку надевала, в зеркало смотрела – была, вот пришла, шляпку сняла, сюда положила, пошла к телефону… Встрепенулась – кинулась к телефону. Нет, нету, ты присядь, Васечка, как там дома, как мама… Могла зацепить, когда шляпу снимала… Пальцы снуют, глаза отрешенные, и опять – к венику. Нет, конечно, ничего страшного, черт с ней, они дешевые, тридцать два рубля. И – двигать чашки и трясти платок…
Вечером позвонила – нашла! Упала в сапог, не тот, что под вешалкой, а тот, что на ней был.
Вот так путешествует Вася и время от времени шлет письма Маше. В них и укор, и игра, и описание виденного и переживаемого. А Петя бросается за ним в погоню, хочет объяснить, что, мол, ошибка получилась, вовсе они с Машей не собирались… И, сами понимаете, проезжая по тем же местам, но без денег – они же у Васи, – он видит жизнь в совсем другом свете и тоже пишет Маше о впечатлениях – со своей, нищей колокольни. Письма эти она (вместе с читателем) сравнивает между собой и, естественно, удивляется столь различному истолкованию одних и тех же событий, описанию одних и тех же мест, гостиниц, встреч…
И вот Петя гонится за Васей, получая от Маши свежие сведения о передвижении беглого друга. А тот… В роскошных гостиничных номерах являлись ему детские воспоминания – заячий пух шубки, треугольная тень свечного пламени, картофельный отвар, желтая капля мозга на головке дятла. Да, да, той самой птицы, которую убил сосед Виталика по даче, длинный парень по имени Адольф.
Чтобы не забыть – та, с шеей Модильяниевых дев, серьгу не нашла. Он купил ей новые, вдвое дороже, и уже потом уехал.
По прошествии времени и под влиянием сумасшедших возможностей, даваемых нечаянным богатством, стал он меняться… С деньгами Вася вступает в сложные, противоречивые отношения. Нет, нет, он не примитивный прожигатель жизни, ловец наслаждений – отнюдь. Вася должен потратить их со вкусом. Он мечется. Из доброго, сострадательного малого становится желчным и подозрительным. Ему представляется, что новые приятели и женщины тянутся к нему из-за денег. Ну прямо-таки положение андерсеновского солдата – не стойкого оловянного, а находчивого парня из «Огнива», помните? И все с большей тоской вспоминает он свое бездумное, безалаберное – безденежное – прошлое.
Дела нет. Искусство пресыщает. От музеев тошнит. Красота раздражает. Вася отправляется в глушь. Но выясняется: он там не нужен, чужой он, неестествен – в природе, среди пейзан и охотников.
А Петя все ищет, почти находит, снова теряет… Возвращается домой и там…
Был у них, двоих друзей, некогда такой юношеский порыв, связанный с совместным переживанием далекой молодости. Каждого, скажем, седьмого июля в двенадцать часов ночи встречались они то у одного, то у другого, по очереди, чтобы подтвердить свою дружбу: их много лет назад чуть было не развела общая любовь к одной девушке. И Вася – пусть меня убьют, думает, – идет на эту встречу. Он заявляется к Пете в полночь. Готика. Ухают совы, хрипло бьют часы. Сквозняки. Скрип дверей. У-у-жас.
И все разъяснилось: он, оказывается, подслушал диалог из пьесы, которую Петя с Машей, увлеченные любительским театром, репетировали по телефону.
Счастливый финал.
Но что сталось с деньгами?
Этого Виталик не знал. Не придумал. В сущности, определить их судьбу – дело читателя: раздать друзьям, родным или совсем незнакомым, построить приют для бездомных собак, скупить все статуэтки олимпийских мишек (ага! вот когда он это сочинял, в 1980 году)… Да и какая разница.
Тяга к лицедейству отличала и самого автора. Она овладела Виталиком еще в школе. Драмкружок. «Мещанин во дворянстве», класс, пожалуй, девятый. Блистал Додик, будущая звезда стоматологии и муж другой звезды, сочинительницы текстов для эстрадных певцов. Верзила-баскетболист неожиданно проявил себя комиком, сыграл Журдена. Тогда же восходила артистическая звездочка Аллочки – ну да, той самой, вместе с которой он позже тушил новогоднюю елку. Виталик играл учителя пения. Успех обеспечивался тем, что слух у него напрочь отсутствовал и он очень громко провыл: «Коль терпит так, Ирис, тот, кто вас любит нежно, какой же для врага готовите вы ад». Грим, усишки, штанишки буфами – названные в сопроводительном документе Мостеакостюма штаниками. Отрава эта дремала в его организме более десяти лет, пока вновь не проснулась, соединившись с тягой к английскому языку, и не погнала в English Drama Group при Доме учителя.
То было время тушинских страданий. Располагавшийся там почтовый ящик – что-то по части изделий «воздух-воздух» – приютил его и укрыл от армии. Чтобы к восьми добраться до места, Виталик вставал в пять, дожевывая бутерброд, брел к автобусу, втискивался в тесное пахучее пространство – а пахнуло оно человеческими испарениями, злобой, влажной мануфактурой, перегаром, нищетой, бензином, неуютом, хозяйственным мылом, крахом надежд, «Шипром», уныньем и чесноком, – и он, автобус, влек его тело до метро «Университет», откуда, обоняя практически те же запахи за исключением, пожалуй, бензина, Виталик с пересадкой добирался до «Сокола», чтобы продолжить ингаляцию в трамвае. Последние полкилометра дышал свежим воздухом тушинской глухомани. Там, укрепляя обороноспособность страны (с перерывом – сорок пять минут – на обед) путем тыканья паяльником в лепестки на гетинаксовых платах, он прожигал свои юные годы, числом два, покуда угроза загреметь в армию не рассосалась. Так вот, техинтеллигенция шестидесятых, фрагментом которой оказался Виталик, – славный народ. Витя, гений схемотехники, глухой ко всему, что этой самой схемо не касалось. Юра, бездипломный техник, «беломорина» в зубах, чуть гордый общением на равных с инженерами, славнейший и добрейший малый. Начальник лаборатории Саша, книголюб и философ, любитель фантастики. Могучий и болявый – что-то со спиной, спондилез. Гена, называвший всех коллег «доктор» и убежденный, что только изделиестроение способно поддерживать научный потенциал страны. Сережа – вот к кому привязался Виталик крепче всего. Молчаливый, ироничный, элегантный и спортивный – тяжеленную железную штуковину в ежедневный физкультперерыв поднимал из-за головы, что было доступно еще только одному их коллеге, имя которого ускользнуло из памяти Виталика и, стало быть, моей, а сочинять нет нужды. Тот, помимо манипуляций с железом, щеголял немецкими словами: «А это ты мёглих? – И делал стойку на табуретке, переходя в положение “уголок”. – Это ты унмёглих». На что Сережа невозмутимо повторял упражнение с отменной легкостью. И Виталик – по обыкновению – завидовал. А еще этот коллега с позабытым именем пел песни Вертинского с удивительным сходством:
Потом опустели террасы,
И с пляжа кабинки свезли.
И даже рыбачьи баркасы
В далекое море ушли…
И эту, которую Виталик раньше и не знал вовсе:
В темной сумеречной тени поднял клоун воротник
И, упавши на колени, вдруг завыл в тоске звериной.
Он любил, он был мужчиной,
Он не знал, что даже розы на морозе пахнут псиной!
Бедный Пикколо-бамбино!
И Виталик снова завидовал. А пахнущие псиной розы натолкнули его, питавшего к собачьему племени нежные чувства, к простой мысли: если розы пахнут псиной, то верно и обратное – что собаки пахнут розами.
Ох уж эта зависть. Бывали случаи, когда она ела Виталика поедом. Себя, любимого, жалея, он запихивал ее глубже, запахивал на благостном поле бескрайней терпимости. Ведь тяжкая эта болезнь, убеждал он себя, никому еще не повредила: напротив, пытаясь ее преодолеть, он творил – старался творить – добро. Дескать, да, я не такой умный, талантливый, успешный, красивый, сильный… Зато – добрый. Как же! А подленькая радость от мелких побед? Крупных-то не было. Впитав в себя имя друга целиком, он не мог вместе с цепочкой из четырех букв проглотить и оставить при себе его многочисленные дарования. Впрочем, по отношению к Умному Алику зависть возникала нечасто и не принимала острых форм. Скорее наоборот, удачи старого друга радовали Затуловского: в известной степени он воспринимал их обоих как половинки целого, а потому достоинства второй, дополняющей до целого, части зачислялись Виталиком на общий счет – тоже, кстати, свидетельство эгоизма. Когда, еще в юности, у Алика открылся очередной талант – живописца, Виталик, несколько обалдев, снял шляпу (фигурально) и написал (буквально):
Для самовыраженья прост
И незатейлив путь: берете
Немного краски и кладете
На лист картона или холст.
Так, кистью или мастехином
Орудуя перед станком,
Вы мир, который вам знаком,
Переплавляете в картину.
Я заявляю не юля —
Подобный модус операнди
Мне по душе. Ни опер ради,
Ни, милые, балета для
Не пренебречь ни вам, ни мне
Тем, что повисло на стене.
Но вот Сергей переходит из «стойки» на «уголок», а Володя Дубинский подтягивается на одной руке, а Володя Рассказов под гитару поет «Клен ты мой опавший», а Миша волшебно читает монолог Лира!.. Тьфу, до чего обидно.
Раз уж зашла о Вертинском речь, перескажу тебе, милая, воспоминания о нем Галича. Сидит как-то Александр Аркадьевич в ресторане ВТО, попивает водочку, закусывает икоркой, заедает паровой осетринкой – все эти мерзопакостные уменьшительно-ласкательные суффиксы здесь совершенно необходимы для передачи атмосферы. Уж близится десерт (видать, бланманже какое ни то), и тут гурманствующий Галич слышит вкрадчивое: «Разрешите?» Батюшки-светы, Вертинский! «Сделайте милость, Александр Николаевич, почту за честь!» Подзывает небрежным кивком Вертинский официанта, старичка Гордеича, что служил там с незапамятных времен, и говорит: «Принеси-ка мне, милейший, стаканчик чайку, а к чайку – бисквитик». Гордеич, понятное дело, от подобных заказов отвык. Но виду не подал, бросился исполнять. И пока Галич доедал десерт и щедро расплачивался, Александр Николаевич выкушал чаек с бисквитиком, крошки смахнул в ладошку, в рот опрокинул и извлек потертый, но хорошей кожи кошелек. Отсчитал Гордеичу положенные пятьдесят две копейки, добавил алтын на чай и – «Благодарю, любезный! (Гордеичу) Прошу извинить за беспокойство! (Галичу)» – потопал к выходу. Только он вышел, Гордеич обращается к Александру Аркадьевичу с вопросом: «Кто ж это такой был?» А Галич ему: «Что ж ты, Гордеич, самого Вертинского не узнал?» Порозовел старый официант и прошептал: «Да, сразу видать – барин!»
Так вот, изобретали они тогда какую-то хрень для проверки ракет перед вылетом самолета. Пока Виталик, начинающий, ковырялся с третьестепенной важности схемой стабилизации питания, Сергей заведовал весьма сложным блоком самоконтроля, сокращенно БСК – аббревиатура эта и сейчас помогает Виталию Иосифовичу запомнить порядок полос на российском флаге, а тогда подвигла его на стих:
Время. Начинаю. Память коротка.
От годов былинных и поныне
Оживляет прошлое строка,
Не запишешь – порастет полынью.
И теперь, как много лет назад,
Люди пьют полей полынных горечь,
Горы незаписанного горя,
Как и много лет назад, стоят.
Но стихами время одолеем
И на годы – что я, на века! —
В памяти людей запечатлеем
Славного владыку БСК.
Помню, шашлык ел,
Пил, пел.
Помню, что лук, как мел,
Был бел.
На поросячьей спинке
Пасть – щелк!
И, не бросая вилки, —
Еще!
Больше не будет? Вот как?
Сволочи! Серо, сыро,
Сиро без мяса. Водка —
Милая мера мира.
Бутылка водки,
Кусок корейки —
Экипировка
Эпикурейца…
Да, любил Сережа хорошо выпить и закусить, и это их тоже сближало. Была у них с Виталиком и общая идея всерьез заняться вычислительной техникой, самой модной областью в те времена. У Сергея имелись для этого все данные, а Виталик умишком скудным дальше триггерных цепочек и набора логических схем не проникал, но полистывал статейки о биоэлектронике и прочих параферналиях. Сдружили их еще пуще вылазки с палаткой в Подмосковье: Сергей с красноголовой девушкой Валей, Виталик – а правда, с кем Виталик? Ох, то с той, то с этой. Любовь Сережи и Вали была трогательна и вызывала у Виталика слюнявое восхищение и – опять же, что поделаешь – зависть, пока как-то раз, запутавшись внутри полуразобранной палатки, Виталик с Валей не слились в безобразно смачном, извилистом каком-то поцелуе. Выбравшись на свет, она стрельнула глазом в Сергея – не заметил – и облегченно вздохнула. Потом были Соловки, Кижи, Шхельда имени Тины, а совсем уж позже – Иссык-Куль. Но один эпизод тушинской жизни заслуживает отдельного заголовка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.