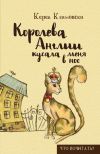Текст книги "Санки, козел, паровоз"

Автор книги: Валерий Генкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Уже март был, солнце, сосульки. И вот как-то утром подозвал дядя Роман нас с Колькой:
– Вы, ребята, старшие. Вам я должен все сказать. Отправляйте-ка всех гулять и дайте мне мою сумку.
Галка одела малышей, и они ушли. Дядя Роман открыл свою сумку. Сначала достал коробку с шариками. Их там всего шесть штук оставалось.
– Разделите бритвой каждый шарик пополам и давайте Мике и Васе через день по половинке. Сами не ешьте – большие уже. Да и Галка потерпит.
Мы с Колькой закивали: понятно, мол, чего там.
– Теперь открывайте вот эту.
Мы открыли коробку с опилками. Их побольше было – штук тридцать. Он их тоже велел на половинки разделить.
– Кашу делать умеете. Маленьким давайте в те дни, когда шариков есть не будут. И сами ешьте через день.
– А вы, дядя Роман? – спросил Колька. – Вы что, уходите?
– Да, ребята. Мне пора.
– Да ведь вы больны. Вам лежать надо.
Дядя Роман не сразу ответил. А потом сделался еще серьезней и сказал вроде как нам обоим, но больше все-таки Кольке:
– Вот еще что. Через двадцать два дня, второго апреля, вот это, – он достал коробочку с кнопками, – надо положить в любое место у Пяти углов. Здесь близко, вы знаете.
– Знаем, – говорит Колька.
– Но так, чтобы видно не было. Если снег не сойдет, лучше в сугроб уронить, а если все растает, землей немного присыпать…
– А в какое место положить-то?
– Не важно. Не беда, если на сотню шагов ошибетесь. Главное, чтобы никто раньше времени не нашел, а кому надо – отыщут. – Он долго так смотрел на нас и добавил совсем уж тихо: – Очень вас прошу, сохраните ее до второго апреля и отнесите куда я сказал.
– Может, вы сами? – говорю я.
– Я не могу. Дела у меня, ребята, в другом месте дела…
– А вдруг, – говорю, – мы не…
Но он не дал мне закончить:
– Дайте-ка мою куртку и проводите меня до угла.
Я и сейчас помню, как медленно мы шли по Восстания до угла Маяковской. Еле-еле. Я начал было вспоминать, когда дядя Роман ел с нами в последний раз. И не вспомнил. Может, неделю назад. А может, две? Давно, очень давно. За угол он свернул один – нам с ним дальше идти не велел. Только рукой махнул и отвернулся.
Шарики и опилки мы делили, как он говорил. И вот дотянули, видите – живы. А второго апреля мы с Колькой пошли к Пяти углам и засунули коробку в щель за каменной тумбой во дворе булочной. И снегом забросали.
Третьего хотели посмотреть, там ли коробка, но не успели – из домкома пришли, сказали, будут нас эвакуировать. Хлеба дали, сюда вот привезли.
Мальчишка широко зевнул и тряхнул белобрысой головой.
– Да ты иди, ложись. Еще часа три до посадки. – Пожилой старшина провел изувеченной ладонью по волосам ребенка и слегка подтолкнул его. – Ступай, ступай!
– Так вы уж попросите, чтоб нас в одну машину, а? Всех семерых? Нам обязательно, чтоб вместе.
– Сделаем, Серега, сделаем.
Щуплая спина мальчика растаяла в глубине коридора.
– Фантазер, писателем будет, – сказала худая сутулая медсестра.
– Да, складно врет, – согласился старшина. – А кем будет – чего гадать. Вон позавчерашний транспорт – вчистую разметало. Ни один не спасся… И-э-х… и мне соснуть часок.
И старшина расстелил полушубок тут же на лавке у черного колена тихо остывающей чугунной печки.
Через день пришло письмо с последними новостями и указаниями:
7 июля 1977 г.
Дорогой Котичка!
Пишу тебе коротенькое письмецо. Забыла сказать о полотенцах – возьми одно для ног, а второе – для лица, себе. Я не взяла и обхожусь, Оленька со мной поделилась. А банку для сметаны не надо, т. к. здесь сметану продают в баночках – изумительную, как масло, а разливной, кажется, вовсе нет. Посуду молочную принимают тут же в магазине, когда покупаешь продукты, идет в зачет. Возьми себе что-нибудь из непродуваемой одежды (например, замшевую куртку с водолазкой), вечером на море ветер, а мы ходим вдоль берега далеко-далеко.
Котичка, скоро мы уже увидимся, я очень рада этому. Сейчас Оленька заснула. Я ей каждый вечер на ночь даю теплое молоко, дабы избежать всяких простуд. Машину здесь можно ставить под окном. Будь осторожен, когда поедешь.
Ну, все, кончаю письмо, мой дорогой, любимый Котичка.
Целую тебя крепко.
Наташа
P.S. Забыла еще о чае. Привези пачки две (большие) инд. чая, т. к. здесь только грузинский. И еще – лимоны, крупных штуки три, Оле хватит для чая, а то молоко она целый день пить отказывается. Ну и тряпки – вытирать со стола, мыть посуду – небольшой запасец, т. к. у хозяйки жуткая вонючая тряпка уже месяц не меняется.
Ура! Ура! Вчера мы нашли с Олечкой на пляже кусочек янтаря.
Требуется перебивка, сейчас это все чаще называют иностранным словом
Интерлюдия
В такую главу можно сваливать все подряд.
Пуще многого другого состарившийся Виталик не любил блаженных – по Чаадаеву – патриотов. Ну можно ли, думал он, убивать людей, заставляя их под пулями развешивать куски материи определенных цвета и формы на самых открытых местах – куполах, башнях, шпилях, высотах? Еще страшнее, коли их не заставляют, а доводят до исступления, истерики, когда лезут самозабвенно, сердце колотится, забыты мать, небо, цветы, что там еще – корова Красотка, любимая Машка, или, наоборот, корова Машка, любимая красотка, все побоку, – я первый привяжу эту тряпочку, и все узнают, все скажут…
Одно время, правда, готов был Виталий Иосифович сделать шаг навстречу горячим патриотам, утверждавшим, что наш вурдалак, Иосиф Виссарионович, все-таки лучше ихнего, Адольфа Алоизовича: то ли потому, что тезкой отцу пришелся, то ли сказалось еврейство Виталика. Хотя что ж тут удивительного: при наличии двух вурдалаков один всегда лучше другого. Вот и Николай Иванович Глазков, горький наш поэт, в военные годы написал:
Господи! Вступися за Советы!
Сохрани страну от высших рас,
Потому что все Твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас.
Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России – такой, как она нам представляется… Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, пороками, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения.
Говорил это Петр Андреевич Вяземский – он патриот? А может, истинному гражданину российскому более пристало по-языковски наслаждаться зрелищем растянувшегося на льду немца? Или – с Пушкиным – хулить тех, кому не по вкусу расправа верного росса над кичливым (каким же еще?) ляхом? И что со всем этим делать? Пушкину можно? А французам невместно судить русских? Ишь разболтались! Суньтесь, мы ужо завинтим измаильский штык – и в брюхо, всех уроем, места хватит на российских полях… Ох, «темен жребий русского поэта».
Особый у России путь. И поляков – спор славян между собою – перестреляем (с Гудерианом на пару), и туалетную бумагу станем вешать снаружи кабинок, и милицию будем бояться паче бандитов… Близнецы-братья: бритый ублюдок с арматуриной, бьющий азера, или хачика, или жида, и мент-антрополог в метро. И все же: одинаковые лица на халявном концерте в лондонской церкви Святого Мартина на полях и на вечере памяти Окуджавы в Москве, – так где, морщит лоб Виталик, самобытность россов? Ведь и лица на концерте Майкла Джексона в Нью-Йорке и «Сливок» («Блестящих», «Ранеток») в Чебоксарах – тоже одинаковы. А уж особость наша, милосердие без меры и края, эта, как ее, ах да – широта души, боговдохновенность… Детишек вот с синдромом Дауна богоносицы наши в роддомах оставляют, а в бездуховной Америке за каждым таким странным ребенком – очередь в двести пятьдесят семей. Неужто прочитали они: «Страннолюбия не забывайте, ибо чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам», – да и поверили Павлу? А наши то ли не читали, то ли не поверили?
Определенно, думал Виталик, щурясь на весеннее солнышко и оглядываясь вокруг, единица нравственности есть величина, обратная количеству окурков на квадратный метр газона, с которого в апреле сошел снег. А если на газон не смотреть, да и вообще глаза закрыть, то и родину любить проще, и людей – да и себя.
Размышления о патриотизме даже подвигли Виталика на создание собственной классификации цивилизаций, чрезвычайно простой: рабов и свободных людей. Ни тебе иудео-христианской, ни тебе мусульманской или, к примеру, буддийской. Различить – проще некуда. Все дело в том, какие фотографии стоят на столе (висят на стене) в кабинетах чиновников. Если президента, аятоллы, духовного вождя, властителя дум – одно. Если родителей, жены, детей, любовницы, собаки, лошади – другое. Спрашивается, как быть, если висит и то, и другое? По мнению устремленного к предельному упрощению Затуловского, в подобных случаях признак «аятолла» перевешивает: дежурный президент – ты раб, дочка и собака – свободный человек. И вся твоя цивилизация – свободна.
Помимо мифа о народе-богоносце, соборности и прочем, занимала Виталия Иосифовича еще идея особого печалования о ближнем, породившая русское понятие «интеллигентность». Коли человек ощущает вовсе необязательный неуют от собственного успеха, который заставляет его не только бить по клавишам компьютера в офисе или чертить мост за жалованье, но заполнять досуг разговорами особого толка: зачем мы? куда идем? – а то и, страшно сказать, что-то делать во благо других, то он уж и интеллигент. А если идеализм в его душе побежден прагматизмом (Обломов – Штольцем), то уж он и не интеллигент вовсе, а так себе – интеллектуал паршивый западного толка. Те нечасто думают, зачем и куда идут. Разве детей калечных усыно-дочерят – ау, интеллигенты! Где вы? Да вот туалеты и автобусы для инвалидов придумали, да собачье говно в пакетики прячут, да робеют палить фейерверки по ночам (нету удали, убогий, хлипкий народец), да шлют помощь куда ни попадя (чуют, видать, что виноваты, норовят отмыться).
Размышляя подобным образом наедине с собой, Виталий Иосифович обычно избегал прилюдных обсуждений этой темы: партнер по дискуссии часто требовал аргументов, а тут он был слаб и неубедителен, горячился уж очень. С тех давних пор, как Виталик выяснил, что умное слово «интеллегибельный» имеет отношение не к гибели интеллекта, а напротив – к постижению этим самым интеллектом истины, он старательно уклонялся от словесных схваток, требующих включения мозгов: боялся прослыть совсем уж дураком. Правда, один – ловкий, по его мнению, – аргумент у него всегда был в запасе, но обычно просвещенные собеседники его не принимали всерьез. А потому споры он вел воображаемые и с воображаемым же противником. Ехал, скажем, в свою деревню, путь долгий, дорога пустая, как бы не заснуть за рулем. Пузырился от отвращения к очередному народному кумиру. Ну и пускал в ход этот самый аргумент.
– Ты на рожу его посмотри – подонок, как пить дать. Да и неужто нужны резоны для такой штуки, как любовь, приязнь, раздражение, ненависть, наконец? Как там в короле Лире: your countenance likes me not! Тебя, брат, возмущает отсутствие во мне той разновидности любви, которую кличут патриотизмом. А в моем представлении патриотизм – нечто туманное, невесомое, да еще извне в тебя вбиваемое. Тут все просто – для меня вселенная отдельного человека наполнена большим смыслом, чем вселенная страны, народа, целой цивилизации… Вот у моего тезки и друга Виталия Бабенко есть удивительное – биологическое – описание гибели целого мира при убийстве одного человека. А судьбы стран и народов, их возникновение и исчезновение – это где-то там, далеко… Ты вот чувствуешь свою укорененность в стране, культуре, истории. А потому, куда ни кинь, выходит Россия лучше всех. Пусть и мерзости кругом, но это наши мерзости, так? Ну хоть смирись с тем, что можно мыслить и инако. Знаешь, кстати, что в елизаветинской Англии, когда здесь царил Иван Грозный, Иосиф Виссарионович образца шестнадцатого века, там в университетах шли диспуты «О пользе мирского инакомыслия для государства»?.. Я, видишь ли, космополит, моя родина – несколько десятков родных, друзей, коллег. И я построил свою вселенную без аргументов, на порицаемом Иисусом песке. И предвзятость моя велика, ох велика: пусть всеобщий кумир сейчас бросится в огонь и спасет ребенка, я все равно заподозрю неладное. Ну не люблю я эту компанию! Its countenance likes me not. И страну, унылое место всеохватного, ликующего, торжествующего хамства, где на дорогах, на улицах, в метро, в магазинах, в конторах тебя унижают, почитают козявкой. И – о ужас – богоносца нашего, народ то бишь. Не то чтобы какой другой любил – нет для меня эмоционально значимого понятия народ. Скорее готов сказать, какой из них, народов, меня меньше раздражает. И скажу: чистоплотный, спокойный, умеренный, обязательный, милосердный – чтоб о калеках заботился, арматуринами на улицах не махал, в ментовках до смерти не забивал, собак не отстреливал… Ох, не знаю. Вот тебе картинка. Газон у нашего дома. У бордюра останавливается джип, какой-нибудь лексус-крузер-гелентваген, хрен его знает, опускается темное стекло, высовывается безупречной лепки женская кисть в кольцах и гелевых ногтях длиною – возьми сравнение из «Сирано» – и роняет на землю окурок с нежным розовым следом. Потом исчезает – и тут же появляется с новым даром: переполненной пепельницей. И на газон – кувырк. Скажи мне, где еще такое возможно? А где еще народ настолько поражен мазохизмом, что выберет своим владыкой и станет славить истерическими и совершенно искренними воплями старательного служаку из организации, которая этот народ десятки лет гнобила? Что? Стыдно так о народе? Да не слишком. Ведь не о людях – о народе. А люди – они всякие, как и везде. Вот, скажем, и Бунин не шибко-то народ жаловал: будет он, народ, впоследствии валить все (это он о мерзостях революции) на другого – на соседа, на еврея. Мол, «что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на это дело подбили…». А вот еще народ-богоносец: в семнадцатом мужики, разгромив очередную усадьбу, для потехи оборвали перья с живых павлинов и пустили искалеченных окровавленных птиц летать. Интеллигенцию честил – не видит она человека, только «народ» да «человечество». Не будь «народных бедствий», не у дел окажутся несчастные интеллигенты: о чем кричать, о чем писать? Ох и умница был, Иван Алексеевич. Злой очень. А в его «нелюбви» – горечь и состраданье.
Так распалялся Виталий Иосифович, давя на газ и гоня от себя мысль, что и ему, как интеллигенту по-бунински, люди не особенно интересны – исключая себя любимого да родных. Ну и павлинов тоже жалко.
Ты просто погружаешься в прожитый мир и снимаешь зажимы.
Звездочки спускаются хрустальные, под ногами чуть скрипит снежок, вспоминаю я сторонку дальнюю и тебя, любимый мой дружок…
Или вот.
Я понимаю, что смешно в глазах искать ответ, в глазах, которым все равно, я рядом или нет. Глаза то лукаво блестят, то смотрят сердито, то тихонько грустят о ком-то незабытом.
Ну и так далее.
Мамайокеро, мамайокеро, мамайокеромаамайа… Что бы тело и душа были как лапша, чтобы галки и вороны были как макароны. И мороженое вафельным пятаком-сэндвичем, оно стекает, а ты языком по кругу, по кругу. Черные чулки девочки-поэтессы Инны К., парень я простой, провинциальный, на все имею взгляд свой специальный, лишь об одном завидую-жалею, что быть большой персоной не умею. Этапы большого пути. К тому самолету Москва—Новосибирск.
Что заставило Орфея так некстати оглянуться?
Кто толкнул супругу Лота на поступок неразумный?
Вот и я в том самолете на тебя случайно глянул —
Так судьбе угодно было – и…
Оставим этот хорей Лонгфелло. Знаешь, как я тебя обманул? Н у, ну. Слушай. Как-то раз на даче, на Трудовой, ты надавила огромный таз «витаминов» из черной смородины, натолкала в три большие банки и велела отвезти домой. Я погрузил банки в рюкзак и попер на электричку. Уже в Москве, в метро, проклятая лямка не выдержала, и это добро грохнулось на мраморные плиты. Весь в сладкой массе, я выволок истекающий липкой жижей мешок с месивом стекла, сахара и смородины наверх и вывалил содержимое в урну. Добрался до дома, долго мылся, стирал рюкзак. А на следующий день, в страхе перед твоим гневом – или не желая тебя огорчать, выбирай сама, – решил восстановить утраченное. С утра пошел на рынок, купил смородину. Запасся сахаром. Накрутил примерно то же количество ставшего мне омерзительным «витамина», взял трехлитровые банки, хотел разложить – и тут вспомнил, что одна из разбившихся банок была особенной – пятилитровой банищей от венгерских маринованных огурцов. Я кинулся в магазин «Будапешт» на Юго-Западе (уже прикидывал, как избавиться от огурцов), но там таких не оказалось. Соседка выручила, дала банку. Правда, немного другую, но ты не заметила. Так и обманул. Прости.
Ах да, как же я забыл о считалках? У нас с тобой наверняка были общие считалки, что в Москве, что в Питере.
На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной – кто ты такой?
Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить.
Катилася торба с высокого горба, в этой торбе хлеб, соль, вода, пшеница, с кем ты хочешь поделиться?
Заяц белый, куда бегал? – В лес зеленый. – Что там делал? – Лыко драл. – Куда клал? – Под березу. – Кто украл? – Родион, выйди вон.
И эта: выбирай из трех одно – дуб, орех или пшено. Начала не помнил. Спросил у Алика – и он не помнит. А больше и спросить не у кого. Правда, следствия выбора не забыл: орех – на кого грех? дуб – три раза в зуб, пшено – это дело решено, и поставили печать, можно снова начинать. Помучился, посмотрел в Интернете – и вот: «Драки-драки-дракачи, налетели палачи, кто на драку не придет, тому хуже попадет, выбирай из трех одно…» – ну и так далее.
А у Ольги были совсем другие считалки. Сплошной звуковой поток, слов не уловить:
Дюба дюба дюба дюба
Дюба дони дони мэ
А шарли буба
А шарли буба
А шарли буба буба буба
Аа аа аа а
А дони мэ
А шарли бэ
А – ми
Замри
Кошка тави
Рики тики тави
Эус дэус космодэус
Бац.
Кошку жалко. Чего это она – тави?
Ну и под занавес этой самой интерлюдии:
Почему сегодня галки
Оглушительно галдят?
Что они сказать хотят?
И зачем сегодня кошка,
Облизав сметану с ложки
И сожрав всю рыбу в плошке,
Притулилась у окошка
И мяучит, спасу нет?
Догадайся, где ответ!
По какой такой причине
Затрубил сегодня слон?
Что поведать хочет он?
Громко тявкают собаки,
Мышь отчаянно пищит,
Бьют клешнями в панцирь раки,
И фонтан пускает кит.
Посходили все с ума
От лягушки до сома.
Вот и в Кириной квартире
Целый день покоя нет.
Почему? —
Сегодня Кире
Исполняется пять лет.
Да, нашему внуку пять лет. Он славный и капризный, какой была Ольга.
А теперь, думаю, настало время для рассказа о таких вещах, как
Путешествия и около
Сладчайшая студенческая пора. Их было трое, плюс сорокакилограммовые рюкзаки, плюс ружье с десятком патронов, плюс ФЭД, плюс блаженное состояние – что-то там, за поворотом?
За первым поворотом был Львов, где в кабачке «Пид левом» (или «Пид вехой»?) они, восхитясь интерьером, со вкусом пообедали, прежде чем сесть в автобус. Путь они держали на турбазу «Ясиня» у подножья Говерлы, покорение которой было целью. С этой турбазы обычно расползались по окрестным горам группки туристов, укомплектованные сухопарыми юношами в очках и ковбойках, крепкими потливыми девицами, а то и тетками в возрасте, с увесистыми задами в неряшливых тренировочных штанах, закатанных до колен. Навьючив рюкзаки с привязанными котелками и скатками плащей под клапанами, они перли в горы, не видя ничего, кроме клочка тропы под своими кедами и маятникового хода загорелых икр впереди идущего. Они делали тяжелую работу, пыхтели и потели, радовались болезненному напряжению мышц, растущим усталости, жажде, голоду – о, голоду! – и вот, наконец, икры замедляют мелькание, кеды переступают на месте, инструктор вопит: «Привал!» – и приходит счастье. Скинуть лямки с ноющих ключиц, кеды с горящих влажных ступней, поднять голову, повертеть шеей, ух, красота (зелень склонов, ущелье, водопадик, овечки, то-се? – нет, нет, не за тем шли) – сейчас напьешься и нажрешься, а потом будешь дремать на солнышке, пока голос инструктора не вырвет из dolce fa niente, не запряжет в рюкзак и не погонит, вперед и вверх, зарабатывать новую порцию счастья. А иначе откуда его, счастье-то, взять?
Их мнение на этот счет отличалось свежестью, хотя полного единодушия они не достигли. Виталик-то, сдуру, хотел ставить палатку – была такая услуга у ясинской базы, пускать на территорию диких туристов за малую плату, разрешать им раскидывать свои шатры, брать воду в колонке и ходить в базовый туалет (система из десятка очков на естественный провал), чтоб не гадили вокруг. А Володька Дубинский ему:
– Не хера торопиться.
– Пораньше встанем.
– И что?
– Пораньше выйдем.
– И что?
Нет ответа. Да и откуда взяться внятному ответу? Впрямь, зачем вставать пораньше, выходить пораньше, когда кругом такая благодать. Третий, Алик, по мудрости своей вообще в этом разговоре не участвовал. Он тихо поглаживал правой рукой слегка опушенный подбородок и стремил взор – туда. Далеко. Его уже не было с ними.
Они начинали отдыхать.
Привычным, походным образом. За пару лет до – то ли через пару лет после – карпатских приключений они вояжировали на самодельном катамаране по Ветлуге. Состав был немного другой. Уже заняв места в общем вагоне до Шарьи, растолкав рюкзаки по полкам и углам, они доставали привычную бутылку, как вдруг… Явился Палыч в китайском плаще и заявил, что едет с ними. О, Палыч – это голова. Его практичности им всем не хватало. Пока они неделями готовились, закупали провизию, составляли списки необходимых вещей, разрабатывали маршрут и прочая, Палыч снисходительно наблюдал за этой суетой. И вот он здесь и в доказательство серьезности намерений извлекает из кармана плаща зубную щетку, алюминиевую ложку и кружку. Которую тут же придвигает поближе к бутылке. В кассе, по его словам, он попросил билет рублей за восемь. Оказалось, как раз до Шарьи. Надо сказать, что практичность Палыча с возрастом приобретала экзотические формы. Через много лет после путешествия по Ветлуге он с женой Валей, по дороге в свой деревенский дом, врубился на «трешке» в стоявший на обочине грузовик. Вальку в тяжелейшем состоянии увезла «скорая», а покалеченный, с сотрясением мозга Палыч из больницы утек: во-первых, в машине был батон колбасы, которую он вез тете Наде Глуховой, а во-вторых – копать же надо, огород ведь. В последовательном развитии этой идеи абсолютной ценности колбасы и огорода Виталик обнаружил родство с печальным эпизодом, случившимся в кожном отделении Русаковской больницы, где он лежал, отращивая новую кожу на левой ноге и сочиняя повесть о трех симпатичных искусственных мозгах по плану, набросанному Аликом во время их очередной прогулки. По больничному коридору с потерянным видом бродил невидный застенчивый человек, Михаил Григорьевич. У него удалили ногти на правой руке, и врач вскользь заметил: «Современная медицина, увы, не гарантирует, что грибок не вернется. Нету такой стопроцентной гарантии». – «Как же, – робко обращался Михаил Григорьевич к сопалатникам и прочим больным отделения, – как же это, а если все опять? Я ведь в коллективе работаю, мне ж никто руки не подаст. Стыд-то какой! Господи!» Народ на эти стоны реагировал как-то вяло. Не разделял опасений, не усматривал трагедии. Ладно, мол, тебе. Может, все и обойдется. А нет, так и пусть, подумаешь – ноготь желтый. Михаил Григорьевич затихал на время и снова брался за свое нытье. Как-то Виталик подслушал уж совсем неожиданное: «Моли Бога о мне, святой угодниче Божий Михаил, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей». Почему о душе, подумал Виталик, когда речь идет о ногте? Так продолжалось некоторое время, пока сосед Виталика по палате, спортивный малый Стасик, на очередное «Что ж делать-то теперь, как быть, куда я такой?» – не оборвал Михаила Григорьевича: «Что делать, что делать. Удавиться!» Той же ночью Михаил Григорьевич повесился.
Именно в той повести герой – самоотверженный искусственный мозг по имени Тим, который пожертвовал собой, превратившись в сказочный сад, чтобы указать человечеству праведный путь, отвратить от поедания телят и уничтожения природы, – отвечает на вопрос, упомянутый Виталиком в одном из писем другу. Вопрос этот, как говорят, Джакометти задавал своим друзьям: «Что спасать при пожаре в первую очередь, если нужно выбирать между полотном Рафаэля и котенком?» Повесть они дописали и долго пропихивали в разные журналы и издательства, снабдив надлежащим предисловием, дабы убедить редакторов в полной добропорядочности авторов. «Марксистско-ленинская философия, – надували они пузырь благонадежности, – показывает, что пути решения трудных экологических проблем, а именно установления социопри-родной гармонии, неразрывно связаны с неуклонным ростом научно-технического могущества человека, а также с достижением гармонии внутрисоциальной, то есть построением бесклассового коммунистического общества, реализующего подлинно нравственные отношения человека к человеку и человека к природе…» Ну и далее в таком духе… Повесть все-таки напечатали – к счастью, без предисловия. Какое-то время они продолжали сочинять вместе, написали даже роман, где предавали анафеме всяческих тиранов и диктаторов, но потом литературный союз распался по причине очевидной неспособности Виталика самостоятельно изобретать путные сюжетные ходы. К тому же Виталик довольно рано понял, что никогда не увидит то и так, что и как дóлжно видеть мастеру (ту самую лошадь-скрипку Уэллса), чтобы создать новый – свой – мир. Оставалось смириться, а чтобы смягчить переживание, сменить для начала вид зависти, свойственной, как упоминалось, его натуре: зависть к успеху поменять на зависть к отсутствию стремления к успеху. По каковой причине он часто вспоминал героя фильма, увиденного в далеком детстве: пожилой благообразный господин, заключенный в тюрьму на долгие годы, умиротворенно клеит конверты.
Счастливый жребий! Но вот при очередной уборке письменного стола – аккуратист! – попался ему на глаза двадцатилетней давности номер русскоязычной американской газеты со статьей их с Аликом покойного друга и хорошего писателя Александра Зеркалова «Московская фантастика», а там… Ну бальзам, чистый бальзам: «Роман Александра Ицуры и Виталия Затуловского – вещь нестандартная. Авторы великолепно владеют словом и добились той степени свободы, которая позволяет, например, пианисту вольно импровизировать, сидя за инструментом. Они соорудили литературный салат, перемешав жанры: философский роман в письмах и космические приключения, пародию на других – и на самих себя, прозу и драму. Но глава за главою они настойчиво повторяют отчаянный вопрос: почему на сцену истории неизменно прорываются тираны, человекоубийцы? Вопрос формулируется образами – то мы видим детину с кошачьими усами, то мелькнет малорослый субъект в треуголке, мы слышим презрительно-медленную речь Сталина и скороговорку Ленина, а то нам вдруг расскажут историю Магомета, который вроде бы и не искал власти над людьми, но как-то вышло, что ее получил… Странная книга. Меня вдруг захватил рассказ-отступление о следователе НКВД, холодном садисте, которого самого ожидал расстрельный подвал, а он не захотел ждать своей очереди и сумел ускользнуть. Почему меня это захватило? Ведь историй таких написано-переписано… Да потому, наверно, что авторы заставили меня сочувствовать кровопийце. Впрочем, по большей части роман читается с улыбкой, прелестный кусок там есть, когда автор сам с собой играет в Портоса и д’Артаньяна – это так узнаваемо, все ведь мы любим играть. А кончается роман стихотворной бормоталкой, онегинской строфой, приемом, подсмотренным у Набокова: “Конец всегда венчает дело – уже другие берега маячат за листа пределом, как многоцветные луга. Смешение времен и красок, тюрбанов, шляпок, шлемов, касок. Литература – карнавал, так этот жанр Бахтин назвал. Но в бутафорского огня игре, в шутих надсадном вое вдруг просквозит лицо живое – нет, нет, приятель, чур меня! Я прочь бегу, я снова рад в беспечный кануть маскарад”».
Виталик прочитал и засунул газету в самый малопосещаемый ящик. Шура, Шура, как ты добр! Надо выпить в память о тебе.
И выпил.
Сидя у костра на высоком – левом – берегу Ветлуги с обжигающими кружками черного чая в руках, как-то ночью они расслабленно слушали песню – внизу проплывал плот. Что это было? То ли «Милая моя, солнышко лесное», то ли «Пять ребят о любви поют», и никому из них, нахватанных в поэзии и довольно ехидных, не приходило в голову, что простенькие эти попевки опутывают их своей чувствительностью, замыкают в слезливый и простенький мирок, правда, с окошками – то Окуджава одолжит чем-то настоящим, то «Дон» (видимо, шотландский) с «Магдалиной» освежат, то Новелла Матвеева удивит. Виталик и в солидном возрасте похаживал на «Песни нашего века» – почувствовать единение с залом: «Возьмемся за руки, друзья…» И вослед митяевскому «лето – это маленькая жизнь» выборматывал оправдание другим временам года:
Исчезает с неба летняя просинь,
Птицы раскричались – не скучайте, просят,
За очками у тебя, гляжу, – осень,
Осень – это маленькая жизнь.
Или:
О сю пору повелось – вьюга злится,
Чуть проснешься – а уже пора ложиться,
Славно хоть, что этому недолго длиться,
Зима ведь – очень маленькая жизнь.
Но чуял Виталик, чуял и тогда передозировку ювенильных соплей в бродяжьих душах, бетховенских сонатах и самых умных книгах, хранимых в рюкзаках, и это жутко мешало мазохистски упиваться страданьями под сладкий чай, комариный писк и вкусную «дукатину».
Так вот, Карпаты, турбаза, палатка. Они ее все-таки поставили. Ночь была прохладная, оделись потеплее, для простора выставили рюкзаки наружу – особенно мешал Виталиков, щегольской чешский с каркасом и ярко-желтыми лямками. Покурили и легли.
Рассвет подымался, угрюмый и серый… Кто это? Светлов? Уткин? Не важно – все было не так. Рассвет разгорался хрустален и ясен, на землю счастливую пала роса, и мир ото сна пробуждался прекрасен, готовый явить нам свои чудеса. Взглянуть на чудеса первым выполз из палатки Виталик. И правда, красиво. Зеленые склоны, ущелье, водопадик и проч. – все в наличии. Не хватало только рюкзаков. Со всей амуницией, провизией, фотоаппаратом и деньгами – они исчезли, растаяли, покинули их.
– М-да, – сказал Алик, разбуженный Виталиком, и был, вероятно, прав.
– Ептыть, – сказал Володя, разбуженный Аликом, и был, видимо, не далек от истины.
Полвеком позже все разнообразие охвативших их чувств нашло бы отражение в емком слове «блин», но в те далекие времена этого междометия еще не существовало.
– А в этом что-то есть, – сказал Виталик.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.